Текст книги "Падение дома Ашеров (сборник)"
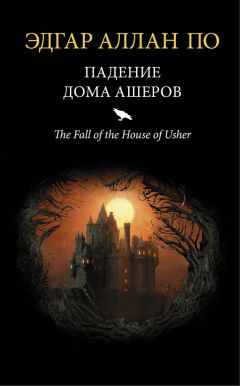
Автор книги: Эдгар По
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Наши книги – книги, что многие годы составляли немаловажную часть умственной жизни больного, – как и следовало предполагать, пребывали в строгом соответствии с его фантастическими понятиями. Мы внимательно перечитывали такие труды, как «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе; «Бельфагор» Макиавелли; «Небо и ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николаса Климма» Хольберга; «Хиромантию» Роберта Флада, Жана д’Эндажине и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город Солнца» Кампанеллы. Любимою книгою Ашера был изданный в восьмую листа томик – «Директориум Инквизиторум», сочинение доминиканца Эймерика де Жиронна; а некоторые строки Помпония Мелы, посвященные древним африканским сатирам и эгипанам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу, напечатанную готическим шрифтом в четвертую листа, – руководство некоей забытой церкви – «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae»[27]27
«Бдения по усопшим согласно хору Магонтинской церкви» (лат.).
[Закрыть].
Я не мог не подумать о странных обрядах, описанных в этой книге, и об ее неизбежном влиянии на больного, когда как-то вечером, отрывисто уведомив меня о том, что леди Маделины не стало, он высказал намерение на две недели (до окончательного погребения) поместить ее тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина, приводимая в обоснование столь необычайного решения, была такова, что я не счел себя вправе оспаривать ее. Он решился на подобный поступок (как он мне объяснил), размышляя об особом заболевании усопшей, о некоторых настоятельных и неотвязных расспросах со стороны ее врачей, а также ввиду того, что фамильное кладбище находилось далеко и в открытом месте. Не стану отрицать, что, припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытал желания противодействовать тому, что почел в крайнем случае лишь безвредною и вполне естественною предосторожностью.
По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоем, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили (и который не отпирали так долго, что наши факелы, полупогасшие в спертом воздухе, не давали нам возможности много рассмотреть), был маленький, сырой, не допускающий решительно никакого света; пролегал он на большой глубине и прямо под тою частью здания, где находилась моя спальня. По-видимому, в далекие феодальные времена он нес худший из видов службы подземелья в донжоне, а впоследствии им пользовались для хранения пороха или какого-либо иного легковоспламеняющегося вещества, ибо часть пола и весь длинный сводчатый коридор, ведущий к склепу, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь также была укреплена подобным образом. От своего огромного веса она, двигаясь на шарнирах, издавала необычайно резкий скрежет.
Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявшие в этой обители ужаса, мы частично отодвинули еще не привинченную крышку гроба и стали взирать на лик лежащей в нем. Поразительное сходство брата с сестрою впервые бросилось мне в глаза; и Ашер, вероятно, угадав мои мысли, неясно произнес несколько слов, из коих я узнал, что они с усопшею – близнецы и что меж ними всегда существовала малопостижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мертвой – ибо мы не могли смотреть на нее без содрогания. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила, как это обычно бывает при всех заболеваниях, по природе сугубо каталептических, легкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительно застывшую улыбку на устах, что так ужасает у мертвецов. Мы завинтили крышку и, заперев железную дверь, с трудом проследовали в немногим менее мрачные апартаменты наверху.
И вот, по прошествии нескольких тяжелых дней, характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения. Его обычная манера держаться исчезла. Его обычные занятия оказались заброшены или забыты. Он бесцельно метался из комнаты в комнату – торопливо, неровным шагом. Бледность его приобрела, если только это возможно, еще более жуткий оттенок – но блеск в глазах его совершенно погас. Ранее голос его иногда звучал глухо, но не теперь; дрожь, трепет, как бы внушенные крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право, мне порою казалось, что его постоянно взволнованный ум пребывает в борении с некою гнетущею тайною и Ашер напрягается, тщась накопить достаточно сил, чтобы ее поведать. А порою мне приходилось относить все это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия, потому что я наблюдал, как долгие часы он с видом глубочайшей поглощенности сидел, уставясь в одну точку, будто прислушиваясь к некоему воображаемому звуку. Неудивительно, что его состояние ужасало и заражало меня. Я чувствовал, что мною медленно и неуловимо овладевает неистовое влияние его фантастических, но властных кошмаров.
Я в полной мере испытал власть подобных ощущений, отходя ко сну на седьмой или восьмой вечер после того, как мы отнесли леди Маделину в склеп. Сон и не приближался к моему ложу – а часы текли и текли. Я старался отогнать рассудком охватившую меня нервозность. Я пытался внушить себе, что многое, если не все, из ощущаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне – изодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали вкруг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб постепенно пронизал меня всего; и, наконец, инкуб беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал ее, приподнялся на подушках и, пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался – не знаю почему, разве что бессознательно – к неким тихим и зыбким звукам, неведомо откуда с большими перерывами доходившим ко мне, когда буря притихала. Обуянный всемогущим чувством ужаса, необъяснимого и непереносимого, я торопливо оделся (ибо чувствовал, что тою ночью мне более не уснуть) и попытался избавиться от моего плачевного состояния, стремительно расхаживая взад и вперед по комнате.
Я успел пройти таким образом лишь несколько раз, когда внимание мое привлекли легкие шаги на смежной лестнице. Я вмиг узнал поступь Ашера. Еще мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошел, держа лампу. Он был, по обыкновению, мертвенно-бледен – но в глазах его сквозил род безумной веселости – во всем его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня – но что угодно было предпочтительнее моего столь долгого одиночества, и я даже приветствовал его приход как несущий мне облегчение.
– И вы не видели? – отрывисто спросил он после того, как несколько мгновений смотрел, уставясь прямо перед собою, – так не видели? Но постойте! увидите. – Сказав это и осторожно прикрыв лампу, он подбежал к одному из окон и рывком распахнул его грозе.
Буйная ярость ворвавшегося вихря чуть не сбила нас с ног. Да, ночь была бурная, но сурово прекрасная, неповторимая по безумной жути и красоте. Видимо, поблизости начался ураган, ибо направление ветра часто и резко менялось; а чрезвычайная плотность туч (они свисали так низко, что давили на башни замка) не мешала нам видеть, как, подобно живым существам, метались они, сталкиваясь, но не уносясь вдаль. Я сказал, что их чрезвычайная плотность не мешала нам это видеть – хотя не проглядывали ни звезды, ни луна, не сверкала и молния. Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всем наземном вблизи от нас, мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что обволакивал дом.
– Вам не надобно – вы не должны это видеть! – дрожа, сказал я Ашеру и с дружеской настойчивостью увел его от окна и усадил. – То, что так взбудоражило вас, всего лишь довольно-таки обычное электрическое явление – а быть может, его породили омерзительные гнилостные миазмы озера. Давайте закроем окно – воздух очень холодный и для вас опасный. Вот один из ваших любимых рыцарских романов. Я буду читать, а вы слушайте – и так мы вдвоем скоротаем эту ужасную ночь.
Старинный том, взятый мною, был «Безрассудное свидание», сочинение сэра Лонселота Кеннинга; но я назвал его любимым романом Ашера скорее в виде невеселой шутки, нежели всерьез; ибо, говоря по правде, немногое нашлось бы в этой неуклюжей, лишенной воображения и многословной книге, способное заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако это была единственная книга под рукой, и я питал смутную надежду, что волнение, охватившее его, может уменьшиться именно от крайней нелепости того, что я собирался читать. Суди я по чрезмерной, взвинченной живости, с какою он слушал или как бы слушал чтение, я мог бы поздравить себя с успехом моего замысла.
Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования, Этельред, после тщетных попыток мирно войти в обиталище пустынника, решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова:
«И Этельред, от природы бесстрашный, а ныне еще более могучий от крепости выпитого вина, не стал долее вести речи с пустынником, упрямым и злобным, но, чувствуя, как льет дождь, и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробоину просунул руку в железной перчатке; он с силою рванул, дернул и начал крушить, так что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатился по всему лесу».
Дочитав эту фразу, я встрепенулся и на мгновение замолк, ибо мне почудилось (хотя я тотчас подумал, что моя возбужденная фантазия меня обманывает) – мне почудилось, будто из какой-то весьма отдаленной части замка до слуха моего дошло нечто, по точному своему подобию могущее быть эхом (но, разумеется, весьма приглушенным и тихим) именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сэр Лонселот. Несомненно, я заметил его благодаря совпадению; ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме все возрастающей грозы тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал:
«Но славный рыцарь Этельред, войдя в дверь, был разгневан и изумлен, не увидев и следа злобного пустынника; вместо него ужасный чешуйчатый дракон с огненным языком восседал, сторожа золотой чертог, вымощенный серебром; а на стене висел щит из сверкающей меди с такою надписью:
Кто внидет сюда, тот в боях знаменит;
Кто дракона убьет, тот добудет щит.
И Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове, а тот пал пред ним и испустил свой чумной дух с воплем столь гнусным и пронзительным, что Этельреду пришлось закрыть себе уши ладонями от мерзкого крика, подобного же никогда ранее не слыхивали».
Тут я снова замолк, теперь уже от потрясения – ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал (хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шел) тихий и несомненно далекий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет – точное соответствие возникшему в моем воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель.
Пусть при этом необычайном совпадении я был обуян тысячею разноречивых чувств, среди которых главенствовали изумление и крайний ужас, я все же сохранил достаточно присутствие духа, дабы не тревожить замечаниями чувствительные нервы моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он расслышал эти звуки; но, вне всякого сомнения, за последние несколько минут он странно переменился. Сидя вначале напротив меня, он постепенно повернул кресло так, чтобы находиться лицом к двери; и поэтому я видел его только в профиль, хотя не мог не заметить, что губы его шевелились, словно он что-то беззвучно шептал. Он уронил голову на грудь – но я знал, что он не спит, ибо глаза его были широко раскрыты и неподвижны. Опровергали эту мысль и его телодвижения – он раскачивался из стороны в сторону, плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив все это, я продолжал читать сочинение сэра Лонселота:
«И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, с коего спали чары, убрал с дороги простертый пред ним труп и отважно направился по серебряному замковому полу к стене, где висел щит; а щит не дожидался его прихода, но пал к его ногам на серебряный пол с оглушительным, устрашающим и звонким лязгом».
Не успел я произнести эти слова, как – словно бы и вправду в тот миг медный щит тяжко обрушился на серебряный пол – я услышал далекий, гулкий, явно приглушенный лязг. Полностью утратив самообладание, я вскочил на ноги; но Ашер по-прежнему не переставал раскачиваться. Я кинулся к его креслу. Он с застывшим, каменным лицом неподвижно смотрел прямо перед собою. Но, как только я положил ему руку на плечо, он содрогнулся с головы до ног; болезненная улыбка затрепетала на его устах; и я увидел, что он забормотал – тихо, торопливо, бессвязно, как бы не сознавая моего присутствия. Низко наклонившись к нему, я наконец понял ужасающий смысл его слов.
– Не слышу? – нет, слышу и слышал. Давно – давно – давно – много минут, много часов, много дней я это слышу – и все же не смел, о, сжальтесь надо мною, несчастным! – я не смел – не смел говорить об этом! Мы положили ее в могилу живою! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Теперь я говорю вам, что слышал ее первое слабое движение в гулком гробу. Я слышал это – много, много дней назад – но я не смел – я не смел говорить! А теперь – сегодня – Этельред – ха! ха! – треск ломаемой двери пустынника, предсмертный крик дракона, лязг щита – не сказать ли лучше: взламывание гроба, скрежет железной двери ее тюрьмы, ее шаги по медному полу склепа? Ох! Куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать меня в поспешности? Не слышу ли я ее поступь на лестнице? Не чую ли тяжкое, странное биение ее сердца? Безумец! – Тут он яростно прянул на ноги и пронзительно закричал, как бы с надсадой извергая душу: – Безумец! Говорят вам, что сейчас она стоит за дверью!
И, точно сверхчеловеческая энергия его слов обладала силою заклинания, огромные старинные створы, на которые он указывал, тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий эбеновый зев. Это было делом грозового порыва – но за дверьми и в самом деле высилась повитая саваном фигура леди Маделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение, следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на ее исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, – а затем с тихим стенанием пала на грудь брата и в жестоких, теперь уж последних предсмертных схватках повлекла его на пол, труп и жертву предвиденных им ужасов.
Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние; ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна, и яркие лучи ее пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась – дохнул бешеный ураган – передо мною разом возник весь лунный диск – голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены – раздался долгий, бурливый, оглушительный звук, подобный голосу тысячи водных потоков, и глубокое тусклое озеро у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками Дома Ашеров.
1839
Черт на колокольне[28]28
© Перевод. В. Рогов, наследник, 2016
[Закрыть]
Который час?
Известное выражение
* * *
Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является – или, увы, являлся – голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногие из моих читателей в нем побывали. Поэтому ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно, если я сообщу о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить общественное сочувствие к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно произошедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что мой добровольный долг будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, которыми всегда должен отличаться тот, кто претендует на звание историка.
Пользуясь помощью летописей купно с эпитафиями и медалями, я могу утверждать о Школькофремене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает в настоящее время.
Однако замечу, сокрушаясь, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.
С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений об этом щекотливом вопросе – из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны – не могу выбрать ни одного, которое можно бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках заслуживает предпочтения. Она гласит: «Лексема «фремен» является этимологическим дублетом слова «ремень», что связывается с процветанием свиноводства в городе, а вследствие этого и производством изделий из свиной кожи». Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculae de Rebus Praeterveteris»[29]29
Небольшие речи о давнем прошлом (лат.).
[Закрыть], сочинения Брюхенгромма. Также смотри Вандерстервен. De Derivationibus[30]30
Об образованиях (лат.).
[Закрыть] (стр. 27 – 5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где тоже можно ознакомиться с постраничными примечаниями Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюккена.
Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, как было сказано выше, не может быть сомнения, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может заметить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, – около четверти мили в окружности, – и со всех сторон его обступают отлогие холмы, перейти которые еще никто не отважился. Поэтому все горожане с достаточным основанием считают, что по ту сторону холмов вообще ничего нет.
По краям долины (совершенно ровной и полностью вымощенной плоскими кафлями) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем – идущая по кругу дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак нельзя отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков – красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; над первыми этажами, неуклюже громоздясь, выступают вторые. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши обильно разубраны черепицей с длинными завитками. Деревянные части – темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета – часы и капустный кочан. Но вырезывают они их отлично, и притом с поразительной изобретательностью – везде, где только найдется место для резца.
Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратными кафлями; стулья и столы сделаны из дерева, похожего на черное, с тонкими изогнутыми ножками. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются по середине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.
Очаги в домах большие и глубокие, с изогнутыми таганами устрашающего вида. Над вечно горящим огнем – громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает добрая хозяйка дома. Обычно это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и оранжевыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки – тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли – из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее маленькие тяжелые голландские часы, в правой – половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетицией.
Сами мальчики – их трое – присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные кафтаны с крупными перламутровыми пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке – маленькие пузатые часы. Затянутся они – и посмотрят на часы, посмотрят – и затянутся. Тучная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетицией, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.
У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, – так что об этом можно не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько крупнее и дыма он пускает больше. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, – а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и по крайней мере один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.
Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши – все очень маленькие, кругленькие, масленые и смышленые человечки с большими, как блюдца, глазами и толстыми двойными подбородками, а кафтаны у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо крупнее, нежели у простых обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:
«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;
«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и «Что мы будем сидеть возле наших часов и нашей капусты».
Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города – знаменитые часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.
У часов семь циферблатов – по одному на каждую из сторон колокольни, – так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный звонарь, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность – совершеннейший вид синекуры, ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случалось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. С глубочайшей древности, упоминания о которой сохранились в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!» – все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.
Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского звонаря совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с чувством почтения. Фалды его кафтана гораздо длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.
Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!
Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди»; и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на кряже холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на феномен, не отрывая второго глаза от башенных часов.
Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спустился с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый большой ломака из всех, каких когда-либо видели в Школькофремене. Цветом лица он напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза – как горошины, и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакены и усы скрывали остальную часть его лица. Голова была не покрыта, волосы аккуратно завернуты в папильотки. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. С одной стороны он прижимал к себе локтем громадную шляпу, с другой – скрипку, почти в пять раз больше его самого. В левой руке у него была золотая табакерка, из которой он, сбегая с прискоком с холма и выделывая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!
Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и, когда он, выделывая курбеты, влетел в городок, тупые носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь нагло свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот щеголеватый негодяй возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счет.
Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй – до полудня оставалось всего полминуты – врезался прямо в их гущу: тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пируэт и «па-де-зефир», вспорхнул прямо на башню, где пораженный звонарь сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человечек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь по лой скрипки со столь толстым звонарем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.
Кто знает, к какому отчаянному акту мести побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Видимо, в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.
– Раз! – сказали часы.
– Расс! – отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!» – сказали его часы; «расс!» – сказали часы его фроу; и «расс!» – сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетицией на хвостах у кошки и у свиньи.
– Два! – продолжал большой колокол; и
– Тфа! – повторили все за ними.
– Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! – сказал колокол.
– Три! Тшетире! Пиать! Тшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять! – ответили остальные.
– Одиннадцать! – сказал большой.
– Отиннатсать! – подтвердили маленькие.
– Двенадцать! – сказал колокол.
– Тфенатсать! – согласились все, удовлетворенно понизив голос.
– Унд тфенатсать тшасофф и есть! – сказали все старички, поднимая часы.
Но большой колокол еще с ними не покончил.
– Тринадцать! – сказал он.
– Дер Тейфель! – ахнули старички, бледнея, роняя трубки и снимая правые ноги с левых колен.
– Дер Тейфель! – стонали они. – «Дряннатсать! Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!»
К чему попытки описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.
– Што с моим шифотом? – взревели все мальчики. – Я целый тшас колотаю!
– Што с моей капустой? – визжали все фроу. – Она за тшас вся расфарилась!
– Што с моей трупкой? – бранились все старички. – Дондер унд блитцен; она целый тшас, как покасла! – И в гневе, они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.
В то же время все капустные кочаны покраснели, и, казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бесноватые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совались, визжали и верещали, вопили и пищали, кидались людям в лицо и забирались под юбки, – словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какое только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь звонаре. В зубах злодей держал веревку от колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, и страшно, стервец, рисовался, играя «Джуди О’Флан наган и Пэдди О’Рафферти».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































