Читать книгу "Падение дома Ашеров (сборник)"
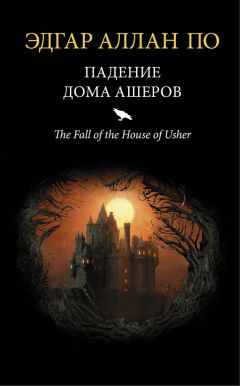
Автор книги: Эдгар По
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Эдгар Аллан По
Падение дома Ашеров (сборник)
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Метценгерштейн[1]1
© Перевод. В. Неделин, наследники, 2002
[Закрыть]
Ужас и рок преследовали человека извечно. Зачем же в таком случае уточнять, когда именно сбылось то пророчество, к которому я обращаюсь? Достаточно будет сказать, что в ту пору, о которой пойдет речь, в самых недрах Венгрии еще жива и крепка была вера в откровения и таинства учения о переселении душ. О самих этих откровениях и таинствах, заслуживают ли они доверия или ложны, умолчу. Полагаю, однако, что недоверчивость наша (как говаривал Лабрюйер обо всех наших несчастьях, вместе взятых) в значительной мере «vient de ne pouvoir être seule».[3]3
Проистекает от того, что мы не умеем быть одни (фр.).
Учение о метампсихозе решительно поддерживает Мерсье в «L'an deux mille quatre cent quarante», а И. Дизраэли говорит, что «нет ни одной другой системы, столь же простой и восприятию которой наше сознание противилось бы так же слабо». Говорят, что ревностным поборником идеи метампсихоза был и полковник Итен Аллен, один из «ребят с Зеленой горы». – Примеч. авт.
[Закрыть]
Но в некоторых своих представлениях венгерская мистика придерживалась крайностей, почти уже абсурдных. Они, венгры, весьма существенно отличались от своих властителей с востока. И они, например, утверждали: «Душа (привожу дословно сказанное одним умнейшим и очень глубоким парижанином) ne demeure qu’une seule fois dans un corps sensible: au reste – un cheval, un chien, un homme même, n’est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»[4]4
Лишь один раз вселяется в живое пристанище, будь то лошадь, собака, даже человек, впрочем, разница между ними не так уж велика (фр.).
[Закрыть].
Распря между домами Берлифитцингов и Метценгерштейнов исчисляла свою давность веками. Никогда еще два рода столь же именитых не враждовали так люто и непримиримо. Первопричину этой вражды искать, кажется, следовало в словах одного древнего прорицания: «Страшен будет закат высокого имени, когда, подобно всаднику над конем, смертность Метценгерштейна восторжествует над бессмертием Берлифитцинга».
Конечно, сами по себе слова эти маловразумительны, если не бессмысленны вообще. Но ведь событиям столь же бурным случалось разыгрываться, и притом еще на нашей памяти, и от причин, куда более ничтожных. Кроме же всего прочего смежность имений порождала раздоры, отражавшиеся и на государственной политике. Более того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг могли с бойниц своей твердыни смотреть прямо в окна дворца Метценгерштейн. Подобное же лицезрение неслыханной у обычных феодалов роскоши меньше всего могло способствовать умиротворению менее родовитых и менее богатых Берлифитцингов. Стоит ли удивляться, что при всей нелепости старого предсказания из-за него все же разгорелась неугасимая вражда между двумя родами, и без того всячески подстрекаемыми застарелым соперничеством и ненавистью. Пророчество это, если принимать его хоть сколько-нибудь всерьез, казалось залогом конечного торжества дома и так более могущественного, и, само собой, при мысли о нем слабейший и менее влиятельный бесновался все более злобно.
Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей его высокородности, был к тому времени, о котором идет наш рассказ, немощным, совершенно впавшим в детство старцем, не примечательным ровно ничем, кроме безудержной, закоснелой ненависти к каждому из враждебного семейства, да разве тем еще, что был столь завзятым лошадником и так помешан на охоте, что при всей его дряхлости, преклонном возрасте и старческом слабоумии у него, бывало, что ни день, то снова лов.
Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще даже не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым. Мать, леди Мари, ненадолго пережила супруга. Фредерику в ту пору шел восемнадцатый год. В городах восемнадцать лет – еще не возраст; но в дремучей глуши, в таких царственных дебрях, как их старое княжество, каждый взмах маятника куда полновесней.
В силу особых условий, оговоренных в духовной отцом, юный барон вступал во владение всем своим несметным богатством сразу же после кончины последнего. До него мало кому из венгерской знати доставались такие угодья. Замкам его не было счета. Но все их затмевал своей роскошью и грандиозностью размеров дворец Метценгерштейн. Угодья его были немерены, и одна только граница дворцового парка тянулась целые пятьдесят миль, прежде чем замкнуться.
После вступления во владение таким баснословным состоянием господина столь юного и личности столь заметной недолго пришлось гадать насчет того, как он проявит себя. И верно, не прошло и трех дней, как наследник переиродил самого царя Ирода и положительно посрамил расчеты самых загрубелых из своих видавших виды холопов. Гнусные бесчинства, ужасающее вероломство, неслыханные расправы очень скоро убедили его трепещущих вассалов, что никаким раболепством его не умилостивишь, а совести от него и не жди, и, стало быть, не может быть ни малейшей уверенности, что не попадешь в безжалостные когти местного Калигулы. На четвертую ночь запылали конюшни в замке Берлифитцинг, и стоустая молва по всей округе прибавила к страшному и без того списку преступлений и бесчинств барона еще и поджог.
Но пока длился переполох, поднятый этим несчастьем, сам юный вельможа сидел, видимо, весь уйдя в свои думы, в огромном, пустынном верхнем зале дворца Метценгерштейн. Бесценные, хотя и выцветшие от времени гобелены, хмуро смотревшие со стен, запечатлели темные, величественные лики доброй тысячи славных предков. Здесь прелаты в горностаевых мантиях и епископских митрах по-родственному держали совет с всесильным временщиком и сувереном о том, как не давать воли очередному королю, или именем папского всемогущества отражали скипетр сатанинской власти. Там высокие темные фигуры князей Метценгерштейн на могучих боевых конях, скачущих по телам поверженных врагов, нагоняли своей злобной выразительностью страх на человека с самыми крепкими нервами; а здесь обольстительные фигуры дам невозвратных дней лебедями проплывали в хороводе какого-то неземного танца, и его напев, казалось, так и звучит в ушах.
Но пока барон прислушивался или старался прислушаться к оглушительному гаму в конюшнях Берлифитцинга или, может быть, замышлял уже какое-нибудь бесчинство поновей и еще отчаянней, взгляд его невзначай обратился к гобелену с изображением огромного коня диковинной масти, принадлежавшего некогда сарацинскому предку враждебного рода. Конь стоял на переднем плане, замерев, как статуя, а чуть поодаль умирал его хозяин, заколотый кинжалом одного из Метценгерштейнов.
Когда Фредерик сообразил, наконец, на что невольно, сам собой обратился его рассеянный взгляд, губы его исказила дьявольская гримаса. Но оцепенение не прошло. Напротив, он и сам не мог понять, что за неодолимая тревога застилает, словно пеленой, все, что он видит и слышит. И нелегко ему было примирить свои дремотные, бессвязные мысли с сознанием, что все это творится с ним не во сне, а наяву. Чем больше присматривался он к этой сцене, тем невероятней казалось, что ему вообще удастся оторвать от нее глаза – так велика была притягательная сила картины. Но шум за стенами дворца вдруг стал еще сильней, и когда он с нечеловеческим усилием заставил себя оторваться от картины, то увидел багровые отблески, которые горящие конюшни отбрасывали в окна дворцового зала.
Но, отвлекшись было на миг, его завороженный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу, голова коня-великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он, словно скорбя, склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону. Глаза, которых прежде не было видно, смотрели теперь настойчиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы.
Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал, отбросил резкую, точно очерченную тень барона прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного, ликующего убийцы, сразившего сарацина Берлифитцинга.
Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбиваясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти.
– Чья лошадь? Откуда? – спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним – живой двойник загадочного скакуна в гобеленовом зале.
– Она ваша, господин, – отвечал один из конюхов, – во всяком случае, другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке Берлифитцинг – вся взмыленная, словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скакунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего, и это совершенно непонятно – ведь он чудом уцелел от огня.
– Отчетливо видны еще и буквы «В. Ф. Б.», выжженные на лбу, – вмешался второй конюх, – я решил, что они безусловно обозначают имя: «Вильгельм фон Берлифитцинг», но все в замке в один голос уверяют, что лошадь не их.
– Весьма странно! – заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. – А лошадь действительно великолепна, чудо что за конь! Хотя, как ты правильно заметил, норовиста, с такой шутки плохи; что ж, ладно, – беру, – прибавил он, помолчав, – такому ли наезднику, как Фредерик Метценгерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга!
– Вы ошибаетесь, господин; лошадь, как мы, помнится, уже докладывали, не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не допустили бы такой оплошности, не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства.
– Да, конечно, – сухо обронил барон, и в тот же самый миг к нему, весь красный от волнения, подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куска гобелена. И принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова.
В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царила полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой; на лице его появилось выражение злобной решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки.
– Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берлифитцинга? – спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобщил к своей собственности, уже вели, беснующегося и рвущегося, по длинной аллее от дворца к конюшням.
– Нет! – отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. – Умер? Да что вы говорите!
– Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по-моему, не самая печальная весть.
Мимолетная улыбка скользнула по губам барона.
– И как же он умер?
– Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда и сам сгорел.
– В са-мом де-ле! – протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки.
– В самом деле, – повторил вассал.
– Прискорбно! – сказал юноша с полным равнодушием и не спеша повернул во дворец.
С того самого дня беспутного юного барона Фредерика фон Метценгерштейна словно подменили. Правда, его теперешний образ жизни вызывал заметное разочарование многих хитроумных маменек, но еще меньше его новые замашки вязались с понятиями аристократических соседей. Он не показывался за пределами своих владений, и на всем белом свете не было у него теперь ни друга, ни приятеля, если, правда, не считать той непонятной, неукротимой огненно-рыжей лошади, на которой он теперь разъезжал постоянно и которая, единственная, по какому-то загадочному праву именовалась его другом.
Однако еще долгое время бесчисленные приглашения от соседей сыпались ежедневно. «Не окажет ли барон нашему празднику честь своим посещением?…», «Не соизволит ли барон принять участие в охоте на кабана?». «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет», – был высокомерный и краткий ответ.
Для заносчивой знати эти бесконечные оскорбления были нестерпимы. Приглашения потеряли сердечность, становились все реже, а со временем прекратились совсем. По слухам, вдова злополучного графа Берлифитцинга высказала даже уверенность, что «барон, видимо, отсиживается дома, когда у него нет к тому ни малейшей охоты, так как считает общество равных ниже своего достоинства; и ездит верхом, когда ему совсем не до езды, так как предпочитает водить компанию с лошадью». Это, разумеется, всего лишь нелепый образчик вошедшего в семейный обычай злословия, и только то и доказывает, какой бессмыслицей могут обернуться наши слова, когда нам неймется высказаться повыразительней.
Люди же более снисходительные объясняли внезапную перемену в поведении молодого вельможи естественным горем безвременно осиротевшего сына, забыв, однако, что его зверства и распутство начались чуть ли не сразу же после этой утраты. Были, конечно, и такие, кто высказывал, не обинуясь, мысль о самомнении и надменности. А были еще и такие – среди них не мешает упомянуть домашнего врача Метценгерштейнов, – кто с полным убеждением говорил о черной меланхолии и нездоровой наследственности; среди черни же в ходу были неясные догадки еще более нелестного толка.
Действительно, ни с чем не сообразное пристрастие барона к его новому коню, пристрастие, которое словно бы переходило уже в одержимость от каждого нового проявления дикости и дьявольской свирепости животного, стало в конце концов представляться людям благоразумным каким-то чудовищным и совершенно противоестественным извращением. В полуденный зной или в глухую ночную пору, здоровый ли, больной, при ясной погоде или в бурю, юный Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу этой огромной лошади, чья безудержная смелость была так под стать его нраву.
Были также обстоятельства, которые вкупе с недавними событиями придавали этой мании наездника и невиданной мощи коня какой-то мистический, зловещий смысл. Замерив аккуратнейшим образом скачок лошади, установили, что действительная его длина превосходит самые невероятные предположения людей с самым необузданным воображением настолько, что разница эта просто не укладывается в уме. Да к тому же еще барон держал коня, так и не дав ему ни имени, ни прозвища, а ведь все его лошади до единой носили каждая свою и всегда меткую кличку. Конюшня ему тоже была отведена особая, поодаль от общих; а что же касается ухода за конем, то ведь никто, кроме самого хозяина, не рискнул бы не то что подступиться к коню, а хотя бы войти к нему в станок, за ограду. Не осталось без внимания также и то обстоятельство, что перенять-то его, когда он вырывался с пожарища у Берлифитцинга, трое конюхов переняли, обратав его арканом и цепною уздою, но ни один из них не мог сказать, не покривив душой, что во время отчаянной схватки или после ему удалось хотя бы тронуть зверя. Не стоит приводить в доказательство поразительного ума, проявленного благородным и неприступным животным, примеры, тешившие праздное любопытство. Но были и такие подробности, от которых становилось не по себе самым отъявленным скептикам и людям, которых ничем не проймешь; и рассказывали, будто временами лошадь начинала бить землю копытом с такой зловещей внушительностью, что толпа зевак, собравшихся вокруг поглазеть, в ужасе кидалась прочь, – будто тогда и сам юный Метценгерштейн бледнел и шарахался от быстрого, пытливого взгляда ее человечьих глаз.
Однако из всей челяди барона не было никого, кто усомнился бы в искренности восхищения молодого вельможи бешеным нравом диковинного коня, – таких не водилось, разве что убогий уродец паж, служивший общим посмешищем и мнения которого никто бы и слушать не стал. Он же (если его догадки заслуживают упоминания хотя бы мимоходом) имел наглость утверждать, будто хозяин, хотя это и не всякому заметно со стороны, каждый раз, вскакивая в седло, весь дрожит от безотчетного ужаса, а после обычной долгой проскачки возвращается каждый раз с лицом, перекошенным от злобного ликования.
Однажды, ненастной ночью, пробудившись от глубокого сна, Метценгерштейн с упорством маньяка вышел из спальни и, стремительно вскочив в седло, поскакал в дремучую лесную чащу. Это было делом настолько привычным, что никто и не обратил на отъезд барона особого внимания, но домочадцы всполошились, когда через несколько часов, в его отсутствие высокие, могучие зубчатые стены твердыни Метценгерштейнов вдруг начали давать трещины и рушиться до основания под напором могучей лавины синевато-багрового огня, справиться с которым нечего было и думать.
Так как пожар заметили, когда пламя успело разгореться уже настолько, что отстоять от огня хотя бы малую часть здания было уже делом явно безнадежным, то пораженным соседям оставалось лишь безучастно стоять кругом в немом, если не сказать благоговейном изумлении. Но вскоре новое страшное явление заставило все это сборище тут же забыть о пожаре, засвидетельствовав тем самым, насколько увлекательней для толпы вид человеческих страданий, чем самые захватывающие зрелища разгула стихий.
В дальнем конце длинной аллеи вековых дубов, которая вела из леса к парадному подъезду дворца Метценгерштейн, показался скакун, мчащий всадника с непокрытой головой и в растерзанной одежде таким бешеным галопом, что за ним не угнаться бы и самому Князю Тьмы.
Лошадь несла, уже явно не слушаясь всадника. Искаженное мукой лицо, сведенное судорогой тело говорили о нечеловеческом напряжении всех сил; но кроме одного-единственного короткого вскрика ни звука не сорвалось с истерзанных, искусанных в бессильной ярости губ. Миг – и громкий, настойчивый перестук копыт покрыл рев пламени и завывания ветра; еще мгновение – и скакун единым махом пролетел в ворота и через ров, мелькнул по готовой вот-вот рухнуть дворцовой лестнице и сгинул вместе с всадником в огненном смерче.
И сразу же унялась ярость огненной бури, мало-помалу все стихло. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.
1832
Рукопись, найденная в бутылке[5]5
© Перевод. М. Беккер, наследники, 2002
[Закрыть]
Тому, кому осталось жить не более мгновенья, Уж больше нечего терять.
Филипп Кино. Атис
Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов – не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века – я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принипами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы ignes fatui[6]6
Блуждающие огни (лат.).
[Закрыть] суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.
Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, – словно сам дьявол в меня вселился, – я в 18… году выехал из порта Батавия, что на богатом и густонаселенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего плавание вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов, а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало остойчивость судна.
Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.
Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фадомов. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частью малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз – признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.
Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.
Каким чудом избежал я гибели – объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а, напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, – в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, – наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень – насколько мы могли судить – наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомою силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.
Напрасно ожидали мы наступления шестого дня – для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объяты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимою силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был объят немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.
Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! – кричал он мне прямо в ухо, – о, всемогущий Боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростью море, корабль этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только нос корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновение он застыл на головокружительной высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и – обрушился вниз.
В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.
Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно благодаря последовавшей затем суматохе, никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре получил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обличьем. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.









































