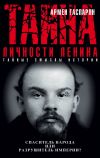Текст книги "Заговор профессоров. От Ленина до Брежнева"
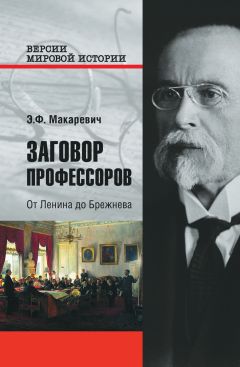
Автор книги: Эдуард Макаревич
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
За прошедшие годы в публикациях В. Измозика, А. Плеханова, Ю. Щетинова, В. Черняева появились новые доказательства деятельности Таганцева и «ПБО». Ю. Щетинов опубликовал выдержки из доклада полковника Г. Э. Эльвенгрена, представителя Бориса Савинкова в Финляндии в 1921 году, касающиеся организации Таганцева: «Организация эта объединяла в себе (или, вернее, координировала) действия многочисленных (мне известно девять), совершенно отдельных самостоятельных групп (организаций), которые, каждая сама по себе, готовились к перевороту»[70]70
Щетинов Ю. За кулисами Кронштадтского восстания // Родина. 1995. № 8. С. 69–70.
[Закрыть]. В. Бортневский, потом и В. Измозик приводят письмо, адресованное генералу П. Врангелю, бывшему командующему белыми силами Юга России, от профессора Д. Гримма, до 1911 года ректора Петербургского университета, а с 1921 года – редактора газеты «Новая русская жизнь» в Финляндии, в которой печатались профессора из организации Таганцева. Вот что пишет Д. Гримм: «Был арестован Таганцев, игравший в последние годы видную роль в уцелевших в Петрограде активистских организациях и связанный, между прочим, с артиллерийским офицером Германом, который служил в финском Генеральном штабе курьером… Герман был убит при переходе финской границы, причем у него были найдены письма и прокламации… и подполковник Шведов, и лейтенант Лебедев попали в Петрограде в засаду и погибли… оба должны были быть не просто курьерами, а руководителями, и заменить их сейчас некем… Само сообщение… все же устанавливает ряд фактов, знакомство с которыми свидетельствует о том, что некоторые из участников заговора дали весьма полные показания и раскрыли многие подробности… в списке расстрелянных значится целый ряд лиц, несомненно принадлежавших к существовавшим в Петрограде активистским организациям»[71]71
Бортневский В. Г. Загадка смерти генерала Врангеля. Неизвестные материалы по истории русской эмиграции 1920-х годов // Библиотека журнала «Новый часовой». СПбГУ. 1966; Измозик В. С. Петроградская боевая организация (ПБО) – чекистский миф или реальность? Исторические чтения на Лубянке: 1997–2008. М., 2008. С. 140–148.
[Закрыть]. Здесь Д. Гримм, характеризуя организацию Таганцева, впервые называет ее активистской.
Да, это был тот самый новый тип организации, впервые открытый Таганцевым. Через тридцать лет профессор В. Д. Поремский, один из лидеров эмигрантского «Народно-трудового союза», опишет подобного рода организации – самые неуловимые и неуязвимые, назвав их организациями «молекулярного» типа. Именно такие организации дают повод некоторым исследователям делать вывод, что они не существовали.
А на самого Агранова деятельность «Петроградской боевой организации», ее размах, формы и принципы работы, которые выявило следствие, тогда произвели огромное впечатление. Он поразился разветвленным и взаимосвязанным контактам разных людей и групп, организаций и блоков с неким комитетом во главе и со своими людьми во многих советских учреждениях. Он понимал и то, что следствие так и не выявило большую часть сочувствующих и сопричастных. Мало того, его поразила способность интеллигенции – профессуры и офицерства – создавать подобные тайные и в то же время открытые организации.
«Да, время масонских лож, наверное, проходит», – как-то сказал он.
4. Бег профессора Устрялова
Кто сказал: «Коммунисты, назад!»
Был такой советский поэт Александр Межиров. В глазах партийной элиты и просвещенной публики он прославился своим стихотворением «Коммунисты, вперед!», сочиненным в 1947 году, через два года после Великой Отечественной войны. В нем он смог уложить историю советской России, выросшей до Советского Союза, в историю партии. Уточним, партия эта называлась большевистской.
Вот как это сделано поэтом:
Год двадцатый.
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны. Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб, —
И не встать под огнём у шестого кола.
Полк
Шинели
На проволоку побросал, —
Но стучит над шинельным сукном пулемёт.
И тогда
еле слышно
сказал
комиссар:
– Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
И пробило однажды
Плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли
Головные бригады ко дну,
Под волну,
На морозной заре в декабре.
И когда
Не хватало
«…Предложенных мер…»
И шкафы с чертежами грузили на плот,
Еле слышно
сказал
молодой
инженер:
– Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лёд.
И тогда
еле слышно
сказал
командир:
– Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка…
Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного – невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца:
– Коммунисты, вперёд! Коммунисты, вперёд!
Получился сверкающий шедевр коммунистической поэзии. Цеплял он точным словом, ритмом, стреляющим рефреном «Коммунисты, вперед!». Хорошо запоминались эти строки.
Но время в союзе с пропагандой выхолостило их суть, оторвав от реальной истории, измусолив в текстах и лозунгах на транспарантах и плакатах.
Народ усмехался, встречаясь с этой фразой, ставшей трескучей и гладкой, как занумерованная доска, уже и не воспринимаемой от избытка повторения: «Коммунисты, вперед!»
И когда пожаловали перестройка и потом реформы от новых властителей, то журналисты взялись дружно штамповать статьи, кричащие заголовками «Коммунисты, назад!».
«Как остро, неожиданно, в лоб!» – говорил обыватель, восхищаясь смелостью перестроившихся «перьев». И мстительно повторял: «Коммунисты, назад!»
Но, оказывается, плохо знаем классиков политической мысли. Однажды открытый на 409-й странице 45-й том из собрания сочинений Владимира Ильича Ленина зачеркнул восхищение журналистской публикой. На этой странице у Ленина такие строки: коммунисты – назад! Точнее: «Ответственные коммунисты из передних рядов назад!»
А кто вперед? «Простой приказчик – вперед!»
Коммунистическую фразу «Коммунисты, вперед!» диалектик Ленин размазал в коммунистической стране, заменив образ коммуниста на образы приказчиков, торговцев, управленцев.
Это ведь у него, у Ленина, в материалах к XI съезду Российской коммунистической партии (большевиков), там, где он набрасывал план политического отчета, 3 (В) пунктом идут эти «контрреволюционные» строки. А писал он это в марте 1922 года, когда большевики уже победили в Гражданской войне, подавили антибольшевистские восстания в Кронштадте и Тамбовской губернии, и перешли к новой экономической политике.
А дальше, после этих «контрреволюционных» слов «коммунисты, назад!», раздраженный тем, что не получается задуманное, он пишет резко, нервно: «Сладенькое комвранье (тошнит) и классовая правда Устрялова».
Кто же этот Устрялов, к которому обращается Ленин, – Ленин, сомневающийся в способности большевиков удержать власть, и требующий заменить ответственных коммунистов из первых рядов на торговцев и управленцев, чтобы сохранить советскую республику?
Если ответить просто, то Устрялов – это профессор, одно время руководивший пресс-службой Верховного правителя России, «белого» адмирала Колчака. А если пытаться понять этого человека, понять, почему для Ленина он вдруг стал авторитетом, то тогда следует начать с одной особенности Устрялова, проявлявшейся в течение всей жизни.
Настоящий профессор всегда отступает под флагом
Особенность эта – чисто профессорская и, пожалуй, диалектического ума. Глядя на жизненный путь Устрялова, вдруг ловишь себя на мысли, что он постоянно отступал. И отступление это было как постоянный бег. В мае 1918 года он бежит из Москвы в Пермь, уже в декабре – из Перми в Омск, в декабре 1919 года – из Омска в Иркутск, потом – из Иркутска в Читу, из Читы в Харбин. И, наконец, в 1935-м он снова бежит, и в Москву. Семнадцатилетнее кольцо побегов замкнулось.
Но вот в чем дело. Бегал он всегда под флагом и под лозунгом. То есть отступал всегда с развернутым знаменем и с лозунгом, объясняющим смысл отступления или поражения. Личность отступала как армия суверенной страны.
А что такое жизнь, как не череда постоянных отступлений и наступлений. Отступлений – от провозглашенных идей, от нравственной или политической мечты, для того чтобы разобраться с мыслями, собраться с силами. Наступлений – на собственные грабли, наступлений по прямым и обходным дорогам к цели, всегда уходящий за горизонт. Но всегда объяснимой. А ведь известно, профессорские объяснения раздражают мир. Но стремление объясниться для профессора важнее самой цели. Жизнь Устрялова – тому пример.
Из Москвы – в Пермь
Первый раз он побежал из Москвы. Бежал под флагом свободы от партийного диктата и большевистского произвола. Этот диктат исходил от родной партии конституционных демократов – кадетов, членом которой он состоял. Да не просто состоял, а руководил калужской партийной организацией. И это было объяснимо – сам-то он был из калужских дворян.
Прогневил он партию тем, что на ее съезде в мае 1918 года шокировал кадетов своим заявлением о том, что односторонняя ориентация на страны Антанты не рациональна, лучше политика «открытых рук» и мира с Германией.
Что тут началось! Ему кричали: а большевики-то тоже за мир с Германией. Но им-то, понятно, власть надо сохранить. А нам, кадетам, на что это?! Зарвался Устрялов.
Как он ни пытался своими страстными монологами достучаться до однопартийцев – ничего не вышло. А ведь как убеждал!
– Мы, хотя и партия либералов, но народ нас не приемлет. Ни одного голоса на выборах в Учредительное собрание не получила партия от крестьян. Надо менять политику, хватит воевать, народ ждет мира, пусть даже с Германией.
Не вняли партийцы-либералы речам Устрялова. И устроили ему хорошую взбучку. Кончилось это изоляцией калужской делегации, лидером которой он был. А значит, и его изоляцией. Дело кислое, с партией – конфликт, свои смотрят косо.
А тут большевики уже навострили кулак диктатуры, чтобы прихлопнуть эту партию, после разгона Учредительного собрания в январе 1918 года. А Устрялов, хотя и подвергшийся обструкции, известен был не только лекциями в Московском университете, а более деятельностью в кадетской партии, и прежде всего выступлениями с трибуны и в печати, – блещущими свежестью, метафорами, и при этом прошибающими логикой, и с трибуны, и в печати. Когда интересовались партией, интересовались прежде Устряловым.
И тогда чутье ему подсказало – бежать! Но куда? Да хотя бы в Пермь. Город на Каме, в центре России: политические страсти вихрятся умеренно, с едой – хорошо, а университет отличный, библиотека стоящая. Чем не благо для профессора, к званию которого он так стремился?
И он едет в Пермь, едет вместе со своей верной женой Наташей. И на вопрос людей своего круга, что его забросило в Пермь, он готов смело ответить: жажда свободы от партийного диктата и большевистской диктатуры.
Из Перми – в Омск
В Перми он недолго прожил. С мая 1918 года мятежный Чехословацкий корпус крушил советскую власть в приволжских и уральских городах, прокладывая путь колчаковскому войску. В декабре хозяевами в Перми уже были колчаковцы. На место власти красной пришла белая.
Куда же податься приват-доценту, публицисту, оратору, да еще одному из лидеров кадетов? Ну не отсиживаться же на кафедре Пермского университета? Не тот масштаб. Да, оказывается, и есть нечего в Перми. В столицу, в столицу колчаковского края – в Омск спешит Устрялов. И с ним верная супруга Наташа. Весь скарб – пять чемоданов, по большей части с книгами.
Февральский Омск встретил вьюгой. Вот она, Сибирь. Не ластится, норов показывает, в теплую комнату толкает. А где она, теплая? Хороший друг Ключников выручил. Предложил комнату родственника, надолго уехавшего в Томск. И всего за 350 рублей. Весьма недорого по тем временам.
Ключников уже освоился в Совете министров у Колчака. Он и с работой помог – выхлопотал для Устрялова должность юрисконсульта при Управлении делами «верховного правителя», то есть Колчака. Но с перспективой.
Жизнь налаживалась, Колчак при силе, а на душе неспокойно. Иначе откуда в дневнике[72]72
Записи из дневника Н. В. Устрялова цитируются по: Устрялов Н. В. Белый Омск. Дневник колчаковца // Альманах «Русское прошлое». 1991. № 2. СПб.: Изд. советско-американского СП «Свелен».
[Закрыть] такие строки, помеченные 9 февраля 1919 года: «Сам по себе Омск занятен, особенно по населению. Сплошь типично столичные физиономии, столичное оживление. На каждом шагу – или бывшие люди царских времен, или падучие знаменитости революционной эпохи. И грустно становится, когда смотришь на них, заброшенных злою судьбой в это сибирское захолустье: – нет, увы, это не новая Россия, это не будущее. Это – отживший старый мир, и ему не торжествовать победу. Грустно. Это не авангард обновленной государственности, это арьергард уходящего в вечность прошлого. Нужно побывать в обеденные часы в зале ресторана “Россия”, чтобы почувствовать это живо и осязательно…»
На неделе раза три-четыре в «России», когда с женой, больше один или в компанейском кругу. А разговоры в ресторанном сообществе все о России, о русском бунте в видении Пушкина, о наследниках Петра и русской монархии, ушедшей в мир иной, и о будущем, конечно. Что от него ждать? Но и прошлое не оставляет, держит как ноющая рана. И зал стихает, когда ресторанная певичка поет, да еще на удивление с искренним чувством:
По обычаю чисто русскому,
По обычаю по московскому,
Жить не можем мы без шампанского,
И без пения, без цыганского.
Но в Омске нет голода, здесь не думаешь о еде, потому что она прекрасная – «гуси исключительно жирные, каждый день молочница приносит по крынке молока, сахара вволю – понятно, что пермское истощение как рукой сняло». Это запись в дневнике от 4 марта 1919 года.
А вот и новость приспела. Назначен директором правительственного пресс-бюро, правда, которое нужно еще только создать. Помещение нашли быстро, дом недалеко от Управления делами Верховного правителя. Теперь Устрялов ищет людей в штат. Но одновременно пишет план пропагандистской работы, заказывает брошюры, плакаты, листовки. За собой оставляет сочинение острых памфлетов. Радует новый сотрудник, некто Деминов, – предлагает оригинальные приемы для разложения большевистских армий. В общем, выдвинутые цели заставляют приходить на службу к восьми утра.
Вот так и наладилось дело, именуемое пропагандой. Известно оно печатанием листовок для сибирской провинции, писанием статей, набросками тезисов устных выступлений. В случае Устрялова – еще и созданием картотеки фактов и высказываний, которые могут быть приняты городом и деревней. Только бы армия не подвела. А то вон начальник Генштаба генерал Марковский, самый умный генерал в окружении Колчака, уже ставит вопрос о двух-трех японских дивизиях на фронте, без которых, оказывается, трудно одолеть большевиков. И пишет Устрялов в дневнике 9 марта: «Войска наши посредственны, офицеров совсем мало, мобилизация проводится ставкой бессистемно и бессмысленно… У большевиков много офицеров, даже офицеров Генерального штаба».
Все эти наблюдения – предвестники будущей катастрофы. Но пока на фронте везде наступление, большевики откатываются. И приближающаяся Пасха сладостно пахнет победой.
Торжественная служба в соборе в Великую субботу 19 апреля. Устрялов стоял недалеко от Колчака. Всматривался. Что же этот человек принесет России? Уже дома записал в дневнике: «Физиономия не совсем русского типа. Интересные черты. Худой, сухой какой-то, быстрые, черные глаза, черные брови, облик, напоминающий собою хищную птицу… Если вдаваться в фантазию, можно, пожалуй, сказать, что чувствуется на этом лице некая печать рока, обреченности… За всю службу он перекрестился всего один раз, да и то как-то наскоро, небрежно, да еще в конце, когда прикладывался к плащанице, дважды опустился на колени и крестился уже, кажется, как следует».
А работы прибавляется. Теперь уже ответственность не только за правительственное пресс-бюро, но и за Русское общественное информационное бюро, что организовано для обслуживания русской и зарубежной прессы. Да еще постоянные собрания кадетского комитета. Ну и частые вечера все в том же ресторане «Россия» – интеллигентские посиделки для души. Да, были бы для души, если не совали бы туда нос офицеры контрразведки, столь презираемые интеллигентской публикой при любых режимах.
Начальник колчаковской контрразведки полковник Злобин не чурался застолий в «России». И привлекали его по большей части не шумные офицерские компании, не лихие предпринимательские гулянки, а чинные заседания, где господа интеллигенты под водочку, под местную наливочку наслаждались интеллектуальными разговорами. Там-то он и обратил внимание на Устрялова, привлеченный его смелыми оценками людей и событий.
Как полковник Злобин завел дело на Устрялова
Случилось нечто, после чего Злобин приказал завести агентурное дело на Устрялова. Это нечто оказалось связано с американцами.
Настойчивость, с которой американцы осваивали Сибирь при Колчаке, поражала. Они давили рекламой своих товаров, которые предлагали. Но, главное, они предлагали экономическую помощь, завозили оборудование и начинали строить фабрики и небольшие предприятия. Но взамен они требовали сырья из России, добросовестной работы сибирских мужиков по добыче угля, по вырубке леса, по выращиванию льна. Они составили план экономического освоения Сибири и Дальнего Востока. И в этом их поддерживала торговая и промышленная буржуазия Сибири – опора Колчака. План американцев поддерживала и эсеро-меньшевистская пресса, где выделялась «Сибирская речь». В этой газете трудился «баян Колчака» некто Жардецкий – звезда журналистской Сибири.
А у Устрялова в его Российском бюро печати было заметно перо некоего Лунина. Писал он жестко, калено, без придыханий и восклицаний, бил словом наотмашь. Взгляды его были неуловимы: непримирим к красным, но и белых не боготворил. Однажды он принес Устрялову статью, в которой излагал случай на железной дороге. Излагал так, что случай из рядового под его пером превратился в типичный и громкий.
Американская компания, что поставляла мануфактуру и оборудование для фабрик, уговорила отдел военных перевозок Колчака дать ей вне очереди дополнительные вагоны и паровозы. Уговорила, конечно, за взятку. И паровозы, что должны были везти на фронт снаряжение и боеприпасы, повезли башмаки и туфли, банки со сгущенкой и оборудование для фабрики обуви в Иркутске.
Устрялов попросил сделать особый акцент на том, как союз российского и американского бизнеса в поисках своей выгоды мешает воевать с красными, предает интересы России. Даже еще не отвоеванные от большевиков территории бизнес уже запродает американцам.
Лунин акцент сделал, и статья увидела свет. Злобин позвонил через пару часов после выхода газеты. До этого он имел разговор с американским консулом Гаррисом. Американец был очень недоволен. И тон его был господский. Это могло звучать так:
– Вы зачем позволяете вашим журналистам нас ссорить? Вы не контролируете ситуацию. Не забывайте, зачем мы здесь.
В этот момент Злобин почувствовал себя не начальником контрразведки, а подчиненным, которому указали на его ошибку.
Пережитое унижение отразилось и на разговоре с Устряловым.
– Зачем вы это напечатали? Ведь Америка – наш союзник. Вы хотите поссорить наши правительства? – говорил он, наверное, словами Гарриса.
– Мы что, уже продали нашу независимость и суверенность? – возражал Устрялов.
– Вы не забывайте, что относительно большевиков – мы независимы, но относительно Америки независимость наша поддерживается американским долларом и их товарами. Хотите, господин профессор, жизни не под большевиками, давайте строить отношения с союзниками к обоюдной выгоде.
– Но не продажей же наших интересов, прежде всего военных, не кровью же наших солдат?!
– Дорогой профессор, позвольте вам сказать: или мы одолеем красную заразу, пусть с помощью японцев или американцев, лучше тех и других, либо сохраним нашу независимость на три месяца. Шире смотреть нужно, профессор.
Таким мог быть этот разговор, судя по настроениям, царившим тогда среди некоторых военных и интеллигентов.
По крайней мере, такой разговор Злобин не мог считать обыденным. Вот почему после некоторых размышлений он распорядился завести дело агентурной разработки на Устрялова.
Через два года полковник будет торговать агентурными делами, сначала в Харбине, потом в Париже. Как полковник Тихий из булгаковского «Бега». Было ли там дело Устрялова – вопрос открытый до сих пор.
Но тогда Устрялову и Лунину полковник ответил пером Жардецкого. По наущению контрразведки в «Сибирской речи» появились публикации о безусловной необходимости помощи союзников, носящей столь глубокий характер, что режим Колчака набирает мощь не только в военном деле, но и в экономике, транспорте и финансах. В ообщем, Россия и Америка будут прирастать Сибирью.
Омское терпение. Трансформация идеи
Омск, конец мая 1919 года. Колчак потребовал усилить агитационный нажим. Как все по-русски. Сразу все забегали – в неделю отпечатали очередной миллион листовок, поставив на уши типографии. Следующая неделя – еще миллион. Все для фронта. Еще и брошюры отпечатали. Лихо развернулись.
Хуже с информацией, что идет через телеграфные агентства. Малоуправляемы они, нет хозяйской руки. Вот теперь назрел конфликт: кто будет владеть агентствами? Устрялов предлагает отдать их в ведение Русского общественного бюро печати. Но военные и партия эсеров против. Военные – по стратегическим соображениям, эсеры – по политическим. Они считают, что за Устряловым – кадеты, и потому они подгонят общественное мнение под себя. Спор выиграл Устрялов. В правительстве посчитали, что агентства – все же пропагандистские органы, а пропаганда у Устрялова получается хорошо.
Измотанный, но довольный пришел домой. Поздний ужин. Сон накатывает, а еще часок посидеть придется – надо закончить статью. Обещал. Чисто профессорская обязательность.
В июле 1919 года военное счастье оставляет Колчака. Большевики наступают, взяли Уфу. Они устремлены за Урал, в Сибирь.
Но все же, может, пропаганда поднимет дух армии? Вот уже открылись агитационные курсы при штабе Верховного командующего, своего рода стратегический резерв пропаганды. Устрялов читает вступительные и установочные лекции. И в те же дни пишет в дневнике: «Беседовал со слушателями. Ощущается в них – даже у них! – состояние недовольства властью, полуоппозиции. Ужасно санитарное состояние армии, до 70 % тифозных, полное отчуждение от начальства, бурбонство. Нет доверия к власти даже у тех, кто заведомо – враг большевиков. Армия голодна, гола, мужики перепороты – трудно агитировать при таких условиях».
Даже сегодня, читая эти строки, можно почувствовать смятение в душе профессора. Смятение в душе и бессилие пропаганды. Где же обрести так желаемую устойчивость?
И является ему Москва: «Все более и более заманчивою представляется Москва, хотя бы даже и большевистская, – пишет он. – С тоскливой, но сладкой грустью вспоминаются ее улицы, дома, былые дни жизни в ней, и тянет туда, тянет все чаще и все сильней. И Калуга представляется, милая, родная… Доведется ли вас увидеть, славные, любимые?»
В октябре задышалось полегче. Наконец-то удалось организовать выпуск своей газеты – «Русское дело». Издание Русского бюро печати. Устрялов заказывает и редактирует статьи, пишет свои. Редакционная суета, нервотрепка. Но они дают какую-то устойчивость жизни. Пусть трещит фронт, шатается тыл, но газета выходит. И жизнь обретает очередной смысл. Выходит слово. Тексты, сверстанные на полосе с рисунками и фотографиями, увенчанные логотипом «Русское дело», – это непередаваемое чувство для редактора, для профессора.
Но в том же месяце фронт разваливается основательно. Колчаковское войско, пробитое красными клиньями с севера и с юга, отступает. Падение Омска неминуемо. Устрялов понимает, час настал – нужно бежать. Бежать в очередной раз. Теперь в Иркутск. Туда уже едет Совет министров.
«Ну что же, спасся в Москве, в Перми. И вот еще одно искушение судьбы», – это уже из дневника за день до отъезда 1 ноября 1919 года. А 18 ноября он уже – в Иркутске.
А как же идея, то есть знамя, с которым он шел в очередное отступление? Идея была, но полинявшая. Это были строки из стихотворения поэта конца XIX века Владимира Соловьева «Белые колокольчики». Они цепляли своей ритмикой, которая заставляла повторять эти строки вновь и вновь. Пусть не вслух, пусть про себя, но, по крайней мере, их повторение делало отступление осмысленным, идейным и романтично-печальным. Строки про уходящую идею.
Отцветает она, отцветает,
Потемнел белоснежный венок
И как будто весь мир увядает —
Средь гробов я стою одинок…
Стоило облечь в метафорическую форму те сомнения и разочарования, что преследовали его, как они обрели некий смысл, стали нитью движения. Такова была для Устрялова сила отчеканенных поэтом строк, даже если они несли одну горечь.
А в дневнике он запишет недрогнувшей рукой профессора: «Финал ужасен, кругом разложение и смерть… Ошибались: приняли судороги умирания за трепет рождения, а трепет рождения за конвульсии болезни. Вот и расплата. И глупое чувство стыда, ложного самолюбия мешает сознаться в ошибке». Это он о краткой, как миг, эпохе Колчака.
В Иркутске недолгое было сидение. Ждали, кто возьмет власть – мятежники, больше красные, выступавшие вдоль железных дорог, эсеры, атаман Семенов или отступающий с армией Колчак, надеющийся, как и Семенов, на японцев, чьи войска стояли в Чите. Чехи заявили, что готовы охранять только поезд с ценностями, а за поезд «верховного» снимают с себя ответственность.
Ну какая тут пропаганда, агитация, газета? Хаос сплошной. Да по русской традиции – горькое застолье.
«Зашел к Т. В. Бутову. Застал накрытый скатертью стол, на нем бутылку водки, кусок лука и кусок соленой, жесткой красной рыбы (кета?). За столом, кроме Т.В., сидели Энгельфельд, Горяинов и некто для меня неизвестный. Пили. Выпил и я две рюмки. Потом пришел Бурышкин. Беседовали о Москве, о прошлом».
Все перечисленные здесь лица из застольного круга по большей части кадеты и чиновники колчаковского правительства. Уже ни на что не способного. «Правительство одиноко, – восклицает Устрялов, – и даже буржуазия жертвует на большевиков и эсеров». Буржуазия, которая недавно была опорой Колчака.
Иркутск держался недолго. Уже 5 января 1920 года о себе заявила новая революционная власть. Устрялов боится ареста, все же не последний человек в колчаковской администрации. Прячется у надежных людей и ищет возможность снова бежать.
Помогают старые связи. Товарищ из кадетов добыл место в японском вагоне. Вместе с супругой профессор отбывает в Читу.
Но что Чита? Это транзит. В Чите ему удается получить разрешение на проезд до Владивостока через Харбин. Да, это Маньчжурия. Но так ли уж надежен Владивосток? Надо остановиться в Харбине, отдышаться, осмыслить этот последний год, от которого можно было потерять голову.
«26 января. Приехали в Маньчжурию. Таможня, граница. Китайцы, японцы, военные, русские. Купили белого хлеба коврижку фунта в полтора за 45 р. сибирскими. На станции продаются разные вещи, как-то: куклы, духи, серебрянные чайнички и пр. Бутылка пива – 75 р. Будем стоять здесь до завтра».
Харбин стал ему убежищем на целых 15 лет. Там он обрел профессорскую стать, научный авторитет, имя в университете и эмиграции. Там были написаны им самые ценные работы, там он выступил с идеей «смены вех».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?