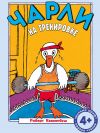Текст книги "Венера плюс икс. Мечтающие кристаллы"

Автор книги: Эдвард Уолдо
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ну еще бы… Скажи, Назив, а что означает эта скульптура?
– Она называется «Создатель», – ответил Назив (на ледомском это, кроме всего, означало «деятель» и «творец» – в смысле «художник»).
Взрослый, поклоняющийся ребенку. Ребенок, поклоняющийся… Кому? «Создателю»?
– Родитель создает ребенка, – сказал Назив. – Ребенок создает родителя.
– Ребенок… что? – недоуменно спросил Чарли.
Назив засмеялся – но не «над Чарли», а просто и естественно, в силу своей природной жизнерадостности.
– Послушай! – сказал он Чарли. – Кто же способен стать родителем, не произведя на свет ребенка?
Чарли засмеялся в унисон с Називом, но, когда они уходили, он посмотрел через плечо на скульптурную группу и понял – Назив имел в виду гораздо больше того, что сказал. И сам Назив знал это, понимая, что чувствует Чарли, потому что коснулся локтя гостя и произнес:
– Идем! Я думаю, позже ты все поймешь.
Но в глазах Чарли все еще стояла эта сияющая фигура. Когда, сопровождаемый Називом, он шел по мастерской к выходу, то спросил себя – почему же ребенок превосходит взрослого своими размерами?
…Он понял, что задал этот вопрос вслух, потому что, когда они вернулись в гостиную, Назив ответил (при этом он подхватил того же самого ребенка, который набросился на него чуть раньше из-за драпировок, и стал играть с ним, переворачивая вниз головой и легонько стукая ею о пол, пока тот не начал икать от смеха):
– Дети, они… больше…
И Чарли понял: по-ледомски, как и по-английски, «большой» означает и «великий» – не только физические размеры, но и значимость. Но обдумать все это в деталях он попробует попозже. Пока же, оглядывая сияющие лица взрослых и детей, собравшихся в гостиной, он почувствовал укол сожаления и тут же спохватился – никто не должен видеть этого выражения на его лице.
Но Филос все понял и сказал:
– Он видел твою скульптуру, Гросид.
– Вот как? Спасибо, Чарли Джонс! – раздался голос Гросида.
Чарли был доволен. Он расцвел улыбкой, но, если бы его спросили, за что его благодарят и чему он так рад, он вряд ли смог бы ответить.
Развинченной походкой, на полусогнутых ногах, Злодей приближается к постели, в которой пытается укрыться Она – полусонная и нагая.
– Не трогать меня! – кричит Она с явным итальянским акцентом. Камера наплывает на Нее, не выпуская Злодея из виду, после чего становится самим Злодеем… А в это время слепленные из плоти и крови человеческие существа, рядами сидящие в своих хромированных коробочках перед гигантским экраном на площадке автокинотеатра, хлопают ресницами и ощущают, как кровь пульсирует в их жилах. Даже пропитанный неоновым туманом воздух над машинами для попкорна, даже выключенные фары автомобилей, уставившихся на экран, застывают в томительном ожидании.
Когда камера подбирается достаточно близко, и становятся видны разрешенные в этом сезоне кинематографистам ореолы вокруг сосков (ниже – ни-ни, боже упаси!), большая лапа Злодея выскальзывает из-под камеры, смачно лупит Ее по алебастровой щеке (и в это же время взвизгивает оркестр, уютно расположившийся за кадром), а потом направляется вниз, за нижнюю границу линии обзора камеры, откуда доносится истеричный звук раздираемого шелка. Лицо Ее, данное широким планом (сорок три дюйма тонированной кожи от кромки растрепанных волос до подбородка с ямочкой) отодвигается от камеры, голова утопает в атласной подушке, сверху надвигается голова Злодея, и звукооператор, искусно играя ручками звуковоспроизводящей аппаратуры, исторгает из нее истошный крик:
– Нет! Неееееет!
До Херба Рейли, сидящего за рулем своего автомобиля, наконец доходят звуки битвы, разворачивающейся на сиденье рядом. Хотя Карен, устроившаяся на заднем сиденье, уже видит десятый сон, у ее братца, который в это время суток обычно сопит в подушку, сна нет ни в одном глазу. Джанетт одной рукой применяет к сыну «двойной нельсон», другой пытаясь прикрыть ему глаза. Дейви, ожесточенно сопя, упирается подбородком в ее запястье, и оба, несмотря на жар схватки, пытаются не спускать глаз с экрана.
Херб, которого происходящее на сиденье рядом не может до конца отвлечь от того, куда устремлен его взгляд, спрашивает:
– В чем дело?
– Ребенку нельзя это смотреть, – шипит Джанетт.
У нее перехватило дыхание – не то от борьбы с сыном, не то от переживаний за то, что происходит на экране.
– Не трогай меня! – кричит Она на экране, и камера внимательно рассматривает ее искаженное лицо и закрытые глаза…
– О, – стонет она. – Трогай меня, трогай, трогай…
Дейви отбрасывает материнскую руку.
– Я хочу посмотреть! – кричит он.
– Ты будешь делать то, что я сказала! – парирует мать.
Херб рявкает – нечленораздельно, но повелительно. Дейви кусает мать за руку.
– Больно! – вскрикивает она.
И тут с семидесятифутового суперполихромного экрана, оснащенного мощными звуковыми установками, им лаконично объясняют: вы все не так поняли; Она и Злодей давно и счастливо женаты, а те эксцессы, свидетелями которых вы только что были, являются средством разнообразить и максимально заострить любовные переживания, которые вполне законны, освящены авторитетом церкви и государства! Завершает фильм взрыв яркого света и рев медных труб, после чего зрители несколько минут протирают глаза и массируют уши.
– Нельзя было давать ему смотреть, – менторским тоном произносит Херб, словно читает обвинительное заключение.
– Я и не давала. Он меня укусил.
Наступает пауза, во время которой Дейви начинает осознавать, что сделал нечто, достойное наказания. Не слишком долго думая, как ему избежать оного, он тут же принимается рыдать, после чего его, естественно, начинают успокаивать порцией сладкого малинового шербета на палочке и рулета из креветок. Шербет, призванный решить проблему, сам становится таковой, когда, нагревшись от пальцев едока, срывается с палочки и липкой массой падает Дейви на колени. Херб – как настоящий отец и глава семьи – разом решает возникшую проблему, подхватывая и отправляя весь кусок шербета сыну в рот, отчего у того начинает щипать нос и возникает ощущение, что его обманули, если не ограбили.
Но нового рева никто не слышит, потому что свет гаснет, и по экрану бегут первые кадры второго фильма вечерней программы.
– А вот это – явно для Дейви, – говорит Херб. – Почему только они не покажут сначала «вестерн», а потом – ну, ты знаешь, что, – чтобы детям не нужно было это смотреть?
– Садись мне на колени, милый, – говорит Джанетт сыну. – Тебе хорошо видно?
Дейви отлично видит все – и драку на вершине скалы, и падающее тело, и старика, который, весь изломанный, лежит у подножия утеса, и жестокого ковбоя, который наклоняется над ним, и алая кровь, стекающая у старика изо рта.
– Я… Чак… Фритч, – стонет старик. – Помоги мне…
А ковбой смеется.
– Это я и хотел узнать, – говорит он, вытаскивая «кольт» сорок пятого калибра и, с гнусной улыбкой на физиономии, разряжая его в тело старика, который стонет в агонии, а потом камера меняет план, и Дейви видит, как ковбой пинком ноги сбрасывает мертвое тело в каньон.
И вот уже грунтовая дорога, ведущая из автокинотеатра, и дощатые тротуары по сторонам, и Херб задумчиво говорит:
– Все-таки я им завтра позвоню и спрошу, почему они не пускают первым фильмом «вестерн».
Они подошли к дому Вумби. Палисадник перед домом был огорожен надежным на вид плетнем, который представлял собой ряд крепких кольев, перевитых лианами. Плетень был не просто забором, как показал Вумби, молодой ледомец с ястребиным носом, но частью дома, стены которого были сплетены в той же технике, после чего обмазаны глиной и покрашены в светло-фиолетовый цвет. Основой крыши была солома, а на ней росла та самая гладкая и ровная трава, что покрывала все луга и поля Ледома. Дом поражал не только изяществом интерьера, но также надежностью и основательностью общего устройства: чем более изогнуты стены, тем они надежнее (сложенный лист бумаги легко и надежно стоит на ровной поверхности), и хозяину не нужно было идти на компромисс между традиционной прямизной древесных стволов, из которых обычно делают деревянные стены, и их дизайном. Вместе с Чарли к Вумби пришли окруженные детьми Гросид и Назив – всем им хотелось как можно скорее показать гостю сокровища, которые хранились в доме хозяина.
После этого они все вместе, включая Вумби и его детей, отправились к дому Аборпа, построенному из прессованной земли. Влажную землю насыпали между щитами деревянной опалубки, трамбовали руками, а в самом конце, когда опалубка была заполнена, четверо взрослых ледомцев водрузили поверх высохших стен стропила для крыши и убрали щиты. Как и у мазанки Вумби, стены у дома Аборпа были изогнуты самым прихотливым образом.
Потом они осмотрели дом Обтре, сложенный из каменных блоков, уложенных в квадратные модули. Над каждым из модулей высилась исполненная в форме купола автономная крыша, исключительно простая по конструкции. Обтре заполнил пространство внутри стен доверху землей, после чего сделал купола из толстого, в фут, слоя штукатурки и, когда она высохла, убрал землю. Такие дома с такими крышами могут простоять вечность. После осмотра дома Чарли, сопровождаемый все увеличивающейся в размерах свитой, отправился дальше.
Эдек жил в доме из бревен, щели между которыми были заделаны мхом. Виомор устроил себе жилище в уходящей в глубь холма искусственной пещере; стены пещеры он частично обшил вручную отшлифованными досками, а частично облицевал камнем. У Пианте был каменный дом с крышей, покрытой дерном; хозяин укрыл стены внутри дома гобеленами с живописными изображениями, и тут же, в углу, стоял самодельный ткацкий станок, на котором он их и изготавливал. Некоторое время Чарли стоял и наблюдал за работой ткацкого станка, с челноком которого управлялись двое детей. После этого сам Пианте и его дети присоединились к шумной компании, и все они, включая семью Эдека и Виомора, вышли в парковую зону, где смешались с яркой толпой маленьких детей, длинноногих подростков и взрослых, которые побросали свои мотыги и грабли, свои секаторы и ножи и вышли, чтобы приветствовать гостя.
По мере того как толпа росла, росла и музыка. Она не становилась громче, скорее – ширилась, словно разлившийся поток.
И наконец, вобрав в себя всех и вся, кто находился в долине, они подошли к месту поклонения и молитвы.
Джанетт падает на прибранную постель. Настроение – ни к черту! Отчего бы это?
Она только что отшила агента компании, предлагающей услуги по ремонту жилья. Что ж, она все сделала правильно. Никто из домовладельцев не виноват, что эти ёршики недожаренные таскаются от двери к двери и предлагают свои никому не нужные услуги! Никто не обязан покупать то, что ему не нужно, и если здесь дать слабину, то эти стервятники мигом нагнут тебя и по капле высосут твою кровь.
Здесь она права. То, как она отшила этого типа – вот что ее выбило из колеи. Конечно, она и впредь будет вести себя таким же образом, но именно поэтому она и чувствует себя столь гнусно. Имела ли она право на такую резкость?
Этот ее ледяной взгляд, эти холодные слова! Она ведь даже не дослушав захлопнула дверь перед самым носом агента. И она была совсем не похожа на саму себя, на ту Джанетт, которую знала так хорошо! С другой стороны, что было бы, если бы она повела себя иначе – не как некий пародийный персонаж из кинофильма о жизни странствующего коммивояжера? Вряд ли бы ей удалось отделаться от агента!
Джанетт садится на кровати. Если продумать все до конца, в мелочах, то эта история не будет ее так волновать.
Сколько раз она избавлялась от этих назойливых торговцев, причем всегда оставаясь самой собой! Улыбочка, немного вранья – дескать, проснулся ребенок, или телефон звонит; все просто, и никто не в обиде! Или: муж только вчера купил такую же штуковину; ну что бы вам прийти на прошлой неделе! А то: я как раз выиграла точно такую же в конкурсе. Они уходят, и никто не уязвлен.
Но время от времени, как и сегодня, на нее что-то находит; она презрительно поджимает губы и обливает коммивояжера ушатом холодной воды. А потом, покусывая алый ноготок большого пальца, стоит и подсматривает через щель не до конца закрытой двери, через полупрозрачную занавеску, как он уходит, и по его спине понимает, что он огорчен. Он огорчен, она огорчена, и кто в этом виноват?
Отвратительное ощущение!
И почему она обрушилась именно на этого, сегодняшнего? Он не был ни наглым, ни особо настырным. Симпатичный парень, с хорошей улыбкой и ровными зубами, аккуратно одетый. И он не пытался просунуть ногу в щель двери; он обращался с Джанетт как с леди, которой может весьма пригодиться в жизни то, что он продает. Он продавал товар, а не себя.
Если бы продавец вел себя как последний подонок – пялился бы на бретельки ее лифчика, подмигивал и производил губами звук поцелуя – тут-то она, конечно, отправила бы его восвояси, но сделала это мягко, с улыбкой.
Так вот где собака зарыта! Он тебе просто понравился, поэтому ты и была холодна как лед!
Ошарашенная сделанным выводом, Джанетт сидит на краешке кровати, после чего смежает веки и дает волю своему глупому воображению, представляя, как он входит, касается ее, как они…
И вдруг она открывает глаза. Не работает. В том молодом человеке ей понравилось совсем не это.
– Как тебе может нравиться мужчина, если ты его совсем не хочешь? – спрашивает она себя вслух.
Ответа нет. Это ее символ веры: если мужчина нравится, ты обязана его хотеть. Кто-нибудь слышал, что возможны иные варианты?
Да и вообще – люди никогда не влюбляются только потому, что кто-то кому-то понравился внешне. Только если человек чувствует, что хочет другого человека, тогда-то у него и просыпается это подсознательное: иди-ко-мне-я-вся-твоя… А без этого – ну никак невозможно!
Джанетт молча сидит, уставившись в точку перед собой. Она не хочет никого, кроме Херба. Но она… должна хотеть!
Какое же я извращенное чудовище, думает она. Меня следовало бы повесить за большие пальцы ног. Только так и нужно поступать с такими, как я!
Пир был организован на вершине самого высокого холма в округе – почти горы. Около сотни ледомцев ждали прибытия Чарли и Филоса, которых сопровождала огромная толпа присоединившихся к ним по пути. В роще, где на безупречном газоне росли деревья с темно-зеленой листвой, была устроена роскошная поляна в гавайском стиле: различные яства оказались искусно разложенными на блюдах, сплетенных из свежей листвы и трав. Ни один японский мастер сервировки не справился бы с этой задачей так же успешно, как это сделали ледомцы. Каждое блюдо и каждая корзина были изумительны по цвету и форме, а запахи, которые поднимались над едой, сливались в чарующую симфонию ароматов.
– Угощайся! – сказал Филос.
Чарли, как зачарованный, не мог наглядеться на все это великолепие. Отовсюду шли ледомцы; появляясь из-за деревьев, они приветствовали друг друга радостными криками.
– Угощаться?
– Конечно! Все здесь принадлежит всем!
Они прошли сквозь кружащуюся толпу и уселись под деревом.
Перед ними высились горы еды, разложенной по небольшим порциям столь аккуратно, что у Чарли не хватило духу нарушить эту чудесную симметрию, о чем совсем не заботился Филос, который сразу же принялся есть.
Подбежал ребенок с подносом, балансировавшим у него на голове. Поднос был заставлен полудюжиной бокалов, специально разработанных для подобных случаев, – они выглядели как усеченные конусы с широким основанием. Филос подозвал ребенка жестом руки и, взяв с подноса два бокала, поцеловал его – тот, смеясь и пританцовывая, побежал прочь. Чарли пригубил из своего бокала; питье напоминало холодный яблочный сок с персиковыми тонами. Он принялся с аппетитом есть. Еда была не только красиво сервирована, но и необычайно вкусна.
Когда, почувствовав первые признаки насыщения, Чарли наконец отвлекся от еды, он отчетливо услышал поднимающийся над рощей согласный хор ледомцев – облако аккордов окутывало присутствующих, пульсируя все более ритмично. И тут же он заметил, что ледомцы не столько едят сами, сколько угощают друг друга. Чарли спросил об этом Филоса.
– Они делятся друг с другом, – пояснил тот. – Если тебе хорошо, если ты счастлив, разве ты не хочешь поделиться своим счастьем с близкими?
Чарли вспомнил, как почувствовал укол сожаления, когда понял, что никому не может показать ту самую терракотовую скульптуру, и ответил:
– Ты, вероятно, прав.
После чего посмотрел на своего спутника и сказал:
– Слушай! Если хочешь встретиться со своими друзьями, не обращай на меня внимания, иди!
Странное выражение скользнуло по лицу молодого ледомца.
– Ты очень добр, – отозвался он тепло. – Я непременно с ними встречусь, но не сейчас.
Чарли заметил, как лицо и шея Филоса внезапно вспыхнули. Что это было? Ярость? Или что-то иное? Чарли вдруг почувствовал, что ему совсем не хочется задавать личные вопросы…
– Как много людей! – сказал он через несколько мгновений, наполненных неловким молчанием.
– Такое нечасто бывает.
– А в честь чего это?
– Если не возражаешь, после того как все закончится, расскажи мне, что ты по этому поводу думаешь.
Озадаченный, Чарли ответил:
– Ладно, договорились.
Некоторое время они молча сидели, слушая. Музыка, которая аккорд за аккордом лилась на них, становилась все мягче, и на ее фоне Чарли вдруг услышал странное стаккато – оглядевшись, он заметил, что стоящие и сидящие вокруг ледомцы ритмично похлопывают себя или друг друга по основанию горла, отчего их голоса начинают ритмично пульсировать. Они пели на восемь долей в такте, с особым ударением на вторую и четвертую доли, и на этот ритм ложилась негромкая мелодия из четырех нот – она кружилась, кружилась, кружилась над толпой, и каждый из собравшихся, подчинившись этому кружению, склонялся вслед ее полету, словно хотел оттолкнуться от земли и тоже взлететь…
Неожиданно из общего хора вырвалось и взлетело искристым каскадом нот подобное фейерверку мощное сопрано, оторвавшееся на мгновение от подспудного биения басовых нот, и затихшее столь же внезапно, как и родилось. Но ему отозвался другой, далекий голос, с противоположного конца рощи, а потом и третий, и вот уже пара теноров, играя мелодией, пробудили к жизни третьего певца, который, взорвавшись гармонией нот, разбудил еще одного – одетого в синий плащ ледомца, который сидел рядом с Чарли. Тот подхватил мелодию и, очистив от всех мелизмов, вернул ей чистую, ничем не замутненную форму. Услышав нового певца, толпа восторженно загудела, и вот уже с полдюжины мощных голосов повторили мелодию в унисон, после чего начали ее вновь, и уже тогда на второй ноте вступил с той же темой еще один исполнитель; фуга мощно зазвучала, и голос за голосом вступал в разработку все усложняющейся темы, переплетаясь, вздымаясь и опадая, вздымаясь и скатываясь вниз…
А басовая партия, разыгранная вибрирующими гортанными звуками, то росла и ширилась, то вновь затихала, вторя основным голосам.
И вдруг, словно вызванная взрывом звуков, исходящих из горла певцов, из полумрака появилась обнаженная фигура. Она кружилась, вращалась вокруг деревьев и среди людей, причем с такой невероятной скоростью, что контуры ее тела расплывались, смазывались. Но ни препятствия на пути, ни стоящие люди не прерывали этого бешеного танца. Приблизившись к Филосу, ледомец высоко подпрыгнул и, преклонив колени, спрятал лицо и руки в мягкой травяной подстилке. Еще один ледомец принялся вращаться, потом другой, и вскоре вся роща ожила движением – развевались одежды, мелькали смуглые тела и лица. Чарли увидел, как Филос поднимается на ноги; к своему удивлению, он отметил, что и сам давно стоит, ошарашенный звуком и движением, и крепко держится за ствол дерева, чтобы не метнуться стремглав в это море пения и танца. Единственное, чего он страшился, так этот того, что, не поборов искушения, бросится во всеобщий пляс, но его ноги и само неподготовленное тело не справятся с ураганом неистовых нот и танцевальных па – как не справляются его глаза и уши с тем, что они видят и слышат.
Происходящее предстало перед Чарли серией отдельных ярких картинок: быстрый поворот чьего-то торса, в экстазе вскинутая голова с отброшенной со лба прядью шелковистых волос, дрожащее от наслаждения тело, кричащий ребенок, бегущий с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками среди водоворота танцующих тел. Взрослые все сужают и сужают круг, пока один из них не подхватывает ребенка и не перебрасывает другому, а тот – третьему; и так происходит, пока ребенок не достигает края круга, где его бережно опускают на землю и оставляют одного. Чарли не обратил на это внимания, но звук басовой партии превратился в настоящий рев – словно рождался он не из легкого похлопывания ладонью по фарингальной зоне певческого горла, а из сотрясающихся в судороге грудных клеток и диафрагм.
Чарли, неистовствуя, кричал…
Филос исчез…
Чарли почувствовал, как некая мощная невидимая волна вдруг поднялась в роще и хлынула на собравшихся. Она подхватила его и растворила в себе без остатка, сделав одновременно частью и сутью всех, кто собрался вокруг, а их – частью него. Она была вполне осязаема – как жар из открытой печи, только не жгла. Подобных ощущений Чарли никогда не переживал – во всяком случае, когда был один… Такое происходило лишь наедине с Лорой. Была ли это любовь? Чарли не знал. Во всяком случае, это было одно из проявлений любви. Волна поднялась вновь, и на ее пике звучащая мелодия изменила свою суть, и в это же время танцующая плоть взрослых ледомцев сложилась в хоровод, в центре которого оказались дети – множество детей, которые сгрудились в плотную группу, радостно и гордо посматривая по сторонам. Они действительно были горды своим положением – даже самые крохотные из них; горды и глубинно, безмерно счастливы. А взрослые ледомцы, окружившие их плотным кольцом, пели песнь восторга и почитания.
Они пели не детям и не о детях. Дети были самой сущностью их пения. Они пели детей!
Смитти подходит к задней ограде – невысокой каменной стенке, чтобы поболтать. Он явно расстроен – не поладил с Тилли по поводу каких-то пустяков. Впрочем, не так уж это и важно! Херб сидит в шезлонге под красно-белым зонтом и читает дневную газету. Он тоже расстроен, даже взбешен, но не личными делами, а более общими проблемами. Конгресс только что принял особенно дурацкий закон, да еще и наперекор президентскому вето. Увидев Смитти, Херб бросает газету и направляется к нему.
– Почему в этом мире, – начинает он, полагая, что сказанное им будет восприниматься как предварительное умозаключение, – так много сукиных детей?
– Все очень просто, – следует немедленно ответ. – В мире слишком много сук.
Хотя в Ледоме царил вечный день, в роще заметно потемнело, когда ее покинуло большинство из тех, кто участвовал в обряде почитания. Чарли сидел на холодной подстилке из зеленого мха, опершись спиной о ствол оливкового дерева и положив ладони на колени. Голову он опустил, прижавшись щеками к тыльной стороне ладоней. Щеки слегка саднило – на них остались высохшие слезы. Наконец он поднял голову и посмотрел на Филоса, который терпеливо ждал неподалеку.
Филос, который до этого не проронил ни слова, чтобы не испортить гостю впечатление от происходящего, улыбнулся и приподнял брови.
– Все закончилось? – спросил Чарли.
Прислонившись к дереву, Филос кивнул в сторону троих взрослых ледомцев, которые, окруженные стайкой детей, в дальнем конце рощи приводили в порядок лужайку. Над ними, словно невидимый пчелиный рой, вылетевший на медоносный участок поля, парила мелодия, рассыпавшаяся то бодрыми трезвучиями, то нежными минорными аккордами.
– Это никогда не кончается, – ответил Филос.
Чарли принялся обдумывать слова Филоса; вспомнил виденную им статую, и все, что произошло в роще, еще раз ощутил висящую в воздухе мелодию, рожденную людьми, работавшими в отдалении.
– Хочешь спросить, что это за место? – тихо спросил Филос.
Чарли отрицательно покачал головой и встал.
– Думаю, что знаю, – ответил он.
– Тогда пошли!
Они вышли из рощи, и пошли полями, мимо коттеджей, назад, к зданиям научного и медицинского центров.
Идя рядом с Филосом, Чарли спросил:
– Почему вы поклоняетесь детям?
Филос рассмеялся – главным образом, от удовольствия.
– Мне думается, – заговорил он, – таким образом мы удовлетворяем нашу потребность в религиозном опыте. Чтобы избежать ненужных споров и недоразумений, я сразу же определю религию как мистическое в своей основе переживание контакта со сверхъестественными сущностями. Религиозные переживания крайне важны для нашего вида, но такого рода опыт невозможно получить, не имея объекта. Нет ничего более трагичного, чем человек или культура, которые, чувствуя острую необходимость поклоняться чему-либо, лишены объекта поклонения и почитания.
– Ну что ж, как ты сказал, мы избежали ненужных споров, – сказал Чарли, – и я покупаю твою идею.
Как необычно это звучало по-ледомски! Синонимом слова «покупать» в данном случае было бы «взаимопроникать» или «обмениваться», но, как ни потрясен был Чарли тем, что он только что пережил в роще, он настаивал на том значении, которое несло в себе именно слово «покупать».
– Но почему дети? – спросил Чарли.
– Мы поклоняемся будущему, а не прошлому. Тому, что грядет, а не тому, что состоялось. И мы серьезно относимся к последствиям своих деяний. В нашей власти изменить то, что пока остается податливым, что растет и формируется. А потому мы поклоняемся той силе, что позволяет нам это делать, а также тому чувству ответственности, что живет в нас. Ребенок – полное воплощение этих качеств. А кроме того…
И Филос остановился.
– Продолжай! – попросил его Чарли.
– Я не уверен, что ты уже готов это понять, Чарли, – покачал головой Филос.
– Давай попробуем!
Филос пожал плечами.
– Ну что ж, ты сам об этом попросил, – сказал он. – Мы поклоняемся ребенку потому, что вряд ли когда-нибудь будем ему подчиняться душой и телом.
Некоторое время они шли молча.
– А что плохого в том, чтобы подчиняться божеству, которому поклоняешься? – спросил Чарли.
– В теории – ничего. Особенно если подчиняешься живому, понятному богу, в которого искренне веришь.
Филос помедлил, подбирая слова, после чего продолжил:
– Но на практике, как правило, рука бога, если она вмешивается в людские дела, становится рукой мертвеца. Его воля доходит до нас в интерпретации старейшин – так называемых святых отцов; а у них и память уже не та, и глаза подслеповаты, и на любовь они неспособны в силу своей дряхлости.
Он посмотрел на Чарли глазами, полными сочувствия.
– Разве ты не заметил, что сущностью всего, что есть в Ледоме, является движение?
– Движение?
– Да! Движение, рост, изменение, катаболизм. Разве музыка может существовать в неподвижности, без развития? А поэзия? Где ты видел рифму, состоящую из одного только слова? Да и сама жизнь… Может ли жизнь существовать вне движения? Движение – суть жизни. Живое существо изменяется в каждый из моментов своего существования – даже тогда, когда ослабевает и угасает. А когда изменениям приходит конец, приходит и конец жизни. То, что было живым существом, становится чем угодно – древесиной, если это бывшее дерево, едой, если мы имеем дело с фруктами. Но это уже не жизнь. Кстати, картина мира, укоренившаяся в культуре, реализуется и в ее архитектуре. Что тебе говорят формы Первого медицинского и Первого научного центров?
Чарли рассмеялся – несколько принужденно, ибо был изрядно смущен.
– Берегись! – закричал он по-английски, после чего объяснил:
– Так у нас кричат лесорубы, когда подрубленное дерево готово вот-вот упасть.
Филос рассмеялся – понимающе и без обиды.
– Ты когда-нибудь обращал пристальное внимание на картинки, на которых изображен бегущий человек? Или – проще – идущий? Он же постоянно нарушает принцип равновесия! Он падает! И только так можно передвигаться с места на место – падая и вновь возвращаясь в исходное положение, чтобы вновь упасть.
– А потом оказывается, что у них есть костыли, хотя и невидимые, – усмехнулся Чарли.
В глазах Филоса сверкнул насмешливый огонек.
– Все символы таковы, Чарли.
И вновь Чарли принужденно засмеялся.
– И только Филос у нас – единственный, – сказал он, невольно подражая уже когда-то слышанным словам.
Филос же помрачнел. Он явно разозлился, хотя увидеть на лице ледомца злое выражение было такой же редкостью, как увидеть в Ледоме неприбранный газон.
– Что случилось? – забеспокоился Чарли. – Я что…
– Кто это тебе сказал? Миелвис?
Филос бросил в сторону Чарли режущий взгляд и без особого труда прочитал в его лице положительный ответ. Также прочитал просьбу прекратить злиться, на что соответствующим образом отреагировал, хотя и не без усилий. После чего попросил Чарли:
– Не принимай это на свой счет, Чарли! Ты не сделал ничего плохого. А вот Миелвис…
Он глубоко вздохнул.
– Миелвис иногда отпускает шуточки личного свойства.
И вдруг, с явным намерением поменять тему, он спросил:
– Что же ты не споришь с плодотворностью моей идеи динамического неравновесия, которая воплощена в нашей архитектуре?
Он повел рукой в сторону коттеджей из уплотненной земли, плетеных веток, бревен и штукатурки, из которых состоял Первый детский центр.
– Но у них-то с равновесием все в порядке! – отозвался Чарли и кивнул в сторону строения, состоящего из квадратных каменных секций с куполами из штукатурки, мимо которого они как раз проходили.
– Ну, в этих-то домах нет ничего символического, – ответил Филос. – По крайней мере в том смысле, в котором я говорил о научном и медицинском центрах. Здесь – другое. Эти коттеджи – свидетельство того, что ледомцы никогда не оторвутся от земли – в широком понимании этого слова. Ты знаешь, большинство существовавших цивилизаций погибли оттого, что целые классы и поколения были начисто лишены возможности обеспечивать собственное существование с помощью того, что им дала природа, – с помощью рук. Человек рождался, взрослел и умирал, ни разу не взяв в руки лопату, серп или топор. Он даже не видел их! Ведь и с тобой было нечто подобное, верно?
Чарли задумчиво кивнул. Он и сам думал об этих вещах. Он же был истинным сыном города, но однажды, когда ему были страшно нужны деньги, он, по объявлению в газете, нанялся сборщиком бобов. Как он возненавидел тогда поначалу и саму работу, и барак, который ему пришлось делить с вонючим стадом человеческих отбросов, и сами бобы, для сбора коих, оказывается, требуются пусть и нехитрые, но навыки! Его тело сводили судороги, он корчился на этом поле, пекся на палящем солнце, исходил потом… Но однажды он взял в рот бобовое зернышко, и разжевал его, и оно, это зернышко, которое произросло из самого чрева Земли, вдруг насытило его, и он понял: когда голыми руками проникаешь в недра и извлекаешь из них чистую энергию бытия, оказываются совсем ненужными эти сложные многоуровневые отношения обмена и купли-продажи, которые заключают между собой разные люди и организации, озабоченные сбытом товаров и услуг, в которых не осталось ничего из того, что когда-то связывало человека с основой и источником жизни – с природой. И эта мысль посещала его вновь и вновь, когда такое простое, интимное дело, как наполнение желудка, оказывалось осложнено отношениями с бумагами, на которых нужно было что-то писать, с ресторанными тарелками, с которых нужно было смывать остатки чьей-то недоеденной еды, с ручками бульдозера или кнопками арифмометра.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?