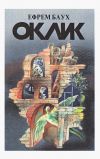Текст книги "«Что в имени тебе моем…»"

Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Очнулся я от медных ударов.
Слабый ветерок пошевелил мертвые воды лагуны.
И вновь бликом, щепкой, щепоткой памяти всплыли строки того же стихотворения юного Блока, возникшего на этом пятачке, который держится на плаву в памяти человечества итальянским наречием, байронической грустью, блоковским ощущением своей головы, как отрубленной – Иоанна Крестителя:
Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь – больной и юный —
Простерт у львиного столба.
На башне, с песнею чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк уронил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас…
В этот поздний час иконостас казался тусклым и заброшенным, чтобы на утро вновь расцвести в жадных глазах новых толп туристов.
И вдруг на обратном пути в гостиницу на меня явно снизошла с высот удивительная легкость существования, и я замер на несколько мгновений, чтобы до последней мельчайшей капли вобрать в себя эту легкость. Данный мною обет – не подвергаться амнезии – словно бы снял груз последних лет кажущейся осмысленной, а, по сути, бестолковой суеты.
Обет – это раскаяние и покаяние, ибо все мы, пока живы, виноваты перед мертвыми.
Эта невероятная легкость была как мгновенный укол, пронизывающий до запредельных корней жизни.
После чего, добравшись до постели, я погрузился в глубокий сон, казалось, достигающий пульса глубинных рыб и седьмого неба, сладостно раболепствующего под пятой Бога.
Ради таких мгновений стоит приветствовать жизнь, какой бы она ни была.
Встал я до восхода солнца, шел я к вокзалу, на поезд в Рим.
Никакие толпы, даже отдельные существа, не стояли между мной и пустынным, целиком отданным самому себе городом, забвенно грезящим своим химерическим, но прочным родством с молочной размытостью адриатических далей, с летучими каравеллами кучевых, ставших и эту ночь на якорь в лагуне облаков, с ледяными престолами погруженных в вечную дрему вершин.
В этот ранний час в церквях и храмах еще бодрствовали ангелы и святые, чтобы с первым лучом солнца раствориться в плоскостях фресок и полотен.
И сам город с первым лучом солнца взлетит фантомом в туманы и облака, всплывет собственным призрачным отражением ввысь и обретет плоскостную, выпавшую в осадок, земную отчетливость, вишневую терпкость цветов своих стен и крыш.
В пустынных палаццо разгуливали демоны и привидения ушедших веков, которых великие художники пытались изо всех сил удержать соблазном линий и красок.
Пытались или пытали? И кисти их подобны были кандалам тюремщиков.
Сколько их тут, ангелов, демонов, святых, грешников, просто людей, осевших среди этих стен, которые кажутся насквозь растворенными морем, далями, опасными грезами, какими бы толстыми кандальные эти стены ни были.
Именно такое летучее – на одни сутки – вторжение в это невероятное пространство только и может всполошить всю эту как бы свыкшуюся с самой собою, утробно слежавшуюся жизнь.
Я шел к вокзалу, останавливаясь и оглядываясь. Купола и колокольни растворялись в туманности морских далей, за приземистым вокзалом, где мигали световые табло, пахло немытыми телами парней и девиц, измотавшихся за время карнавала и спящих вповалку во всех углах зала ожидания.
Запахи сквозили со всех сторон – из туалета, из пространств, пахнущих сладкой гнилью водорослей, напоминающей о мимолетной человеческой плесени рядом с бесконечным морем, хотя плесени этой насчитывалась не одна сотня лет.
Город, одновременно эфемерный и реальный, так потрясший молодого Пастернака, приехавшего из бескрайних степей России и срединной Европы, отчуждался за окнами вокзала, уже покрываясь плесенью забвения.
Странный нездешний звук, напоминающий вибрирующие звуки гавайской гитары, но более мягкие, заставил меня замереть на месте.
Это была мелодия «Атиквы».
Посреди сонного царства, пропахшего потом юных тел, сидел благообразный старик и извлекал мелодию гимна Израиля из гибко изгибающейся… пилы.
Это могло показаться выдумкой, если бы не было правдой.
Это странным образом венчало завершение моего присутствия в Венеции.
И на этот раз при этих звуках ком встал у горла.
Итальянские поезда необычны. То они быстро перебирают, как монах четки, пролетающие станции, то надолго замирают у какого-то полустанка.
За окном пролетали, как бы пробуждаясь по ходу поезда, – Местре, Доло, Падова или Падуя: собор, утренняя пестрая суета, репетиция лошадиных гонок.
Монтегротто: зябкая зелень ближних виноградников, зыбкая синева дальних гор.
Баталия: замок с трехъярусным куполом – на горе, красная земля, терра роса, холмы, вприпрыжку бегущие вдоль дороги, медленно ползущие вдали.
Эсте-Монселиче: замок на огромном утесе, рядом с городком; в центре, на площади, шатровый собор из красного сиенского камня.
Ровиго.
Феррара.
Города мелькали, как стрелки на шахматных часах в блицтурнире.
Идея книги, подобно слабому зародышу, под стук колес и промельк пространств обрастала плотью.
Внезапно вспомнились слова одного из выдающихся французских постмодернистов Жиля Делёза: «Актуальное это не то, что мы есть, это, скорее, то, чем мы становимся… Настоящее, напротив, это то, чем мы перестаем быть…»
Жизнь в будущем стояла залогом за каждым убегающим мгновением.
Слова Делёза уже обладали правом застолбить себе первое место в череде эпиграфов к рождающейся книге.
Я задумывался над вопросами.
Является ли вторжение обильного цитирования, намеренной игры смыслами, словами, бессюжетностью, в ткань художественного текста, – знаком времени?
Является ли это генетическим дефектом человечества, опять и опять прекраснодушно идущим в клетку к вегетарианцам-краснобаям – будущим убийцам миллионов, будь то развязывание войн или уничтожение инакомыслящих?
Из гегелевского дерева выросли две ветви – немецкая самоуверенность – «самая мудрая», и марксистская самоуверенность – «самая справедливая». Обе привели к обнищанию – не столько физическому, сколько духовному и нравственному.
Вопрос этот стыдливо обходят. А дело состоит в том, что вся классическая философия, начиная с Канта, а, в основном, с Гегеля, потерпела полный крах, приведя Европу, а в общем-то и все человечество на грань самоуничтожения.
Вся проблема в том, что по сей день не залечены раны ХХ-го века.
Не подведен итог.
Не найден и вряд ли при современной ситуации в Европе и России будет найден ответ на вопрос, как это История и философия, начиная с Канта и Гегеля, так четко, согласовано и, главное, обнадеживающе сводившая концы с концами, внезапно рухнула в бездну войн, революций, Шоа-Гулага.
Всех потрясло, как в лоне просвещения и философии произошел такой взрыв варварства.
Но никакой внезапности не было.
Всё логически развивалось, но абсолютно не туда, куда его пролагали «титаны мысли».
История, как объективное отражение жизни семьи, колена, рода, становится инструментом политических манипуляций и начинает влиять через подражание на саму жизнь. Это порождает «великие концепции», которые одна за другой оборачиваются катастрофами. Потому и говорят, что История ничему не учит.
Кому же предъявлять иск? С кого взыскивать?
Дело в том, что иск Истории связан с таким неуничтожимым феноменом, как абсолютная справедливость.
Она невидимо присутствует везде.
За деревьями у расстрельных рвов.
За пулей, миновавшей ребенка, женщину или мужчину, чтобы смогли они выбраться из кровавого месива – поведать миру о преступлениях.
За невыветривающимся запахом сожженных тел, стоящим вот уже более 60 лет над Европой.
Это неотступно преследует меня через всю жизнь.
И главным героем, осмысливающим виденное, совершаемое драмой, трагедией, являются глаза, глаза души, хищной зрением, иногда рвущейся спастись от видимого.
Ангел, состоящий из одних глаз, – из еврейской Каббалы – трагический образ преизбытка зрения.
В 60-е годы я написал стихотворение «Глаза»:
Мы – два шара, прозрачные два острия,
мы – два мира, сокрытых в подлобье,
есть орбиты свои, кровь своя, боль своя,
только всё ж говорят, мы – подобья.
И восход и закат совершаются в нас,
и рожденье и смерть совершаются в нас,
зелен луг, ослепителен солнечный наст,
в нас звезда возникает, но только тогда,
когда в сердце спокойно и мирно.
Все равно только небу: в беду, не в беду
Зажигает лампаду себе иль звезду
Даже в час катастрофы всемирной.
Чаще в нас – вместо звезд,
чуть спиной шевеля,
возникает погост
или просто земля.
Сколько дел и надежд захоронено в нас,
сколько тел без одежд похоронено нас,
сколько лиц безымянных рассеяно в нас,
худосочных, румяных, расстреляно в нас.
Как живые могилы – есть тысячи глаз.
И надбровья —
живые надгробья.
Мы безмолвны, но в нас каждый шаг, каждый след.
Мы повсюду. Мы есть даже там, где нас нет.
В поле – двое. И выстрел. И мертвый – на снег.
Но глаза у другого остались. То – мы —
От себя не укрыться под пологом тьмы.
Мы бездонны. И кажется, пыл в нас погас.
Все, что было – забвеньем завеяно в нас.
Но мы связаны с сердцем. Точнее бы тут:
Прямо в сердце глаза человечьи живут.
Ничего, ничего не потеряно в нас.
И поздней или раньше – ударит наш час,
Когда камни надгробий рассыплются в пыль.
Вновь становится болью забытая быль.
В те годы я встречался в литобъединении с одним русым русским пареньком по имени Феликс Чуев, который со временем стал московским поэтом, шовинистом и антисемитом, удостоившимся доверия зажившегося старичка из истязателей России Вячеслава Молотова и написавшим книгу бесед с этим молотолобым мракобесом из сталинской камарильи.
Но тогда, в молодости, написал он наивное по своей выспренной верности партии стихотворение. Речь шла об его отце, летчике, направившем самолет то ли на вражескую колонну, то ли во вражеский самолет. Когда его извлекли из кабины, мертвой рукой он сжимал партбилет. Но стихотворение завершали две строки, как бы вырвавшиеся из самых сокровенных глубин юношеского сердца, безотносительные ко всему, что говорилось в стихотворении, и запомнившиеся мне на всю жизнь:
…Значит есть что-то выше смерти,
А вот выше совести – нет.
Каждое поколение в любом народе рождает редких, как выпавшие зубья из гребешка, ренегатов. «Бегите из „страны обетованной“, – кликушествуют они, – Израиль обречен».
В связи с этим я вспомнил, уже подъезжая к Риму, малозначительный, но весьма поучительный эпизод из его имперской истории.
Умершему императору Веспасиану перед сожжением его тела по традиции тех времен, вкладывают в рот монету – оплату лодочнику Харону, который должен перевезти императора через реку Лету в поля мертвых.
На этой монете торжествующе было отчеканено – «Judaea capta» – «Иудея уничтожена», стерта с лица земли, из человеческой памяти.
Конечно же, такого редкого по числу и качествам зоологического типа, каким является ренегат, откровение и предупреждение не остановят от бега в Ничто, в позорное исчезновение.
Избиваемый, унижаемый, уничтожаемый «малый народ» спасался бегством. Главным образом, в страну неограниченных возможностей, страну эмигрантов – Америку.
Сыновья и внуки этих жертв, распрямившись, проявили недюжинные способности, заложенные в генах, к наукам.
Им был близок смысл понятия слова «дар», завещанного их праотцами. Это – дарение без ожидания встречного дара, что открывало им иной великий «дар» – дар Божий – проникнуть в сферы духа, в тайны природы и разума, во все то, что составляет богатство человеческого существования, за что отцам их платили лишь черной неблагодарностью и откровенной ненавистью, оборачивающейся массовой резней.
Но именно этот дар, – к физике, математике, биологии, экономике, – позволил им раскрыть тайны ядра, гена, высоких технологий.
Они привели Америку к достижениям, позволившим ей опередить сегодня мир лет на двадцать – по силе и богатству.
А народы, породившие массовых убийц людей, безоружных и безвинных, покрыли себя несмываемым позором.
Позор этот «перстами руки человеческой» записан на стене абсолютной справедливости.
Осип Мандельштам, оживший как феникс: жги меня, и я вернусь…
1. Я другой такой страны не знаю…
Тирания прожорлива, неразборчива и хищна, как пирания. Порождает ли тирания раболепие или – наоборот: раболепие порождает тиранию? С публикацией его портрета, Осип Мандельштам, о котором в ранней моей юности лишь шептались по углам, стал возникать в моих снах. Выглядел намного живее, чем я. Во мне, юноше, сонным пульсом теплилась жизнь. Я тяжко, как тянут жилы, ощущал свою временность. Он же был защищен вечностью до конца времен.
Не давала покоя странная, мучающая меня, и не до конца понятная, клаустрофобия – боязнь ли, болезнь замкнутого пространства, места моего проживания. О нем поют «широка страна моя родная», а ощутима, как тюремная камера, замкнутость, преследующая стенами. «Страна родная» взирала на меня остановившимся взглядом своих стеклянных, равнодушных и, тем не менее, подозревающих меня во всех грехах, глаз. Кроме уроков школьной премудрости следовало усвоить урок жизни с оглядкой.
Формулой этой жизни стала первая строка передающегося из уст в уста, предающего стихотворения пера Мандельштама, за которым смутно, но весьма реально мерещилась тюремная решетка –
Мы живем, под собою не чуя страны…
Прежний, приемлемый им, окружающий мир рухнул. Сравнительно недавно закончилась братоубийственная Гражданская война – массовый приступ падучей, черная болезнь, эпилепсия времени и пространства. Все обрушилось и смешалось, пропитываемое беспределом бессмысленных убийств, ставших в столь короткий срок константой нового мира, начисто лишенного будущего, хотя о нем, светозарном, разглагольствовали круглые сутки.
Эпидемия страха, порождаемая недремлющим вирусом раболепия, неощутимо, но настойчиво и устойчивоохватывала душу человеческую целых наций, вне границ и мировоззрений, вспыхивающая болезнью рабства. Она грозила превратить время существования не в «минуты роковые», а в годы, а то и в целые века.
Этот вирус, возникающий из имманентных корней страха, вырастал в роскошный всепоглощающий страх, до блаженного желания души собственной гибели, воспринимаемой как радостное избавление. Страх этот, подобно кандалам, закольцовывал время, проглатывал целые поколения. И вовсе не «блажен» человек, оказавшийся посетителем этого мира в это роковое время, подобное противозачаточной спирали, не только во чреве, но и в невозможности зачать новые идеи и мысли. Гениальность прерывалась, как беременность.
Вирус раболепия весьма устойчив.
Рождаемся ли мы с вирусом раболепия или он приобретается извне? Прорывается ли он эпидемией и «русским бунтом, бессмысленными и беспощадным», по словам Пушкина, войной, одним словом, уничтожением себе подобных во имя неких благих завиральных идей, которые в исторической перспективе достаточно быстро оказываются ложными или, еще хуже, настоящим бредом, пробуждением и побуждением звериных инстинктов. Если существует субстанция, главенствующая в природе человека, – субстанция страха, обладающая своим обликом и запахом, то в двадцатом веке она достигла апогея.
Можно ли разобраться в том, что привело – по ошибке ли, по умыслу, – к знаку, неведомо что творящему, гибельно самоуверенному, по наущению ли дьявола, таящегося в самой распрекрасной человеческой душе, – к Катастрофе ХХ-го века?
2. Ахматова: «Мандельштам – ангел»
Эти два слова, словно сказанные мельком, из тех, которые не вырубишь топором. А было так. В разговоре с Георгием Ивановым Брюсов отозвался уничижительно о первой книге стихов Мандельштама «Камень». «Как», – удивился Иванов, – «вы о „Камне“ не будете писать?» «Не стоит – эпигон».
«Он ненавидит его», – сказала Ахматова, услышав Иванова. – «Ненавидит за то, что Мандельштам – Ангел, а сам он (Брюсов) только литератор!»
Увиденный на явно потускневшей фотокопии мной – послевоенным худосочным юношей со «взором горящим» – он уже на всю мою жизнь привлек вскинутой вверх головой, вызывающе обращенной ко всему миру. Как сказал о нем впервые увидевший его рядом с мамой, поэт Максимилиан Волошин: «…Сопровождая свою мать – толстую немолодую еврейку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии…»
Намного позже я узнал о его болезни шейных позвонков. Но это воспринималось чем-то второстепенным и не очень убедительным. Первостепенным был вызов, летучесть и легкость Ангела.
Один из его современников описывает его – «высокого молодого человека с очень еврейским бледным лицом и огромным кадыком».
Позднее я запомнил его стихотворение – восемь строк – «Автопортрет», написанное им в трагический 1914 год, начало Первой мировой войны:
В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук.
В закрытьи глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый.
Я повторяю эти строки в 1971 году, выходя на Тверской бульвар из знаменитого дома Герцена, (Тверской бульвар, 25), где располагается Литературный институт и двухгодичные Высшие литературные курсы, ВЛК, на которых учусь.
Визионерской силой этих строк на Тверском бульваре возникает сам Осип Мандельштам. Вот он, передо мной, наяву. Как немощное тело, сброшены тюремные обноски, пропитавшие империю вонью бараков и лагерных помойных ям. Ниже бывшего Камерного театра, ныне имени Пушкина, затаились одряхлевшие подъезды. Запашком полицейского надзора, казёнщины, пропитавшей все углы и стены старых тверских домов, как запашком коммунальных уборных, тянет из малейшей щели. На бульварной скамье двое, замерев в вечности, играют в орла-решку. Оглядываются: Маяковский и Ходасевич. Деформация Времени на Тверском бульваре никого в остолбенение не приводит. Дело привычное. Это еще Булгаков отметил. Судьбу-то каждый на что ставит? На орла или решку? Как долго ожидание смерти. Целую ли жизнь, которую один из них сам себе отмерит.
Рядом, на скамейках дремлют старички. Мимо торопятся толпы. И никто внимания не обращает на этих двух, еще, по сути, мальчиков, рядом с веком, с его сатанинскими толчками и сдвигами, от которых вертится монетка судьбы.
Иудейский нос Осипа чувствителен на гниение, скрытый распад, нарождающееся заушательство, на всяческую мертвечину. Иудейский слух утончен тысячелетиями, так что в его лабиринтах, накладываясь, как радиоволны, одна на другую, различимы – голос праотца Авраама, приказывающий сыну Ицхаку идти на заклание, окрик или приказ императора Тита – сжечь Иерусалимский храм, говорок Мандельштама, читающего стихи и назревающий звук рога Архангела на Последнем Суде.
Тяжко было бы Осипу преодолевать с Дальнего Востока беспамятные заледеневшие российские пространства, если бы не гениальные предначертания Марка Шагала, когда жажда восстановления справедливости, любви и долга становится новым законом тяготения Пространства.
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, —
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!
Слова, слова, слова: по сути, нечто невесомое, летучее. Даже более легкое, чем «суета сует».
И нет необходимости телу учиться летать. Это знание заложено в нем изначально.
И зря стараются кожевенные люди, в оспинку, бугристые, бородавчатые, шишкастые от съедающей их болезни: всё оскудоумить – затирают, скоблят, закрашивают в бывшем еще вчера государственном Еврейском театре на Малой Бронной фрески Марка Шагала. Не улетучиваются фрески. Становятся летучими, как и их герои, оборачиваются атмосферой, дыханием, сжимающим горло в ночах Тверского. Переводят это от века проклятое место в Вечность.
Летающие мужчины и женщины, печально-белые коровы и козы будоражат покой мастеров заплечных дел, блудоречивой нежити, мелкой бесовщины. Летучая, всепроникающая лимонно-желчная, полыхающая, полынно-зеленая тоска иудейства отравляет их сны, награждает их инсультами, опухолями, ранним облысением, поздним раскаяньем, белой горячкой и параноическим бредом.
На миг выхватывается Тверской, как рассеченное брюхо столицы, разбегаются пласты слежавшейся жизни, обнажается дневное варварство Москвы, каналы на мертвых, свет гидростанций на мертвых, каменные плиты дорог – на мертвых, так, что детской игрушкой кажется некрасовская железная дорога. А за углом, в витрине поблескивает лакированное дерево телевизоров. И если напрячь зрение, можно различить в лакированной глубине мертвые лица, безжизненно двигающиеся руки: футляры для телевизоров и приемников делают заключенные. И если души их улетают на небо, то дыхание навечно застывает в этом лаке.
Вгрызаются в Тверской металлические чудища. Роют, рушат стены, наваливаясь с Пушкинской площади. Обнажают клоповники, пропахшие историей, кровью, потом, отхожим местом, обнося разворошенные тайны временными заборами. Но мельком, в щель, заметишь ров, провал, рваный край торчащего из земли Дантова лимба.
В весеннем месяце апреле 1931 Мандельштам пишет:
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет.
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.
И едва успевает, грозит из угла —
«Ты как хочешь, а я не рискну!» —
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.
Это ж надо было растерять все свои жизненные силы, невероятную влюбчивость в женщин.
«Когда он влюблялся», – пишет Ахматова, – «что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его портрет в профиль на синем фоне с закинутой головой».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?