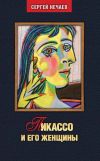Текст книги "Они шли убивать. Истории женщин-террористок"

Автор книги: Екатерина Брешко-Брешковская
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
Глава 3
На конспиративной квартире
Однажды, отлучившись еще из первой квартиры на целый день на дачу П. Ф. Якубовича,157 я возвратилась под вечер и сразу заметила в своем муравейнике несколько приподнятое настроение. Перебивая друг друга, женщины передавали: «Приходили, Григорьевна, к тебе господа, в услужение нанимать. Барыня такая красивая, роскошная. А барин чудной, не русский, по всему видать, говорит как-то неладно, морда некрасивая. Обещались завтра придтить». Я тоже почувствовала большую радость, что кончается тягостная и уродливая жизнь, мучительная по условиям, жизнь напряженная, с оглядкой, с боязнью обнаружиться, не попасть в тон окружающих обитателей. Главное – не было уже для нее и принудительной необходимости.
Решаю завтра никуда не отлучаться с квартиры, но устроить, однако, так, чтобы моя встреча с «господами» произошла вне общей комнаты. Муж Манны оставался дома, и его острый глаз мог уловить какие-либо обмолвки в наших разговорах, не соответствующие моему званию и положению. Уже странным могло казаться и то, что богатые господа поднимаются на шестой этаж за прислугой сами, и бабы мне не преминули заметить: «Знать ты, Григорьевна, искусная стряпка, сами ишь пришли».
Утром, к приближению назначенного часа, с большим чайником в руках, как бы идя за кипятком, я вышла на лестницу и стала тихо спускаться вниз. Расчет оказался верен. На третьем спуске подымался навстречу очень изысканно одетый молодой господин, каких, вероятно, эта лестница никогда и не видывала на своих ступенях. Приблизившись, он приподнял красивым жестом свою шляпу, спрашивая у меня обо мне. Переговорив быстро о времени явки к ним на квартиру и взяв у «барина» их адрес, я возвратилась радостная в комнату, спеша поделиться со своими сожительницами приятною неожиданностью: «получила-де хорошее доходное место к одиноким господам. Кроме меня у господ будет лакей, жалованье дают достаточное, работа необременительная». Многие жильцы слушали с затаенной горечью, завидуя счастью, без труда свалившемуся мне. Анна даже предлагала уступить ей, давно и тщетно искавшей именно такое место. Адель обещалась приходить раз в неделю, не чаще, дабы не раздражать барыню более частым посещением.
Положение именинницы обязывало угостить вместе живших женщин кофе внакладку и дать обещание не шибко зазнаваться в положении прислуги богатых господ.
На утро, не беря с собой всех вещей, как это принято у поступающих на место, и поручив присмотреть за ними Адели, я налегке отправилась по врученному адресу.
«Господа», которых я раньше не знала, только что переехали из гостиницы в нанятую ими (на Жуковской ул., № 30) хорошую большую квартиру с полной меблировкой и всем готовым хозяйством. Дама-хозяйка хвастливо уверяла, что она в городе имеет еще несколько квартир, обитаемых по преимуществу графами да баронами. В нашей квартире тоже жили раньше генералы, неожиданно уехавшие на войну. При вечернем освещении, правда, наша квартира казалась нарядной, эффектной, но дневной свет обнаруживал все ее убожество и «поддельную краску ланит». Тут были электрические люстры, зеркала и картины, рядом с бумажными цветами и замызганными коврами, на поцарапанных стенах, просвечивались пятна на полинявших обоях.
Равнодушие и холодность «барыни» к болтливой профессионалке по сводничеству прервали поток ее безудержного вранья о своем благородстве. Она перенесла свое благосклонное внимание на меня, давая множество советов по части угождения «гостям» и рисуя заманчивую перспективу возможности, после некоторого искуса, перейти к ней в качестве экономки. Познакомив с своим прошлым, настоящим, со связями и обширным кругом знакомств, она в конце-концов примостилась завтракать со мной. Отвращение и страх, что эта дама-нахалка станет пытаться проникнуть в нашу жизнь, заставила меня просто грубо оставить ее одну в кухне, уйти будто бы помогать моей «барыне».
«Господа», как уже упоминалось выше, были мне совсем незнакомые люди, и тут, на нелегальной квартире, мы встретились лицом к лицу впервые, с самой определенной целью, с твердым, непреклонным желанием осуществить эту цель – убийство Плеве, – а это сразу сделало между нами отношения хорошими.
В апреле (1904 г.) – не помню числа – квартиру на Жуковской № 30 занял под видом богатого англичанина Мак Куллох158 с содержанкой, бывшей певицей «Буффа». «Барин», действительно, выглядел иностранцем, совсем не русским, и характеристика моих угловых людей была правильной. Это был новый человек нового поколения, яркий, с внешностью изящного джентльмена, с нерусским акцентом речи, в безукоризненном костюме, благожелательный в обращении – все эти качества резко его выделяли и делали заметной величиной во всякой среде. Наружность его не была красива: маленькие карие глаза, голова, слабо покрытая волосами, небольшие усики, выражение аристократической надменности в лице, с немного остро выступавшими вперед плечами над впалой грудью, делали его похожим на ватного дворянчика. И, однако, все эти внешние черты в значительной степени стушевывались. В нем, в глубине, было какое-то тонкое «нечто», вызывавшее большой интерес, глубокую привязанность, любовь к даровитой его природе. Он красиво рассказывал, спорил без претенциозности, умно, с какой-то особенной правдивостью высказывал свои мысли и отношения к людям, что часто рисовало его не совсем выгодно для него самого. Да, это был новый представитель молодого поколения, уже сильно и резко отошедшего от своих предшественников, восьмидесятников, все разложившего, переоценившего ценности, выпукло и резко выдвинувшего свою индивидуальность.
Жена «Жоржа» – так звали Мак Куллоха – или, вернее, будто бы «содержанка», с первого взгляда приковывала внимание своими огромными, миндалевидными, черными, как крыло ворона, глазами.159 От этих глаз нелегко было оторваться. Какая-то невыразимо глубокая грусть, будто веками пережитая, отражалась в них, и все лицо тонуло в этих, дымкой подернутых, больших, печальных глазах, а между бровями залегла думная морщинка…
Глава 4
Е. С. Сазонов («Афанасий»)
На второй день нашего вселения на квартиру было сделано объявление о найме лакея. На самом же деле по объявлению должно было, конечно, явиться к нанявшим квартиру господам знакомое лицо. Эта публикация указывала только адрес явки. Барин дал мне пароль, точные приметы наружности того, кто придет с черного хода, чтобы занять должность лакея. Почему-то явкой он запоздал на несколько дней, а между тем, по объявлению в газете каждый день валом валил народ с предложением готовности поступить на службу. Один из них так настойчиво просил обмануть господ, сказать барину, что будто бы нанятый лакей отказался, дать возможность стать ему на место, что едва удалось от него избавиться. Прошло несколько дней ожидания, когда рано утром кто-то постучался с черного хода. За эту неделю у меня уже установились весьма добрые отношения со старшим дворником и соседками-кухарками. Думая, не дворник ли стучится, я осторожно приоткрыла кухонную дверь. В небольшой просвет скважины глянули брызжущие каким-то особенным лучистым светом глаза. Живое, радостное лицо, немного искривленный нос убедительно подтверждали, что за дверью стоял наш лакей «Афанасий»; без всякого пароля было легко его узнать.
Сдерживая смех, он начал было что-то говорить и тут же, вероятно, заметив встречную дружескую улыбку, прыснул от душившего его смеха и перепрыгнул порог кухни. – «Наконец-то я у пристани, на своем посту, какая радость!» – говорил Афанасий.
Афанасий был выше среднего роста, гибкий, подвижной, с быстро менявшимся выражением лица, с выразительными линиями в очертаниях рта, весь трепетавший молодой, радостной жизнью. Непосредственная, жизнерадостная натура резко выделяла его среди нового типа молодежи с шаткой, порой издерганной, опустошенной душой «голеньких». Цельность Афанасия сказывалась во всем, и в малом, и в значительном, и он входил в дело без сдерживающего раздумья, без разъедающих душевных ковыряний. – «Вот этот человек – настоящий, хороший», – говорила о нем простая девушка Адель, которой он оказывал совсем просто маленькие услуги, а, главное, был с ней ласков и внимателен.
– «Хороший парень ваш лакей, – замечали не раз швейцар и дворник, – к каждому норовит подойти он с открытым сердцем, всем поможет».
От его смеющихся глаз, от веселых слов и готовности оказать помощь делалось окружающим легче, радостнее; как бы весенний луч обогреет и вольет бодрость.
Благожелательность, помощь слабому были у него не столько долгом, сколько безотчетным движением его природы. Несколько раз, завидев дворников или рабочих, поднимавшихся с тяжестью вверх, Афанасий отрывался от обеда или чтения и шел помогать несущим. Непосредственность выявлялась в каждом его жесте, в каждом движении. Афанасий верил и поступал без раздумья, по вере своей. Он не любил обыденщины, легко выходил из себя от житейских мелочей, но в крупном всегда был тверд, решителен. – «Что решу, то доведу до конца», – говорил он, и даже в самом голосе его слышалась эта непоколебимость. С упорством и самоотвержением он весь уходил в нужное большое дело, внимательно обслуживая его, обнаруживая при этом красивую отвагу борца и нежное сердце. – «Ходит храбро, ступит – под ногами свистит», – заметил однажды дворник. При спорах, довольно часто происходивших у нас на квартире, когда высказывался крайне разъедающий скептицизм, подрывавший упование и веру в общество, в интеллигенцию и многомиллионную массу, в черный народный мир, Афанасий весь загорался негодованием. Как ужаленный, вскакивал он со стула, осыпая говорившего упреками: «Вы говорите, может, и правду, да не всю, а значит и неправду. Видите низость, легкомыслие, предательство, но забываете, не хотите видеть благородства и самоотвержения. В тех же „низах“ были и есть грандиозные порывы беззаветного энтузиазма, геройства, самоотвержения. Мало ли у нас анонимных героев, великих безвестных могил? Наша история полна мучениками, полагавшими душу за други своя».
Негодование и горькая обида слышались за огульное осуждение без разбора, без внимательного, вдумчивого отношения к огромнейшей стране, к великому народу, не раз выводившему свою родину на путь человечного существования, на путь настоящей правды и добра. Указывая на своих предшественников, оставивших в нем глубокий и неизгладимый след, на партию «Народной Воли», он говорил:
– Мы воскресим героический период этих борцов, мы будем достойными сынами своих славных отцов.
Эту любовь к народовольческому направлению, к мощной борьбе народовольцев с вооруженным во всех пунктах правительством высказывал он с особенной, чарующей нежностью, любовью искренней, горячей. Афанасий был фанатичен во всем, во что верил, что любил. У него было много своего, им самим приобретенного, самодельного, самостоятельного. Это свое было заложено у него с самого раннего детства. Родившись в крепкой семье староверов, он с юности пережил период глубокого до фанатизма религиозного настроения, исполняя все служебные церковные требы, читал псалтыри, углублялся в духовное писание, молитвы, жития.
По-видимому религиозность им была воспринята от матери, женщины нежной, вдумчивой, бесконечно доброй, с разлитым на ее лице оттенком чего-то скорбного, страдальческого. Егор Сергеевич Сазонов («Афанасий») очень любил ее и в самые для него трагические моменты вспоминал мать: – «Какая она у меня добрая, хорошая, сколько в ней чуткости!» – говаривал он.
Жили мы на своей аристократической квартире дружно, занятые каждый своими неотложными обязанностями. Быстро вспыхивавший Афанасий также скоро начинал терзаться, искренне сожалея и порицая свою несдержанность, открыто исправляя сделанный им «в сердцах» поступок. Раз только за все наше общее сожительство у него произошла маленькая ссора с «барыней», о чем он потом глубоко сожалел и раскаивался перед ней.
Пыхнул гневно раз и на меня Афанасий, но эта его вспышка еще ярче осветила его красивую душу.
Случилось это вскоре по основании нашей квартиры, до той поры, когда наше близкое знакомство друг с другом еще не вполне совершилось. Шел разговор о неудаче, затяжке дела по каким-то случайным и непредвиденным обстоятельствам. В самых отдаленных уголках громадной России напряженное ожидание конца вызывало недоуменные вопросы. Афанасий при разговоре волновался, огорчался замедлением, казалось бы, хорошо обдуманного плана действия.
Делу, поставленному уже на рельсы, казалось, оставалось бы только катиться по намеченному пути, но все уже подготовленное внезапно, как кривая лошадь, сбивалось в сторону, останавливалось… Сноба принимались облаживать почти оконченное. Одни работники в неудаче черпали новые силы, лишний опыт; другие слабели, падали духом, теряли терпение, считая дело вообще трудным, едва ли достижимым. При обсуждении происходивших неудач, непредвиденных трагических случаев, у меня вырвалось невольно замечание, что, видно, этому делу конца не будет; по-видимому, нет соответствующего настроения, нет надлежащего желания у работников, или же самое это дело не столь важно, несущественно. Афанасий, как подброшенный шар, вскочил на ноги, сразу лицо его побагровело, а через миг сменилось странной, пугающей, мертвенной бледностью… – «Вы жестоки! Мы не хотим! Да как же это могут думать! Если общество не чувствует или рабски переносит оплеухи, унижается, то мы, партия, не можем молчать, оставаясь равнодушными зрителями этого позора страны. Это наше кровное дело, мы доведем его до конца, даже если все до одного погибнем!»…
Наша жизнь как-то вошла сама собой в определенные рамки.
Кухарка вставала раньше всех и шла за провизией. Квартира наша считалась весьма богатой, барин на свою содержанку не жалел денег, сообразно с этим и продукты приходилось закупать не какие-нибудь залежавшиеся, а высокой марки. В первые дни встречались затруднения во многих отделах хозяйственного обихода; незнание разных частей мяса и иных предметов вынуждало меня осторожно выжидать в лавке, прислушиваясь к заказам солидных поварих и поваров, покупавших деликатессы, и к их толкам – у кого лучше найти, дешевле, дороже и т. д. Через неделю весь курс кухарских плутен был пройден мною с успехом. Оказалось, если ежемесячный забор достигал ста рублей, лавочник платил не меньше пяти рублей ежемесячно же забиравшему провизию. Наш суточный забор часто превышал 5—10 р. Вся прислуга нашей лестницы, всегда все знавшая по части объегоривания своих господ, с завистью и с некоторой дозой уважения относилась не ко мне, конечно, а к моему доходному месту. Груня (дверь против двери нашей кухни) – горничная и кухарка двух холостых присяжных поверенных, настойчиво просила передать ей, когда надумаю уйти, такое доходное местечко.
– Мои господа что! Шантрапа! Мяса берут всего по 11/3 ф., которым норовят кормиться два дня. Смотрят, как бы не украла у них, да чего тут украдешь-то? – жаловалась Груня. После утренних закупок из магазинов мы расходились по домам, обогащенные точнейшими сведениями про господ не одной лестницы нашего дома, но и соседних жильцов. Раз как-то в холодный день в мясной лавке обратил общее внимание раньше невиданный там субъект, наружности не весьма порядочной. С этого времени его визиты участились, но к нашему дому его интереса совсем не было заметно. Одна прислуга, жившая по линии улицы Жуковского, выразилась, указывая на незнакомца, совсем просто: – «Это сыщик. На панели, вишь, в непогоду стоять-то неудобно, ну, он и норовит переждать в лавке. Он тут за Грунькиными господами следит». Это случайное обнаружение цели сыщиковских наблюдений успокоило нас.160 Довольно часто при возвращении с покупками домой я встречала на черной лестнице Афанасия, чистящего юбки и камзолы спящих еще господ, а в кухне кипел уже им поставленный самовар. В этот ранний час охотно к нам на кухню заглядывал старший дворник со свежими новостями, а главным образом, попить чаю или кофе, в чем, конечно, он почти никогда не ошибался. Афанасий охотно, весело подставлял ему стул и чашку кофе. Шла Японская война. Афанасий накупил множество лубочных патриотических картин, оклеив ими все кухонные стены. Старший дворник, указывая как-то на одну картину, где японца избивал казак нагайкой, заметил: «Кого они обманывают этим?» – «Но мы побьем, поколотим, беспременно одолеем!» – вдруг свирепо выпалил Афанасий. – «Оставь фигурять, кому одолевать-то?» – возразил мрачно дворник.
С двенадцати до обеда квартира пустела, расходились по делам. Кто шел на свидание с другими работниками, кто для показной видимости уходил куда-нибудь. Часто, не дожидаясь опоздавших хозяев наших, вдвоем с Афанасием мы обедали на кухне, и в эти часы он много рассказывал о своей прошлой жизни, о студенческих годах и погибших друзьях. Не помнится, чтобы он дурно отзывался о ком-нибудь из своих товарищей. Особенно радостно вспоминал он о каком-то старом уфимском друге-наставнике (Дело идет, по всей вероятности, о В. В. Леонович161.) и о «бабушке» (Брешковская Екатерина Константиновна.).
Из-за последней у него вышла серьезная неприятность с отцом, едва не окончившаяся полным разрывом. Когда уводили арестованного Егора в тюрьму, отец, указывая на висевший портрет «бабушки», сказал: «Вот кто виноват, а вы его арестуете». Воспоминание об этом причиняло Афанасию большие страдания. Он любил пылко и страстно своих родителей: когда он начинал рассказывать о них, то весь изменялся: голос становился таким нежным, приглушенным, без резких нот, музыкальным; глаза подергивались задумчивою грустью; все лицо трепетало и чуть-чуть мягко улыбалось. – «А мама моя добрая, добрая и кроткая». И снова, уже перейдя на другой предмет разговора, он вновь возвращался к матери.
Все, казалось, в нем было полно большой и горячей привязанности к ней. Для него тогда порвалась уже почти окончательно нить, связывавшая его с ними, и вновь обнять их никакой надежды не было больше. Раньше, будучи в Питере, исполняя роль извозчика, он иногда стаивал у Знаменской гостиницы. – «Раз у подъезда жду седока, – рассказывал Афанасий, – вдруг вижу из парадной выходит… мой отец… Удар кнута, и я мчался в другую сторону, сам не зная куда. Не думаю, чтобы отец узнал меня».
Проводив в театр господ, вечером Афанасий шел к швейцару на разведки с бутылкой пива и уворованными якобы барскими папиросами. Швейцар наш был до фанатичности набожен. Все стены конуры его под лестницей сплошь украшались образами, образочками, крестами, святыми картинами, перед ликами которых лился разноцветный лампадный свет. И говорил швейцар много на религиозные темы, что, однако, нисколько не мешало ему иметь двух жен: одну для города, другую для деревни, с изрядным количеством детворы от каждой; а деревенская, как это полагалось в большинстве случаев, предоставлялась им, при том, своей собственной участи. Из этих экскурсий Афанасий возвращался переполненный «всякие скверны». Он отплевывался и с отвращением мотал головой, отказываясь передавать отзывы и суждения швейцара купно с дворником о жильцах дома. «Собственно, порядочные господа во всем доме, можно сказать, одни твои господа, остальное все сволочь, шулера и шантрапа», – говорили они, не обнаруживая при этом ни малейшего намека на какую-либо подозрительность. После обеда в праздничные дни мы, прислуга, вместе выходили за ворота постоять зеваками. Даже мой возраст не удерживал швейцара или дворника от похабного разговора, что заставляло подальше отходить от их компании, ссылаясь на свои годы и греховность слушать такие скверные речи.
– Никогда, – говорил Афанасий, – я не слыхивал столько похабства, как за время общения с набожным швейцаром.
Глава 5
И. Пл. Каляев («Поэт»)
В первые же дни по организации квартиры, «барыня» предложила сходить повидаться с одним из нашей группы, с Иваном Платоновичем Каляевым, известным среди всех работников под кличкой «Поэт». Решительно все относились к нему с самым дружеским расположением и неподдельной, искренней любовью.
Мы шли с Дорой Бриллиант по Владимирской улице в направлении Технологического института. – «Вот поэт, – указывая глазами вперед, сказала барыня, – посмотрите на него всего».
К нам навстречу двигалась фигура торговца-папиросника, с лотком на ремне через плечо. Заметно было, что тяжесть товара сильно давила ему плечи, он несколько горбился, медленно подаваясь к нам. Большой белый фартук закрывал его грудь и опоясывал пиджак, прикрывая, таким образом, его рваную одежду. Вытертый картузишко и стоптанные сапоги дополняли его костюм, как у всех мелких уличных разносных торговцев. Даже набившие руку филеры не могли бы его признать за переодетого интеллигента. И, однако, его молодое, задумчивое, как бы дымкой подернутое, лицо немного разнило «поэта» от заурядного папиросника. Заметив наше приближение и видимое намерение остановиться, он весь выпрямился и засветился такой детски чистой лаской, лучистые серые большие глаза загорелись радостным и приветливым огнем. Но кругом сновали люди. Иван Платонович быстро овладел своим настроением, приняв повадку профессионала-торговца. Послышались приглашения купить самые лучшие папиросы, кошельки и пр., с этими возгласами он приблизился к нам, развернув весь свой красиво уложенный товар. Торгуясь и рекомендуя купить один предмет за другим, он тут же в промежутках сообщал нужные для других работников результаты наблюдений, тщательно им проверенных, или точно замеченных отклонений от раньше виденных.
С этих пор наши встречи в И. П. происходили в большинстве случаев в обстановке сейчас описанной, где-нибудь на улице; но в праздники он решался на свидание в каком-нибудь плохоньком, третьеклассном трактире. Там мы садились в самый укромный, в самый отдаленный уголок, пили чай вприкуску, медленно, с отдыхом. Когда же приходили другие работники, место в трактире занимали более фешенебельное, как настоящие мещане-торговцы. Шумно и весело велись рассказы самого фантастического характера. Народ был все молодой, жизнерадостный, красивый отвагой и беззаветными жертвенными порывами. Иван Платонович тогда в своей компании больше всех острил и смеялся раскатисто, заразительно. У всех у них была одинаковая приблизительно жизнь в углах, одна работа и одинаковый конец. Иван Платонович всегда вносил в общее настроение значительную дозу бодрости, увлекающей красоты подвига.
Однажды, опять мы «поэта» встретили около Исаакиевского собора, на людной и чистой от «шантрапы» улице. Лоток его на этот paз был уже заполнен фруктами. Красивыми ромбами были разложены персики, горевшие издали ярко-красным цветом. Приблизившись близко, он громко выразил радость встречи непредвиденной, такой для него радостной, и как бы желая подкрепить им сказанное, он пригоршнями начал сыпать нам фрукты, сообщая свою полную победу в изысканиях, свою уверенность близкого конца напряженной и трудной для всех жизни. Между тем, городовой уже заприметил остановившегося торговца не в указанном месте и быстро направился с окриком: «пошел, пошел». – «Поэт, – предупредила Дора, – на вас устремился блюститель закона, берегитесь».
– «Э, черт дери!» – ругнулся поэт, быстро исчезая за поворотом улицы со своими прекрасными товарами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.