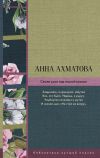Текст книги "Анна Ахматова. Психоанализ монахини и блудницы"

Автор книги: Екатерина Мишаненкова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности – чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, – мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой – таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…
(Ахматова «Anno Domini»)
Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. <…>
Товарищ Сталин неоднократно указывает на то, что важнейшим условием нашего развития является необходимость того, чтобы каждый советский человек подводил итог своей работы за каждый день, безбоязненно проверял бы себя, анализировал свою работу, мужественно критиковал свои недостатки и ошибки, обдумывал бы, как добиться лучших результатов своей работы, и непрерывно работал бы над своим совершенствованием. К литераторам это относится в такой же мере, как и к любым другим работникам. Тот, кто боится критики своей работы, тот презренный трус, не достойный уважения со стороны народа. (Бурные аплодисменты.) <…>
Все мы любим Ленинград, все мы любим нашу ленинградскую партийную организацию как один из передовых отрядов нашей партии. В Ленинграде не должно быть прибежища для разных примазавшихся литературных проходимцев, которые хотят использовать Ленинград в своих целях. Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог. Они хотят видеть в нем олицетворение иных общественно-политических порядков и иной идеологии. Старый Петербург, Медный всадник как образ этого старого Петербурга, – вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград как передовой центр советской культуры. Славная когорта великих революционных и демократических деятелей, вышедших из Ленинграда, – это наши прямые предки, от которых мы ведем свою родословную. Славные традиции современного Ленинграда есть продолжение развития этих великих революционных демократических традиций, которые мы ни на что другое не сменяем. Пусть ленинградский актив смело, без оглядки назад, без «подрессоривания» проанализирует свои ошибки, чтобы как можно лучше и быстрее выправить дело и двинуть нашу идейную работу вперед. Ленинградские большевики должны вновь занять свое место в рядах застрельщиков и передовиков в деле формирования советской идеологии, советского общественного сознания. (Бурные аплодисменты.) <…>
Как бы буржуазные политики и литераторы ни старались скрыть от своих народов правду о достижениях советского строя и советской культуры, как бы они ни пытались воздвигнуть железный занавес, за пределы которого не могла бы проникнуть за границу правда о Советском Союзе, как бы они ни тщились умалить действительный рост и размах советской культуры – все эти попытки обречены на провал. Мы очень хорошо знаем силу и преимущество нашей культуры. Достаточно напомнить потрясающие успехи наших культурных делегаций за границей, наш физкультурный парад и т. д. Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной или занимать пассивно оборонительную позицию! <…>
Несмотря на то что я все это уже читала, пусть частями и в пересказе журналистов, ощущение было мерзкое. Мешанина пустых лозунгов и таких же пустых обвинений, которые казались смешными даже мне, мало знакомой с творчеством Ахматовой. Точнее, это было бы смешно, если бы у доклада был другой автор. А над речами Жданова особо не посмеешься…
Я неловко повернулась, столкнула локтем пресс-папье и сама едва не подскочила на месте, когда оно с грохотом упало на пол. Сердце заколотилось так, что, кажется, вот-вот выскочит.
– Таня, что у тебя за шум? – раздался из-за двери голос Андрея.
– Ничего особенного, пресс-папье уронила, – громко ответила я и вновь разозлилась на свой дрожащий голос. Шалят нервишки, впору самой к кому-нибудь из коллег-психиатров идти, раз при мысли о товарище Жданове руки трястись начинают. Хотя, подозреваю, они у всех трясутся, просто все молчат…
Так, хватит! Подобные мысли даже в голову допускать нельзя. И вообще, я читала этот отвратительный доклад не для того, чтобы размышлять о мировой справедливости или ситуации в обществе.
Я вновь внимательно изучила текст, стараясь абстрагироваться от эмоций и вникнуть в суть, понять, что именно и зачем было сказано. Жаль, я никогда особо не интересовалась предреволюционными поэтами. Но кажется, Мережковский и Гиппиус умерли в эмиграции, а Белый вернулся и умер спустя несколько лет в Советском Союзе. Его вроде бы не печатали, но и не преследовали. В голове всплыли какие-то смутные воспоминания, кажется, Андрей мне что-то про это рассказывал еще до войны.
– Андрюша, – я вновь заглянула в спальню, – прости, милый, что снова отрываю от работы. Но ты не помнишь случайно, ты когда-то рассказывал мне что-то об Андрее Белом.
– Что-то когда-то? – фыркнул он, но все же задумался. – Наверное, речь шла о его некрологе.
– Он был какой-то необычный?
– Еще бы! – Андрей огляделся, словно надеясь, что нужная газета окажется под рукой. – Нет, уже не найду, это надо в архиве копаться. Я уже не помню подробностей, но суть в том, что Пастернак написал, а «Известия» напечатали о нем такой некролог, какого и лауреаты Сталинской премии не всегда удостаиваются. Его там называли гением, превзошедшим Брюсова, Сологуба и всех прочих символистов.
– Спасибо… – медленно сказала я, обдумывая услышанное.
– Ты считаешь, что Жданов не зря о нем упомянул? – заинтересовался Андрей.
Пришлось честно признаться:
– Я не уверена. Но думаю все же, что раз он сравнивает ее с поэтами, которых просто решено предать забвению, а не с Гумилевым или… – Я хотела назвать Заболоцкого, но вспомнила, что его опала уже кончилась и он не только вернулся из лагеря, но, кажется, даже восстановлен в Союзе писателей. – Ну… Бабелем, например. Так что твоя теория насчет ее будущего мне кажется все более и более вероятной.
– Думаешь, это временная опала?
– Думаю, ее хотят хорошенько приструнить, показать ей ее место. И неудивительно – ты бы ее видел, она даже сейчас держится как королева. Представляю, как многих она этим раздражает.
– Решили, значит, сбить спесь… – с интересом протянул Андрей. – Эх, жаль, что я не могу с ней познакомиться!
– Даже не думай! – испугалась я. – Карьеру погубишь! Это я могу общаться с опальными поэтами, да и то лишь по работе.
Андрей вздохнул.
– Конечно, я не собираюсь. Просто так сказал. Только тебе.
Я удовлетворенно кивнула. Его вечная жизнерадостность слишком часто бывает похожа на легкомыслие. К счастью, это только видимость, на самом деле он достаточно практичен и очень дорожит своей карьерой.
Вернувшись в кабинет, я вновь взяла папку с докладом Жданова, но перечитывать его уже не стала. Самое важное я из него, кажется, уже вычленила. Ахматова кому-то очень сильно не нравится. Не мешает – тогда бы ее просто уничтожили. Именно не нравится, раздражает, вызывает желание унизить.
Это и есть главная цель устроенного публичного осуждения. Что-то вроде средневекового позорного столба, когда человека привязывали в центре площади и все хулиганы и мерзавцы бросали в него тухлые яйца, а то и камни.
Может быть, я и не права, это только теория, и таковой она и останется – вряд ли я когда-нибудь узнаю правду. Но я была почти уверена, что дальше публичного унижения дело не пойдет. Ахматова привязана к позорному столбу, теперь ее еще долго будут обливать грязью, трусливые «друзья» от нее разбегутся, работы у нее не будет. Что ей останется – умирать с голоду или просить о милости. В любом случае спесь с нее, как правильно сказал Андрей, собьют.
Глава 2
– Доброе утро, Фаина Георгиевна. – Ровно в десять утра я уже стояла на пороге с бутылкой довоенного коньяка, которую удалось выпросить у Андрея. – Как вы себя чувствуете?
Вопрос сорвался с языка сам собой – выглядела она очень плохо. Хотя мы ведь не виделись несколько лет, к тому же военных лет, чего еще можно было ожидать. К счастью, на ее знаменитом юморе время никак не сказалось.
– У меня отвратительные паспортные данные, – с неподражаемым трагизмом в голосе заявила она. – Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула…
Впрочем, ее бодрость оказалась все же наносной. Через несколько минут и несколько глотков коньяка она загрустила и заговорила о том, чего я от нее и ждала, – об Ахматовой.
– Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: «Вы мой поэт», – извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты…
Кажется, ей надо было выговориться. А кто может быть лучшим слушателем, чем врач-психиатр? Не говоря уж о том, что мы обе знали – об Ахматовой я сейчас буду слушать что угодно и сколько угодно. Взгляд со стороны мне очень пригодится.
Не исключала я и вероятности, что Фаина Георгиевна кроме всего прочего хочет создать у меня тот образ Ахматовой, который ей нужен. Она ведь очень умная, куда умнее, чем предпочитает казаться, и к тому же великая актриса, может убедить в своей искренности любого. Но в любом случае менее ценными ее откровения от этого не становились.
Мне оставалось только слушать и пытаться вычленить из ее слов главное.
«…Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружим, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно…»
Я вспомнила величественную даму с проницательным взглядом из-под седой челки, изящными движениями красивых рук и королевской осанкой. Да, это вполне правдоподобно, верю, что все знакомые обращаются к ней исключительно на «вы». И несомненно, это очень многих выводит из себя.
«…Она великая во всем. Я видела ее кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда ее терзали.
А какая она труженица: и корейцев переводит, и Пушкиным занимается…»
Вот тут попробуй пойми, что это – слепое обожание или факты. Но Пушкина я взяла на заметку, если он действительно интересует Ахматову, то вот и тема для разговора.
«…В Ташкенте Анна Андреевна писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней происходит сейчас. Потом пьесу сожгла…
В пьесе был человек, с которым героиня вела долгий диалог, которого я не поняла, отвлеченный, философский, и по словам Анны Андреевны, этот человек из пьесы к ней пришел однажды, и они говорили до рассвета. Об этом визите она часто вспоминала, восхищаясь ночным собеседником…»
Тут Фаина Георгиевна слегка запнулась, решив, видимо, что сказала лишнее – психиатр может и неправильно понять подобный разгул поэтического воображения. Поэтому она сразу перевела разговор на недавние события – их жизнь в эвакуации.
«…Анна Андреевна была бездомной, как собака.
…В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.
– Я буду вашей мадам де Ламбаль, пока мне не отрубили голову – истоплю вам печку.
– У меня нет дров, – сказала она весело.
– Я их украду.
– Если вам это удастся – будет мило.
Большой каменный саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? Деньги это еще не все».
Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.
– А я сейчас встретила Платона Каратаева.
– Расскажите…
«Спасибо, спасибо», – повторяла она; это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели.
Никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она…»
Я слушала не прерывая. Мадам де Ламбаль? Кажется, это приближенная королевы Марии-Антуанетты. Интересно, сама Ахматова тоже чувствует себя королевой, или это личный взгляд Фаины Георгиевны? Я в очередной раз подумала: неудивительно, что Ахматова кого-то так сильно раздражает. Даже когда она бездомная и голодная где-то в Ташкенте, она все равно королева, и самая знаменитая артистка СССР топит ей печку и варит картошку.
«…Однажды в Ташкенте Анна Андреевна написала стихи о том, что, когда она умрет, ее пойдут провожать: «Соседки из жалости – два квартала, старухи, как водится, – до ворот», – прочитала их мне, а я говорю: «Анна Андреевна, из этого могла бы получиться чудесная песня для швейки. Вот сидит она, крутит ручку машинки и напевает». Анна Андреевна хохотала до слез, а потом просила: «Фаина, исполните «Швейкину песню»!»
Вот ведь какой человек: будь на ее месте не великий поэт, а средненький – обиделся бы на всю жизнь. А она была в восторге… Была вторая песня, мотив восточный: «Не любишь, не хочешь смотреть? О как ты красив, проклятый!!!» – и опять она смеялась.
Там, куда приехала Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей во время войны, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Собаку загоняли в будку. Потом при виде Анны Андреевны собака пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло: «Обратите внимание, собака при виде меня сама уходит в будку».
…Маленький Алеша, сын Ирины Вульф, в то время, когда она у нас обедала, долго смотрел на нее, а потом сказал, что она «мировая тетя». Анна Андреевна запомнила это настолько, что, когда мальчик подрос, с огорчением сказала мне: «Алеша будет знать обо мне теперь из учебника по литературе…»
…В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня!» Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. «Сжала руки под темной вуалью» – это тоже мои Мули», – ответила она.
Я закричала: «Не кощунствуйте!»
Признаться честно, на этом моменте я слегка смутилась и мысленно поставила себе еще одну галочку – обязательно найти и прочитать сборник стихов Ахматовой. Хоть какой-нибудь. Потому что я у нее тоже знала только «Сжала руки под темной вуалью» и еще «Сероглазый король», да и то не как стихотворение, а как романс, который был у нас на пластинке. Правда, добыть сейчас ее книгу будет непросто, ведь не спросишь никого – все отопрутся, скажут, что не держат дома таких «реакционных» авторов.
Хотя что это я, неожиданно поглупела, что ли? Надо у Фаины Георгиевны попросить! Перед уходом, конечно, а пока нельзя сбивать ее с рассказа.
«…У нее был талант верности. Мне известно, что в Ташкенте она просила Лидию Корнеевну Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне.
…Часто замечала в ней что-то наивное, это у Гения, очевидно, такое свойство. Она видела что-то в человеке обычном – необычное или наоборот…
Ахматова чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают в ней Гения? Нет, наверно.
…Как-то Анна Ахматова за что-то на меня рассердилась. Я, обидевшись, сказала ей что-то дерзкое. «О, наша фирма – два петуха!» – засмеялась она.
…В Ташкенте мы обе были приглашены к местной жительнице, сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много месяцев, она говорила: «А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно. Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда», – рассердилась она.
Однажды я спросила ее: «Стадо овец… кто муж овцы?» Она сказала: «Баран, так что завидовать ему нечего». Сердито ответила, была чем-то расстроена…»
Ненавидит именно Фрейда или весь психоанализ? Это важный вопрос, жаль, его никому не задашь. Ахматова слишком умна, чтобы не понимать, что пусть я и называюсь психиатром, но моя работа во многом связана именно с психоанализом. Только открыто об этом говорить нельзя, потому что советская наука – это психиатрия, а психоанализ – буржуазная лженаука.
– Вы меня не слушаете? – вдруг сказала Фаина Георгиевна.
В ее голосе звучало сильное негодование, я даже испугалась, что она меня сейчас выгонит.
– Нет, что вы! – поспешила я заверить ее. – Наоборот! Вы рассказываете такие важные вещи, а я не могу их даже записать. Приходится сразу анализировать в уме и пытаться все запомнить, а это очень тяжело.
Она смягчилась и сказала:
– У меня есть некоторые записи о ней. В черновиках. Я могу дать вам их на время.
– Обещаю, что кроме меня их никто не увидит, – тут же сказала я. – Вы бы очень мне этим помогли.
Она не стала вызывать домработницу, ушла в соседнюю комнату и сама принесла оттуда папку с бумагами. Не в силах сдержать любопытство, я сразу туда заглянула и обрадовалась:
– Вы пишете мемуары?
Я знала, что ее давно уговаривают написать историю своей жизни, но прежде она всегда отказывалась это делать.
– Пытаюсь, – она усмехнулась. – Пока не выходит. Писать о себе плохо – не хочется. Хорошо – неприлично. Значит, надо молчать. К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке.
Возникла неловкая пауза, как это часто бывает, когда иносказательно говорят о чем-то запрещенном. Я положила папку в сумку и решительно сказала:
– Фаина Георгиевна, давайте говорить прямо. Вы ведь чего-то от меня хотите? Чего именно? Чтобы я помогла Ахматовой? Я сделаю все что смогу. Или вы хотите что-то узнать?
Она серьезно посмотрела на меня.
– Вам звонили, говорили о ней?
– Конечно, – кивнула я. – Но ничего секретного не поручали. Сказали, что нужно выяснить, есть ли у нее намерение покончить жизнь самоубийством или нет. И все.
Она снова помолчала и неожиданно заявила:
– Танечка, а вы не удивились, что Анну Андреевну направили к вам, а не к ленинградскому психиатру?
Как ни странно, это мне не приходило в голову. Похоже, меня хорошо вымуштровали – я даже не задумываюсь над тем, почему каких-то спецпациентов направляют именно ко мне. Раз присылают, значит надо, и все.
– Это вы сделали?
Она протестующе вскинула руки.
– Что вы! Разве мне такое под силу? Это сделали друзья Анны Андреевны, а я только дала им совет.
– Так чего же вы ждете от меня?
Фаина Георгиевна серьезно взглянула мне в глаза.
– Помощи. Анне Андреевне она очень нужна. – Она вновь помолчала, а потом с горечью продолжила: – Помню, как примчалась к ней после Постановления. Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала… В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Она молчала, я тоже не знала, что ей сказать. Она лежала с закрытыми глазами. Я видела, как менялся цвет ее лица. Губы то синели, то белели. Внезапно лицо становилось багрово-красным и тут же белело. Я подумала о том, что ее «подготовили» к инфаркту. Молчали мы обе. Хотелось напоить ее чаем – отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Это день ее муки и моей муки за нее. Об «этом» не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу. И подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала: «Сегодня хорошая газета, меня не ругают». И только через много дней вдруг сказала: «Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» И опять молчала… Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере». Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных дней спросила: «Скажите, вам жаль меня?» «Нет», – ответила я, боясь заплакать. «Умница, меня нельзя жалеть…»
Когда я уходила от Фаины Георгиевны, прижимая к груди сумку со страничками из ее черновиков и двумя томиками стихов, на пороге я столкнулась не с кем иным, как с самой Ахматовой. Правда, признаться честно, я ожидала этой встречи – ближе к концу нашего разговора Фаина Георгиевна стала все чаще поглядывать на дверь, потом вдруг в комнату просунула голову ее домработница и сразу вновь исчезла, а она резко начала прощаться со мной.
Ахматова окинула меня надменно-удивленным взглядом и вопросительно посмотрела на Фаину Георгиевну.
– Анна Андреевна, – ласково сказала та, – это Танечка, я знала ее еще ребенком, в Таганроге. Но она уже уходит.
– Здравствуйте, Анна Андреевна, – сказала я.
Ее взгляд стал задумчивым, а на губах появилась полуулыбка.
– Здравствуйте, Татьяна Яковлевна. – Она подала мне руку.
Кажется, лед был сломан.
Как мне хотелось остаться и поговорить – я уверена, что именно в тот момент Ахматова была бы со мной максимально искренна. Но увы, я хорошо понимала, почему Фаина Георгиевна устроила нашу встречу именно так – она приходит, а я ухожу.
Конечно же за Ахматовой сейчас следят, и уже вечером отчет о том, с кем она виделась, ляжет на чей-то стол, и кто-то, чьего имени я никогда не узнаю, наберет мой номер. Врачу-психиатру нельзя встречаться со спецпациентом вне больницы, если на то нет особого разрешения. И в данном случае за соблюдением этого правила, без сомнения, наблюдают с особой строгостью.
Пришлось раскланяться и поспешно спуститься во двор. Там я едва удержалась от того, чтобы оглядеться по сторонам – было очень интересно, кто следит за Ахматовой. Парень, курящий на скамейке? Молодая женщина с коляской? Или кто-то еще, кого я не заметила?
В любом случае мне сегодня позвонят. Ну да ладно…
* * *
Дома я открыла черновики Фаины Георгиевны, но, подумав, отложила их, решив сначала закончить с записями нашего разговора с Ахматовой. Завтра мне надо будет отдать их секретарю на расшифровку, поэтому дочитать и внести все пометки необходимо непременно сегодня.
«…Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.
В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.
Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.
В 1910 году 25 апреля старого стиля я вышла замуж за Николая Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.
Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа, которую описал Золя, была еще не совсем закончена. Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taveme du Pantheon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – большевики, а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.
Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие в мою первую книгу.
Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.
В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм. Вместе с моими товарищами по «Первому Цеху поэтов» – Мандельштамом, Зенкевичем и Нарбутом – я сделалась акмеисткой.
Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.
В 1912 году вышел мой первый сборник стихов – «Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.
1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев.
В марте 1914 года вышла вторая книга – «Четки». Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе…»
Так много о стихах и так мало о муже и сыне… Причем на память она явно не могла пожаловаться – запомнила же парижские штаны и социалистов, собиравшихся в неком месте, название которого я не поняла и записала примерно, на слух. Ну хорошо, о муже она могла просто бояться говорить, я уже привыкла к тому, что арестованных по политическим статьям родственников многие люди стараются не вспоминать, словно их и не было никогда. Но сын? Ведь вроде бы рассказывают, что она его любит. Или все-таки стихи ей дороже?
Я поспешила остановить поток размышлений. Нельзя делать выводы по первой беседе с пациентом, к тому же не доверяющим мне и даже в какой-то степени враждебно настроенным. Она разговаривала со мной лишь потому, что у нее не было другого выхода. Вот если… точнее, когда она пожелает хоть чуть-чуть раскрыться, тогда я смогу говорить более уверенно. А она раскроется, теперь, после сегодняшней короткой встречи, я была в этом практически уверена.
«…Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба… Там я написала очень многие стихи «Четок» и «Белой стаи». «Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.
К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успех, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал – книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.
После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году – книга «Anno Domini».
Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте»…»
Я отложила записи, достала книгу, которую дала мне Фаина Георгиевна, и раскрыла наугад.
Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть…
Как странно вот так сразу попасть на стихотворение о смерти. Или у нее их много? Я внимательно прочитала «Высокие своды костела» и задумалась. Речь идет о чьем-то самоубийстве, это несомненно. Но тон… тон мне не понравился. Чувство вины в нем смешивалось с каким-то торжеством романтизма в духе буржуазных романов XVIII века, которые ввели среди скучающей молодежи моду на самоубийства.
С другой стороны, книга 1923 года издания, а написаны эти стихи и того раньше, то есть Ахматова тогда была молода, романтична и следовала модным веяниям. А насколько такие увлечения молодости влияют на тягу к самоубийству в зрелом возрасте, увы, неизвестно, поскольку суицидологии у нас вроде как не существует, а значит, серьезные теоретические исследования по ней не проводятся.
Смешно и страшно, ведь мы вполне официально и с разрешения высших лиц партии занимаемся тем, чего вроде бы и нет, просто прикрывая это подходящим названием. Ведь формально суицидальной психологии у нас действительно не существует – все открытые исследования в области суицидологии были закрыты вскоре после революции, когда было официально заявлено, что при социализме отсутствуют социальные предпосылки для совершения самоубийств.
Я еще успела застать в самом начале своей работы сектор социальных аномалий при Центральном статистическом управлении, но довольно скоро его тоже закрыли, и изучение суицидологии перешло в руки психиатров, которым было приказано рассматривать склонность к самоубийству только как психическую патологию.
Как ученый я понимаю, что это был огромный шаг назад – мы вернулись к теориям начала XIX века, когда Доминик Эскироль впервые написал: «В самоубийстве проявляются все черты сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевно больные люди». Для его времени это был настоящий прорыв, но для середины XX века страшный регресс. Но какая разница, что я думаю, пусть даже то же самое думают все ведущие психиатры страны. Против линии партии идти бессмысленно. Остается одно – работать в разрешенных рамках, старясь только особо не навредить.
Сейчас все, кто подозревается в желании совершить самоубийство, подлежат обязательному направлению в психиатрические стационары для диагностики их психического состояния и лечения. И все делают вид, будто не знают, что врачи, работая с этими пациентами, пользуются не существующим и запрещенным психоанализом… Парадокс на парадоксе. Ну а те, кто никаких признаков не проявлял, а просто покончил с собой, считаются все равно сумасшедшими, которых врачи проглядели…
Я со вздохом пролистала несколько страниц и вновь зацепилась взглядом за строки о смерти.
Тихий дом мой пусть и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.
А заканчивалось стихотворение словами:
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.
Я закрыла книгу и задумалась. Итак, у меня в руках стопроцентное доказательство того, что Ахматова думала о самоубийстве. Серьезно или не очень, по собственному почину или поддаваясь общей моде, но она об этом думала. Стихотворение датировано 1912 годом, а то, предыдущее – 1913-м. Значит, придется подробнее поговорить об этих годах. Вышла замуж, родился сын, и где-то в то же время произошло какое-то событие, заставившее ее носить с собой шнурок или хотя бы представлять, что носит.