Текст книги "Девочка с Патриарших"
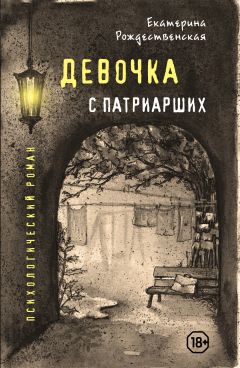
Автор книги: Екатерина Рождественская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Об этом дяде Нина ничего маме так и не сказала. Зачем? Во-первых, он не сделал ей ничего плохого, а только грустно улыбнулся и поправил бантик. Во-вторых, если рассказать маме, то она, как всегда, назовет ее балаболкой и выдумщицей, скажет, что она совсем еще маленькая, а уже пора взрослеть, пятый класс все-таки, и в результате просто не поверит, подумала Нина, а то еще и отругает. Поэтому решила просто об этом забыть, хотя, конечно, здорово было бы выдать кому-нибудь тайну о чужаке под окнами. Ну не Леле же, не Бабрите, не Ваське и тем более не Тимофею-механику из соседнего дома, уж ему-то точно никак открыться было нельзя. Устроил бы засаду, ночь бы не спал, караулил бы, а то и Нининой маме бы сказал.
Механиком, вернее, киномехаником, он был не всегда. Во время войны служил разведчиком, получил ордена и медали, но как-то раз подорвался на мине и хоть и выжил, но сильно покалечился. Но друзья-разведчики притащили его в госпиталь, там его зашили-подлечили и списали – в смысле, объяснили, что снова служить он не сможет, что все равно останется калекой. Лицо было обожжено, одна рука поднималась с трудом, из спины вынули много осколков, два еще осталось около позвоночника, да и левая нога уже не сгибалась – коленка была совсем раздроблена, хоть срослась кое-как, чему врачи вообще удивились. Но за двадцать-то лет, прошедших с Великой Отечественной, Тимофей, благодаря неуемной работе и упражнениям, стал почти как все, со стороны трудно было даже заметить, что с ним что-то не так. Все его во дворе очень уважали и за военные заслуги, и за удивительную душевность, которой он окутывал любого, кто к нему обращался. Мимо людей никогда не проходил, всегда во все вникал, и не из простого любопытства, а чтобы понять, разобраться и помочь. Нина выделяла его из всех и не раз к нему обращалась.
Однажды голубиный птенец свалился к ней с небес прямо под ее окошко и затих. Вроде живой, но весь какой-то обмякший, лапки поджаты, лежит как дохляшка, встать не в силах. Только на шейке перья топорщатся и двигаются туда-сюда. Нина по их движению и поняла, что жива еще пташка. То ли кошка гнездо разворошила на крыше, то ли летать он решил начать не вполне удачно, неизвестно, но оказался прямо у гигантского Нинкиного сорняка. Нинка поохала для начала, покудахтала, держа ребенка-голубенка в ладошках, но как увидела, что он глазенки своими серыми пленочками закрыл и окончательно весь застыл, то помчалась сразу к дяде Тиме, надо же было животину спасать! А к кому же еще бежать? Мама как комок перьевой увидела у Нины в руках, сразу запричитала, унеси это из квартиры, кричит, от этого одна зараза, голуби разносчики инфекций, чтоб я его здесь не видела… Нина ничего другого и не ожидала. Мама живность не любила, ни кошек, ни собак не разрешала заводить, даже ежика не позволила в дом внести, которого Нина привезла однажды с дачи. Только Игорьсергеича завела. Но какой от него был прок? Может, для мамы и был, но для Нины? Хотя она ждала, что вот-вот мама разрешит, еще немного, еще чуточку и позволит кого-нибудь завести после того, как впустила Игорьсергеича со своими лыжами к ним в дом. Но нет, ничего такого не произошло.
Нина очень страдала без друзей. Часто представляла, как бы она гуляла с собачкой по Патриаршим или как бы играла с котеночком, ну пусть хоть мышка жила бы у нее в клетке. Хотя, конечно, мама и мышка… Ну, в общем, побежала она тогда с находкой к Тимофею – он, к счастью, дома был. Осмотрел детеныша, покачал головой: контуженный, говорит, и сильно – прям как я в свое время. Оставь его в покое, травки сухой подложи – только не свежей, свежая холодная, все тепло из голубенка вынет, и тот помрет сразу. Так и сделали. А как птенец чуть встрепенулся, заморгал и с удивлением стал смотреть на Тимофея, тот быстро его схватил, положил вместе с сеном в круглую коробку из-под конфет и потащил на крышу к голубям-родителям.
– Может, оставим? – заныла Нина. – Дядь Тим, домашний голубь будет. Я из него почтового сделаю, письма будет носить… Их же можно научить? Раньше же такое было? Ну когда-то вместо почты использовали же голубей, ну дядь Тим…
– Нинок, не выкормим мы его, никак не выкормим, его голубка должна кормить своим молочком, – стал объяснять Тимофей.
– Ой, а мы такого не проходили, – удивилась Нина. – У птиц разве бывает молоко?
– Ну так называется, у голубки оно специальное, из зоба, – сказал Тимофей. – Где мы его возьмем? Помрет голубенок с нами, пусть к мамке идет.
Отнес его тогда на крышу, примостил у трубы, загородил чем попало со всех сторон, чтоб еще раз не свалился, и стали они с Нинкой следить снизу, чего дальше будет. Недолго пождали: прилетела мамка, зарадовалась детенышу, затрепетала крыльями, как и всякая родительница, и примостилась рядом кормить свое чадо.
В общем, хороший Тимофей был, положительный, на него всегда можно было рассчитывать. Но ему-то точно нельзя было сказать про дядьку, поднял бы всех на уши, а попало бы, как всегда, Нине. Поэтому через день-два Нина и сама забыла о ночном визитере, вернее, «писальщике», как она его для себя назвала. И как только забыла, он появился снова.
Он как угадал, когда прийти.
Мамы с Игорьсергеичем не было дома, они ушли на очередную премьеру, а Нина делала уроки. Был уже разгар сентября, но вполне тепло, прело и сухо. Бабье лето как-то по-бабьи заправляло во дворе: обдувало теплым ветром сушащееся белье, прибивало по углам пыль, иногда вдруг вздорно поднимая ее в воздух, загадочно шептало листьями старой чудом сохранившейся липы посередине двора. Был уже вечер, не поздний, но темнеющий, окошки в дворовых домах уютно горели живым желтым светом, многие были настежь распахнуты и, как всегда, слышалась негромкая и печальная музыка из радио, которое тетя Труда ставила на подоконник для оживления дворовой атмосферы. Ей казалось, что так правильней.
Она жила высоко над землей, и в ее маленькой квартирке всегда висел запах древней невыветриваемой затхлости, старых, выдохшихся еще в молодости духов, книжной пыли, хотя и книг-то особо не было, человечьего сала и жареного лука. Этот букет был необъясним, но постоянен. Тем более лук она никогда не жарила.
Тетя Труда была смешная. Нине особенно нравилась ее прическа: она носила на голове башню, которую, как себе придумала девочка, раз в неделю, не чаще, сооружали домашние гномики, пока тетя Труда спала. Разбирали немного спутанные волосы на пряди, потом запутывали, пыхтя, каждую прядь еще сильнее и наконец – ррраз! – одновременно сбегали все к центру головы, чтобы эту новую вавилонскую башню закрепить. Но кто-то из гномиков работал не слишком прилежно, и поэтому Трудина прическа всегда выглядела всклокоченной. Некоторые пряди отказывались закрепляться на верхушке и нехотя падали к богатырским плечам. Но вообще Труда была хорошей. Мама Варя ее ценила, с удовольствием и уважением с ней общалась и пользовалась ее советами, но немного брезгливо относилась к тому, чем она занимается.
Тетя Труда была спекулянткой. Нина не до конца понимала, что это конкретно за профессия, но мама как-то объяснила, что это просто торговка. «Продавщица, что ли?» – спросила Нина. «Нет, именно торговка», – резко ответила мама. И все, и дальше не последовало никаких уточнений. А Лелька, добрая душа, объяснила, что Трудин брат-близнец уехал за границу, осел там, как тесто, и присылает теперь сеструхе тряпки, которые она с энтузиазмом толкает соседям. На это и живет. Тряпки были яркими и броскими, но какими-то несвежепахнущими и ношеными на вид. Тем не менее торговля шла бойко, и, когда раз в месяц или два большая Труда шикарно въезжала во двор на такси и водитель вытаскивал на свет божий два огромных чемодана, все старались оказаться первыми, чтобы отобрать лучшее. Кто-то из соседских мужиков обязательно помогал Труде с чемоданами и вволакивал их на третий этаж в маленькую квартирку, хотя она и сама спокойно могла их допереть. Но все-таки иногда вспоминала, что как-никак женщина и ни к чему было еще раз всех убеждать в своей вечной самодостаточности. Труда отдувалась, будто сама притащила чемоданы, утирала пот со лба и запиралась на все замки, чтоб никто ненароком не пролез в щель без очереди. Лестница уже наполнялась жаждущими соседями, которые мирно ждали, поскольку звонить и стучать было бесполезно.
– Сейчас, только расставлю экспозицию! – кричала она через дверь желающим и, мощно пыша гормонами, в основном адреналином, а местами и тестостероном, распахивала чемоданы. Мужского в ее облике было все-таки чуток больше.
Экспозиция раскладывалась довольно долго и тщательно. Во-первых, Труда старалась как можно выгоднее развесить по квартире товар, во‑вторых, хотела непременно примерить понравившееся сама.
Но сначала она скидывала с себя всю одежду и надевала китайский халат, который приехал в самой первой посылке много лет назад и с тех пор стал ее любимой бессменной домашней одеждой. Хотя, взяв его в руки, она обычно секунду мешкала, вспоминая, какой сегодня день, ведь три дня, начиная с понедельника, она носила его на яркой парадной стороне, а утром в четверг торжественно выворачивала халат наизнанку и надевала уже на «чистую» сторону. В воскресенье стирала, ведь Гертруда Николаевна считала себя чистюлей. И так из недели в неделю. Ярые белые соцветия на коричневом фоне халата активно распускались на Трудиных телесах, прикрывая собой все, что по-боевому выпирало. К середине недели, а точнее, в четверг цветы – а это были крупные хризантемы с зелеными листочками – мутнели, грустнели, тускнели, теряли свою былую привлекательность и как бы растворялись в изнаночной дымке. Зато на свет божий неистово вылезали драные кривые швы, которые, казалось, ждали выхода в люди и победно топорщились всеми своими неистребимыми китайскими нитками, образуя игривый колышащийся ореол вокруг обширного Трудиного организма и делая его тем самым еще крупнее. Труда подпоясывалась широким самодельным кушаком, который не имел изнанки, и шла сортировать товар по комнатам.
Иногда в этом ей помогала подруга, специально приезжающая в дни поставок из Конакова, а поскольку такой выезд считался праздничным – а как же, Москва, центр, заграничные вещи, выход в люди, – то и одевалась она в нарядное, и это нарядное было всегда одним: розовым гипюровым платьем, бежевый чехол которого заканчивался очень рано. Платье, видимо, было прикуплено у той же Труды и очень нравилось подруге, даже не оно само, а то, как к нему присматривались мужчины, стараясь разглядеть под полупрозрачными розовыми завитушками кружев просветы увядающей кожи. Подруга занимала кресло в углу комнаты, чтобы был побольше обзор, бесстыдно садилась ногу на ногу и следила за примеркой, как за спектаклем в театре. А когда раскрасневшаяся после примерки публика несла отвоеванную вещичку Труде, чтобы купить, тетка в вечно розовом подбадривала народ зычным голосом:
– О-о-о-о-о, пошла вода гор-р-рячая! – так, видимо, выражая свое довольство.
В большой комнате – «зале», как называла эту спичечную коробку Труда, – они вывешивали женскую одежду, а в спаленке – мужскую. Труде было приятно, что в ее девичьей перебывало, раздевалось и красовалось перед зеркалом так много мужчин. Ночами осознание этого подводило ее через возбуждение к крепкому безмятежному сну: ей представлялись все мужчины разом, которые переодевались у нее в спальне. Они молча и деловито стояли плечом к плечу вокруг кровати, на которой лежала разомлевшая от плотских фантазий Труда. Мужчины в ее грезах были разные, словно на ВДНХ – длинные и кургузые, постарше, а значит, поопытнее, и поюнее, а значит, совершенно необузданные и во всех отношениях крепенькие, красивые и с изъяном, романтичные и суровые, военные и гражданские – всякие, на любой вкус и желание. Она мечтала то об одном, то о другом, выхватывая какой-то понравившийся образ из этой молчаливой массы мужиков, и ей казалось, что она уже слышит совсем у уха его хриплое прокуренное дыханье и протяжный животный стон, видит, как все остальные на нее смотрят, все так же молча и заинтересованно, и она спокойно и счастливо засыпала, стерев границы между волшебными снами и своей обычной одинокой жизнью в халате.
Радио тети Труды мурлыкало что-то приглушенно-приятное. Нине нравились ее вечерние мелодии, песни про любимый город может спать спокойно и ну что сказать вам, москвичи, на прощанье. Они настраивали на спокойный лад, всегда шли фоном, шепотком, их вроде и не надо было специально слушать, они жили своей воздушной жизнью и были неотъемлемой частью дворовых звуков.
Нина взяла недочитанного «Робинзона Крузо» и села на подоконник, свесив ноги в комнату. Она опиралась спиной о холодное окно, которое вскоре стало таким же теплым, как и она сама, читала про Пятницу, теплое море, умницу Робинзона, про всякое такое, чего она ни за что на свете не смогла бы сделать сама, в одиночку, а он – надо же! – додумался, добился и выжил, молодец!
Стекло приятно холодило спину. Нина представляла себя на необитаемом острове. Боже мой, как бы она плакала, если бы осталась совсем одна, без родителей, как бегала бы, спотыкаясь, по теплому песчаному берегу, высматривая живую душу хоть в море, хоть на суше, как не радовали бы ее миллионы звезд, рассыпанные по глубокому бархатному небу, которые она толком и рассмотреть не могла бы сквозь слезы. Нина горько всхлипнула, утерла навернувшуюся слезу и вдруг непонятно почему резко обернулась.
Прямо за ее спиной сидел он. Писальщик. Нина узнала его по длинным черным волосам. Он сидел к ней спиной, не оборачиваясь, привалившись своими широченными плечами к зарешеченному окну и чуть склонив голову набок. Нина вскликнула и отшатнулась. Сколько времени они просидели так спина к спине? Как это он подкрался, что никто, и она в том числе, не услышал его бесшумных кошачьих шагов? Почему родной двор снова пропустил чужака?
Нина пружинисто, как чертик из табакерки, спрыгнула с подоконника, отбросив книжку на пол, та раскрылась и осталась лежать, нехотя шевеля страницами. Нина отскочила к кровати и еще раз искоса, как пока еще не пойманный зверек, взглянула на окно. Казалось, ничего страшного: в комнате мирно горел свет, игрушки аккуратно сидели на подоконнике, по старшинству, чин по чину, занавески были раздвинуты и обнажали окно, где, как на сцене, спиной сидел человек на фоне темной заплесневелой кирпичной стены. Его прямые черные волосы до плеч плавно перетекали в эти самые плечи, затянутые черным плащом, и в темноте было не видно, где заканчиваются волосы и начинается плащ. Нина с ужасом смотрела на эту страшную темную застывшую фигуру. Да и сам Писальщик рассматривал, улыбаясь, свое зловещее отражение, которое отбрасывало его силуэт на крышу котельной у ног, – оно напоминало головоногое осьминогоподобное существо из океанских глубин, застывшее посреди желтого квадрата окна с черными переплетами рам. Мужчина ухмыльнулся, качнулся чуть вправо, потом чуть влево, любуясь движениями осьминога, и медленно, словно через силу, стал поворачивать голову, ища глазами девочку и мечтая, наверное, чтобы и она тоже разделила его восхищение.

Нина стояла около кровати, вросшая от ужаса в пол и не в силах пошевелиться. Голова Писальщика поворачивалась медленно, как-то очень выверенно и нарочито, словно что-то обязательно должно будет случиться, когда он, наконец, остановит свой взгляд на девочке. Край его узкого рта, расплывшегося в улыбке, был уже виден и казался словно наклеенным на бледное и неживое лицо. Улыбка эта почти не менялась и лишь изредка, словно нехотя, ползла одним уголком вниз, как злая змейка, почуявшая угрозу. Мужчина лениво смерил глазами дерево-сорняк, застывшее у окна, внимательно посмотрел на плотную занавеску, охраняющую окно с одной стороны, на детский Нинин рисунок, висящий на стене в милой рамочке…
Нина стояла как вкопанная и не понимала, почему же ей так страшно – дядя просто на улице, не у нее же дома, в конце концов, просто сидит к ней спиной и снова просто улыбается. Но почему же она не может уйти, взять и уйти, исчезнуть? Ей очень захотелось броситься бежать, спрятаться в ванной, запереться там, включить воду, чтоб ухнула газовая колонка, и посидеть там в безопасности, успокоиться и отдышаться. Но Нина не смогла сделать ни одного движения, так и стояла, по-женски прижав руки к груди. Наконец мужчина довел свой заторможенный взгляд до девочки. Нине даже показалось, что он, скорей всего, болен и поэтому неспособен делать быстрые и резкие движения, ведь за эту минуту можно было уже обернуться много раз. Когда, наконец, он встретился с Ниной глазами, его улыбка еще больше расплылась по лицу, все еще не обнажив зубов. Улыбка все ползла и ползла, словно хотела навсегда уползти с этого бескровного лица. Нине стало нестерпимо жутко, но она не смогла понять почему, хотя очень старалась. И вдруг совершенно неожиданно для себя взяла и улыбнулась ему в ответ, ее же с детства учили быть вежливой и послушной девочкой. Это странное решение невольно отрезвило ее, она вжала голову в плечи, моментально сорвалась с места и через минуту уже сидела в ванной под замком, в полной кажущейся безопасности.
Горелка уютно попыхивала и пофыркивала, как домашнее живое существо или какой-нибудь домовенок, вода привычно лилась (Нина сразу включила все краны, чтобы не слышать, что происходит наружи), три зубные щетки разноцветно стояли в давно немытом стаканчике, все было спокойно и привычно, но Нина села на край ванны и горько, совсем безысходно заплакала. Не то что ей было уж очень страшно, нет – ей просто было безумно одиноко. Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь оказался рядом, кто-то свой, кому можно все выложить, с кем можно подкараулить улыбающегося Писальщика, если вдруг он придет еще раз, и навсегда прогнать. Она подставила руку под струю воды, поиграла с ней, стряхнула капли и села на пол ванной комнаты, прислонившись к стене. Мама с Игорьсергеичем придут не скоро, мама предупредила.
Нине пора было уже ложиться спать, но ей совсем не хотелось выходить из теплой уютной комнатки, где от горячего пара почти не было видно потолка, где мирным водопадом все журчала и журчала вода из крана, а красивая занавеска с невиданными цветами, прилипшая от мокрости к краю ванны, представлялась Нине сказочным тропическим лесом. Казалось, еще немного, и появятся птицы, которые летают где-то в занавеске, совершенно точно летают, но пока у них просто никак не получается вылететь наружу. «А вдруг и из зверьков кто-нибудь прибежит, – подумала Нина, – тут же тепло, как в Африке». Она смотрела в потолок, где клубились кучевые облака пара, заслоняющее тусклое лампочкино солнце, где на веревочных ветках уже пристроились колибри-бельевые-прищепки, где полотенце своим краем схватилось, как обезьянка одной лапой, за крючок, а мыло в коричневой мыльнице и вовсе лежало камнем, как спящая черепаха. Нина чуть улыбнулась, но даже и не знала, что улыбается, – она и сама спала.

Она лежала, неудобно свернувшись на коврике перед унитазом, и смотрела волшебный сон: вот она идет по джунглям, как в мультфильме «Маугли», на который они недавно ходили в кинотеатр с папой, вокруг висят лианы, по ним скачут обезьяны, очень похожие друг на друга, почти одинаковые, раскачиваются, смешно и гортанно кричат, вдалеке в синем небе парят огромные орлы, шпарит солнце, а она все идет и идет по высокой траве. С ветки на ветку гигантского дерева, усмехаясь, медленно перетекает питон Коа, словно показывая путь, и его зубастый и совершенно не змеиный оскал Нину пугает. Она перестает улыбаться, но вдруг видит грациозную Багиру, которая выходит из джунглей и напоминает ей какую-то известную артистку, черненькую такую, невозможно красивую – Наталью Фатееву, кажется. Багира мягко подходит к Нине, трется большой мордой о ее плечо, и они уже вдвоем идут дальше по густой траве. Коа торопит их, им куда-то надо прийти вовремя. Нина оборачивается и видит за собой много-много зверья, которое собралось со всего волшебного леса. Солнце садится, небо насыщенное и плотное, почти оранжевое, расплавленное. Они идут шумной, прыгающей, крадущейся, бегущей, ползущей, переваливающейся толпой к старому огромному дереву, кажется, баобабу, под которым кто-то сидит спиной.
Человек.
Но Нина не может различить, кто именно. Багира мягко подталкивает ее, Коа гипнотизирует взглядом. Вдруг все звери вокруг разом ударяют в непонятно откуда взявшиеся барабаны. Небо взрывается звуком, со всех ветвей с шумом взлетают птицы, и Маугли (а это именно Маугли, прямо как из мультика!) встает во весь свой большой рост спиной к Нине и смотрит куда-то вдаль. Барабаны бьют все сильней и быстрей, Нину подводят к Маугли совсем близко. Она смотрит на него снизу вверх, на его грязную, в лохмотьях, набедренную повязку: широкая спина с почти что нарисованными мускулами, черные патлатые волосы, разбросанные по плечам… Он чувствует, что девочка сзади, совсем близко, и под барабанную дробь начинает поворачивать к ней голову и почему-то очень медленно, словно ему больно.
Нина понимает, кто это, вот она видит его лицо, и оказывается, что это Писальщик – почти голый, очень большой и страшный. На нем капли пота или воды, которые медленно, как по стеклу, стекают ручейками по его коже вниз, в траву, и из того места, где он стоит, начинают подниматься по его голым ногам ростки плюща, которые ползут вверх, как живые змейки. Барабаны разрывают мозг, Писальщик улыбается и протягивает к ней руки, заросшие ядовитым плющом.
Нину вдруг обдало ужасом, горячим и пузырящимся, словно на нее плеснули ведро кипятка. Она закричала и проснулась.
– Нина, что с тобой? Открой! Открой, быстро открой, я тебя прошу! Что случилось?
Мама барабанила в дверь, крючок скакал как бешеный, и дверь ходила ходуном. Нина сначала не могла понять, что происходит, почему она лежит под унитазом, спаслась ли она от Писальщика, почему столько пара и не видно ни потолка, ни гудящей колонки – вообще ничего вокруг, и зачем так кричит мама. Она быстро вскочила, ничего еще толком не понимая, и открыла дверь.
Навстречу маме из туалета вырвались клубы пара, вслед за ними почти вывалилась ошарашенная и заспанная дочь и бросилась маме на шею, словно та только что приехала из какой-то долгой командировки.
– Что с тобой случилось? Что ты делала в ванной? И почему льется вода? – У мамы было вопросов явно больше, чем у Нины ответов.
– Все хорошо, мам, просто я чего-то случайно заснула. Пошла в ванную помыться и заснула, – сказала Нина.
– Как – заснула? В ванне? Ты понимаешь, что можно утонуть? Это же очень опасно, спать в ванне! А если бы я пришла позже, как бы я тебя спасла? Хорошо, что разбудила, а то еще немного, и я уже готова была выбить дверь!
– Да нет, мам, не волнуйся! Я же не в самой ванне заснула, а на полу… – попыталась Нина успокоить маму, но это удивило ее еще сильнее:
– А почему ты легла на пол? Почему не в кровать? Что-то случилось? Говори! Тебе завтра в школу, а ты ночью сидишь в ванной! Что с тобой происходит?
– Еще не ночь, я только что зашла…
– Посмотри на часы! Игорь, сколько времени? – крикнула мама.
– Два часа тридцать восемь минут! – Игорьсергеич был всегда до безобразия точен.
Нина от неожиданности вытаращила глаза. Два тридцать восемь! Она всегда, всю-всю свою одиннадцатилетнюю жизнь в это время спала и никогда еще не видела, как выглядят эти два тридцать восемь утра. Или еще ночи? «Как это странно, – подумала Нина, – я же только заснула и проспала совсем немного, несколько минут всего, а оказывается, уже глубокая ночь».
– Тебе скоро вставать и собираться в школу! Иди-ка быстренько ложись! Ты прямо удивила меня! Ну как же ты так?
Мама подгоняла ее в комнату. Шторы не были задернуты, и окно зияло пустотой, отбрасывая в ночь ровный желтый квадрат.
– А почему ты не задернула шторы? Первый этаж все-таки, мало ли кому что в голову взбредет! Сколько раз тебе повторять? Маленькая совсем? Нянька нужна?
Мама была усталой и расстроенной. Нине не хотелось ничего ей рассказывать – такое ее настроение ничего хорошего не сулило. Она пошла в постель, пока мама закрывала окно.
– Форточку оставить открытой? – спросила мама.
– Ой, нет, не надо! – Нина даже привстала с кровати. – Закрой все получше!
Мама странно на нее посмотрела, подошла, все еще расстроенная, поцеловала и вышла из комнаты, выключив свет.
Сентябрь уже уходил, бабье лето отступило, могучая липа стояла желтой горой посреди двора и пахла спокойным унынием. Нина часто выходила к ней – липа, высокая, старая и чудом сохранившаяся, была центром двора. Люди пользовали ее, но уважали. Летом сидели в тени, вдыхали сладкий до головокружения медовый запах смешных мохнатых цветков, слушали, как жужжат такие же мохнатые, как и цветки, всякие шмели и пчелки, купаясь в липовой пыльце, и поют на ветках птицы. Ствол использовали как одну из опор для бельевых веревок, а веревок этих было всегда в изобилии, и когда на всех висело белье, липа походила на огромную разноцветную карусель с колышущимися простынями, рубахами, брючатами и прочими предметами человеческой одежды и белья.
Ствол этот толстенный был еще и стволом – не доской, а стволом – объявлений местного дворового значения. Гвозди никто и никогда и не посмел бы вбить в родную шероховатую кору, это никому бы и в голову не пришло – записки подсовывались под бельевые веревки, опоясывающие дерево, и липа стояла словно в балетной пачке, составленной из многочисленных бумажек. Объявления писались по любому поводу:
«Отдам старый Машкин трехколесный велосипед» (уточнять, кто такая Машка, не было никакой необходимости, все друг друга знали).
«Нужна взаймы раскладушка, на неделю прибудет свекровь. Василий» (бедняга, видимо, то ли был выпимши, то ли плакал, когда писал записку: слова расплывались, и почерк был неровным).
«Жду желающих в пятницу с 17 до 21. Труда» (ясно, что брательник пришлет новую партию тряпок и что надо записываться в очередь на просмотр).
«Мурка снова нагуляла, видимо, от Живчика. Через неделю родим. Готовьтесь брать» (Мурка, известная дворовая кошка-блядища, или орала как резаная от желания, сзывая всех котов с округи, или рожала – другого состояния у нее не было).
«Дети! Если вам надо сдать макулатуру, обращайтесь! Отдам на благое дело!» (это точно объявление дяди Тимофея, у него этих журналов навалом – сам жаловался, что от них в квартире уже ступить некуда, сплошные «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Техника – молодежи»).
«Всемирно известный квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста!» (так мог написать ради шутки только главный дворовый похабник Серафим Карпеткин).
Объявления эти никто не срывал, поэтому юбочка из бумажек с годами все росла и росла, и, если захотеть, можно было найти записки чуть ли не десятилетней давности, чуть слипшиеся, но на которых вполне еще можно было различить чьи-то каракули, выведенные фиолетовым химическим карандашом. Нина провела тоненьким пальчиком по бумажкам, и они уютно зашелестели. «Надо будет и мне дать объявление, как взрослой, – подумала она. – Отдам свои детские игрушки в хорошие руки». Нельзя же старому Буратинке всю жизнь сидеть на подоконнике, очень это по-детски, мама права. Нина устроилась на качелях. Она чуть раскачивалась и смотрела на небо сквозь желтую листву. Получалось красиво. Брошенный портфель грустно валялся под окнами кухни – занести его было пока что лень.
Во дворе было тихо и пустынно, соседи еще на работе, потянутся домой не скоро. Нина совсем заскучала. Качаться на качелях ей не так чтобы сильно хотелось, но делать было особо нечего. Тишь да гладь, да божья благодать, даже мухи не летали – может, уже все на юг подались за птицами? Перелетные мухи – красиво звучит, и новое в науке, наверное, улыбнулась Нина. Соседи тоже все притихли, не звенел даже ангельский Лелин голосок, хотя так приятно было бы с ней сейчас поговорить. И дядя Тима не дома.
Скукота…
Домой тоже не очень-то спешилось – что там можно услышать кроме арии Ленского из оперы «Евгений Онегин»? Хотя и Онегин сейчас на работе. Нина смотрела через арку на улицу. Машины почти не проезжали, мимо лишь редко проходили люди, спешащие по делам, но никто даже не поворачивал голову в ее сторону. Нина все раскачивалась и раскачивалась, упорно глядя в арку, ведь должен же был кто-то появиться. Хоть кто.
Хоть кто и появился. Это и был сосед Серафим Карпеткин. Имя это не очень нравилось Нине, она не понимала, как оно звучит в усеченном виде – Сера, Серя? Некрасиво и неприлично, как ей казалось. Зачем вообще нужно было называть сына так, чтобы всю жизнь потом над ним смеялись. А если звать его Фимой, тогда он должен был быть Ефимом, и получалось какое-то воровство – присваивать себе чужое имя, он же не Ефим, а Серафим. Кто-то во дворе иногда называл его Симой, но это звучало совсем уж по-женски.
На самом деле Серафим был уже вполне стареющим дядей лет сорока, немного женственной внешности (видимо, имя все-таки повлияло на его облик) – крупным, рыхлым, с необъятным отекшим лицом и нимбом ангелоподобных кудряшек на затылке. Ходил он вперевалочку, уточкой, размашисто и неловко, словно его только что научили передвигаться.
Голос у Симы был довольно мелодичен и высок, он вполне годился бы для оперной сцены, если бы не был таким непредсказуемым: с его пухлых розовых губ постоянно срывались такие ругательства и словечки, что краснели даже ушлые мужики. Причем выливал он это все походя, не задумываясь, как помои из окна на голову, и сам удивлялся всегда реакции окружающих: а что? я что-то не так сказал? В разговорах с детьми был, конечно, помягче, но каждый раз покрывался капельками пота, сдерживая себя в выражениях и с усилием ища в мозгу слова, соответствующие приличию. Но детей почему-то любил.
В свободное от основной работы время Серафим рисовал у себя в мастерской (квартиру он называл «мастерской») грубые мужские торсы, считал себя художником незаурядным и недооцененным – скорее, совсем неоцененным. Жил в бывшей голубятне, кое-как переоборудованной под человеческое жилье, выше всех во дворе. К нему на верхотуру даже лифт не доходил, целый этаж надо было идти пешком. А работал он в мужском ателье закройщиком, с потаенной радостью и сладострастием ежедневно снимая мерки с потеющих мужиков, пришедших за приличными костюмами. А после, дома, рисовал свои фантазии, и почему-то в фиолетово-коричневых тонах. Как проводил вечера и выходные, где был и чем занимался, никто не знал – эта внедворовая глава его женоподобной жизни так и оставалась неопубликованной. Сам был внушительным, тучным, улыбчивым и чем-то походил на вдовствующую трагическую королеву с еврейскими глазами – то есть вполне обаятельным. Когда, конечно, молчал. И во дворе его по-своему любили, он считался местной достопримечательностью.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































