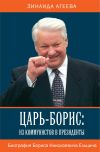Текст книги "Письма к Безымянной"

Автор книги: Екатерина Звонцова
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Он все глядел на меня, неотрывно, почти с отчаянием. Я глядел в ответ, но украдкой видел: в огне снова играет мальчик, а сестра лежит на углях, обращенная грудой осенней листвы. Мне было страшно, но что-то внутри, наоборот, будто вставало осторожно на место; от дисгармонии двух этих чувств хотелось сжать виски, закричать. Огонь на себя, помнишь? Я ведь и сам говорил, что вызываю его ради Николауса и Каспара.
– Это не оправдывает Вольфганга; того, как он сегодня… – Сальери с трудом подобрал слово помягче, – обидел вас. Но то, о чем я рассказал, изматывает его уже пару лет, добавьте к этому проблемы с деньгами, здоровьем… всем. Отец его по-прежнему полон желчи. А ведь минимум одной беды – с почками, суставами, сном – у Вольфганга не было бы, если бы в детстве их с Наннерль возили по концертам в более теплой карете и давали им чаще отдыхать. – Я скорее спрятал между колен руки, боясь, что на них остались следы карающей указки. – Вольфганг слаб: кроме новых вершин, ему не хватает самой простой поддержки.
– Но я мог бы быть ею! – жарко выпалил я и в тот же миг задумался, честен ли. От Сальери это не укрылось, но он не поднял меня на смех.
– А кто поддержит вас? – прозвучало грустно. – У вас впереди действительно долгий путь. Та великолепная импровизация… была ли она правда о Вольфганге или в какой-то степени – о вашей обиде? И как же резко она оборвалась…
Я лишь потупил голову и закрыл лицо руками. Я обессилел, онемел. Через несколько мгновений я услышал, как Сальери поднялся с кресла.
– Ладно… поздно, а я что-то совсем заговорил вас. Доброй ночи, мой юный друг. Завтра покажу вам город и представлю паре коллег. Возможно, даже император согласится принять нас на утреннее музицирование перед отъездом в Россию… только попрошу-ка я жену вас причесать, она с утра порывалась это сделать.
Отведя ладони от лица, я увидел его улыбку. И невольно улыбнулся в ответ.
Сальери оказался чудесным хозяином. В Вене я провел еще неделю, надеясь на две противоположных вещи: что мои раны заживут и что герр Моцарт передумает – последнего, впрочем, желало скорее глупое честолюбие, чем разум. Не произошло ни того, ни другого, и вот я собрался в путь, увозя в сердце лишь одно приятное впечатление – теплый итальянский дом. На прощание Сальери, успевший не раз послушать мою игру, предложил мне уроки, если я вернусь. Я не ответил ни отказом, ни согласием: не был уверен, что захочу возвращаться. Откровенно говоря, я вообще не был уверен, что хочу чего-нибудь. И только мудрые слова моего нового друга… они перекликались с ранее услышанными. С твоими.
У меня был свой путь. Своя река.
В карете я забылся тяжелым сном: стало скверно от тряски, да и от тревоги. Все горести первого дня, выпустив когти, набросились на меня, едва за окном замелькали невзрачные предместья Вены, угрюмые дома и обглоданные кости леса. А тебя, прежде так легко меня утешавшей и ободрявшей, все не было рядом. Мне снова снился костяной трон. Он стал выше, недосягаемее, но черный шлейф монаршего плаща по белому холму из черепов по-прежнему бежал к моим ногам.
– Кто ты?.. – крикнул я.
Сырая темнота засмеялась голосом Моцарта. Но король молчал.

В комнате снег. Крупные хлопья плачут шуршащими голосами, все гуще падают на грязный пол, на засаленную обивку софы, на плечи и волосы Людвига, сжавшего зубы. Опустившись на колени, он замечает на клочьях бумаги чернильные крючья нот. В буран обратилась едва начатая «Речная» соната ре минор, нежное адажио, незамысловатая молитва об удаче в пути и прощание с Рейном. Отец побывал здесь. Значит, и прочие неприпрятанные черновики постигла та же участь, или Каспар украл их в надежде выдать за свои, что ему все более свойственно в последние месяцы. Но Людвигу плевать на все, что могло произойти тут за время поездки; на проклятья, что обрушились на голову заочно и готовы обрушиться взаправду. Он сам разметан на тысячи холодных фрагментов. Он обостренно осознал это, переступая порог и… понимая, что вовсе не дома.
Это зачарованный замок с колодками и цепями. Замок, не более.
Фигура в дверях отбрасывает тяжелую тень. Взгляд вдавливает в пол; знакомо хрустят заведенные за спину кулаки, в одном из которых может быть смертоносная указка или пара изодранных листов. Воплощенный гром, готовый грянуть от неосторожного движения… но Людвиг упрямо вскидывается, чтобы посмотреть глаза в глаза, и, едва шевеля обветренными, саднящими губами, произносит:
– Не стоило так расстраиваться. Герр Моцарт мне отказал. И вот я здесь.
Фигура качается, хмыкает – и выдыхает смрадное облачко винного пара.
– Не слишком-то ты спешил… сколько просадил денег?
Руки – пустые – скрещиваются у груди. Новой позой отец более всего напоминает пьяную статую Командора, за спиной которой – промозглые коридоры вместо пылающей Преисподней. Пока он не ревет, даже не кричит: не хочет, чтобы сбежались остальные домашние. Сначала – сам выплеснет пожирающий гнев.
– Нисколько, – все так же ровно отзывается Людвиг. – У меня их особо не было.
Умнее промолчать, перетерпеть, свести все к шутке – что угодно. Но шутить Людвиг не умеет, а терпеть устал. И он готов к последствиям: воспаленные глаза отца, прояснившись, вспыхивают злорадством; на губах вместо гримасы отвращения расцветает многозначительная ухмылка, а голос становится почти елейным:
– И у кого же ты был на иждивении? Вена не для нищих.
Почти все заработанное Людвиг оставил семье, не зная, что может случиться в его отсутствие. Сестренке требовался уход, болеющей матери – есть больше мяса и фруктов, братья оба одновременно износили башмаки. Поездки на почтовых сэкономили Людвигу немало, жизнь в Вене тоже не обременила. Сальери и в голову не приходило заглядывать Людвигу в кошелек, расспрашивать о достатке. Напротив, он делал все, чтобы Людвиг чувствовал себя гостем, который никому ничего не должен… Но в устах отца хлесткое напоминание о дырявых карманах заставляет кровь застучать в висках даже сильнее, чем в день позорной музыкальной аудиенции. И отец видит свою победу, спешит добить блудного врага, любезно уточнив:

– Или, может, ты был на содержании? В самом столичном из возможных смыслов? У какого-нибудь раскрашенного макарони[20]20
Макарони – модное течение 1760–1770-х годов, распространившееся изначально в среде молодых аристократов: утрированно высокие парики, ярчайшие костюмы в итальянском/французском духе и многочисленные аксессуары, от мушек на лице до огромных шляп, ридикюлей и шпаг. В обществе макарони традиционно осуждались, стиль считался неподобающим для мужчин. Поэтому впоследствии слово стало нарицательным и употреблялось в негативном ключе.
[Закрыть], у его толстозадой синьоры?..
Людвиг поднимается резко, порыв броситься – дикий, незнакомый – пульсирует во всех мышцах. Ударить локтем в жирный подбородок; кулаком – в нос, за последний год превратившийся в прелую грушу; ногами – по вислому животу и рукам, чертовым рукам, тягавшим год от года за волосы и отвешивавшим тумаки. Ударить не раз, не два – а чтобы все сбежались на крики, увидели и не посмели останавливать. Матушка, которая устала от трех своих лиц «Прости меня, Ганс», «Не шумите, пожалуйста, дети» и «Да-да, я сейчас все сделаю». Николаус, которого не раз успели побить и запереть без обеда в музыкальной комнате; которому недавно пообещали переломать пальцы: «Лекаришке такие красивые руки не нужны». Может, не вступится даже Каспар, вспыльчивый Каспар, который раз за разом прибегает к отцу с сырыми сочинениями, спрашивает: «Как тебе?» – и слышит: «Доплюнь хоть до мусора Людвига, а уж потом трать мое время».
Пелена перед глазами – толща кровавой воды; чтобы сморгнуть ее, нужно несколько секунд. Разжимаются кулаки и челюсти, разум побеждает – и Людвиг видит напротив отекшее, сально блестящее, расплывшееся в глумливом ожидании лицо.
– Я не потратил ничего, – вкрадчиво повторяет Людвиг, но дает слабину, прибавив: – И ничего не добился. Все по-прежнему.
Слова встают в горле комом, а в глазах – горячим дождем, прятать который под ресницами – еще унизительнее, чем говорить. И Людвиг просто смотрит, ждет, малодушно надеется на снисхождение хотя бы тут. Пусть отец фыркнет «Ну и славно, что ты одумался». Пусть уйдет, грохнув дверью. Что угодно – только бы скорее исчез. Что угодно, только не…
– Ничего. – Отец кашляет и с хрипом набирает полную грудь затхлого воздуха. – Ничего! – Он всплескивает руками. – А мы торчали тут. Выбивались из сил. Голодали…
Голос полон выверенных усталости и укоризны, но… на последнем слове отец смачно икает – и Людвигу в нос бьет ослепительная винная вонь. Разъедая глаза, она оказывает услугу: слезы теперь более чем понятны, их можно не скрывать. Людвиг неосознанно отшатывается – просто потому, что на столе Сальери вино появлялось лишь в два из вечеров; потому что люди, пившие на венских приемах шампанское с клубникой, не пахли кисло и прогоркло; потому что у них не было ни желтой пленки на зубах, ни пятен под мышками, ни прожилок на носу, похожих на уснувших под кожей тоненьких червей. Людвиг отшатывается в спонтанном страхе: утонуть в запахе и налете, в затхлости и прогорклости, в червях и поте. Утонуть и превратиться не в дракона, а в пьяницу с безвольным лицом. Но отец понимает страх иначе – как слабину – и жадно ловит.
– Глупец! – Драматичная отстраненность сменяется пенящимся во рту бешенством.
Оглушительная затрещина сшибает Людвига с ног. И он почти облегченно падает в снежное шуршание обрывков, прижимается к холодному полу саднящей скулой.
– На что ты надеялся, убегая без моего благословения?! – грохочет над ним, но он не открывает глаз, прячется за гудением в ушах. – Что Моцарт примет тебя в свой круг?! Что ты выживешь один? – Пальцы хватают за воротник, тянут, поднимают. – Что я говорил? – Пол дрожит под ватными ногами. – Хочешь стать таким же распутником, как он? Таким же неудачником? Таким же…
Людвиг с усилием разлепляет веки. Хруст ткани под отцовскими пальцами громоподобен, но крик – лишь отдаленный гул. Нужно собраться. Встать прямее, освободить дорогой шейный платок – белый как эдельвейсы, подаренный на прощание фрау Резой… Воспоминание о ее холодном ласковом лице и о теплой строгой улыбке ее мужа заставляет прийти в себя быстрее, перехватить и остервенело оттолкнуть чужие руки, рявкнуть: «Не смей больше!» – и отец теперь тоже слышит близящийся гром. Осекшись, он опять икает, тихо и словно вопросительно. Жалкий. Вмиг сдувшийся из короля драконов в раздавленного каретой ужа. И Людвиг, успевший чуть обогнать отца в росте, вкрадчиво переспрашивает:
– Неудачником? Распутником? А ведь ты любишь его куда больше, чем меня.
Честнее было бы «ты любишь его, а не меня», «ты любишь меня как его недоделанную копию», «ты не любишь никого, чертов Фафнир». Но на губах раскаленная печать. После подобного могут и выгнать вон. Конечно, Людвиг не пропадет, его приютят, а некоторые и поздравят. Но братья, мать?.. Нужно владеть собой. Он обещает себе. Обещает, скрипя зубами. И уже понимая, что, скорее всего, проиграет.
– Неблагодарная ты плес-сень. – Голос отца глухой, скорее шипение, чем речь. Неверяще покачав головой, он опять усмехается. – Господь всемогущий, мне хуже, чем почтенному родителю Моцарта. В приплоде ни одного гения, зато подменышей…
Он оскорбил троих одним плевком. В его тоне ничего, кроме презрения, кроме разочарования, которого никто из братьев точно не заслужил. И это выдержать сложнее.
– Да лучше бы нашим отцом правда был какой-нибудь Лесной Царь, – сдавшись, шепчет Людвиг. – Почему ты не утопил нас как котят, пока мог?! Рейн рядом!
Они неотрывно глядят друг на друга, и болотная жижа плещется во взгляде отца – клокочет, смешанная с купленным на семейные деньги вином. Людвиг не знает, что горит в его собственных глазах, какое пламя, но отец запинается, опускает голову, хрустит кулаками уже скорее затравленно, чем грозно. Украдкой Людвиг осматривает его костяшки: так можно понять, били ли недавно братьев, случались ли какие-то еще беды, которые неизменно несет в семью спивающийся человек… костяшки правой руки сбиты; на фоне багровых следов чернеют жесткие кудрявые волоски, и от одного их вида по новой начинает тошнить. Хватит. Все изменится сегодня или никогда.
– С этого дня ты не трогаешь Николауса, – будто говорит, точнее рычит, кто-то другой, не Людвиг, но рык полон угрозы. – И Каспара. Ему, к слову, не помешает больше занятий, ему нравится музыка, и он переживает, что…
– …Станет жалким, как ты? – перебивает отец насмешливо. – Поздно. Что бы он там ни любил, он бездарен.
Людвиг тяжело сглатывает.
– Я о другом. – Объяснять еще и это выше его сил. – Мы не говорим о гениальности и славе, просто помоги ему отточить навыки, как помогал мне, хотя бы попробуй…
– Как тебе? – обрывают его снова, и снова приходится впиться в пальцы, потянувшиеся к мягкому батисту над воротом камзола, чтобы схватить, встряхнуть, засалить. – Я не желаю тратить время на второй бочонок без дна! Хватит с меня!
– Зато к другим бочкам ты все неравнодушнее. – Выдохнув это, ощутив как осколок стекла в глотке, Людвиг делает еще шаг назад, отворачивается к окну. Только бы не выдать усталость, только бы выдержать минуту, две, три…
– А ты изменился, Людвиг, – летит в спину. – Запудрился, приосанился, столько узнал о правильном воспитании детей!
– Это не обсуждается. – Не сорваться сложно, но гнев распалит, распалит и позабавит. Людвиг, наоборот, снижает тон с каждым словом; выходит уже не рычание, а хрип, но лучше так, чем никак: – Я люблю вас, пойми. Люблю вас всех и затеял поездку, ученичество, все прочее ради вас, не ради себя. И я…
– Такой любовью можешь подавиться! – Шаги гремят сзади, рев обжигает голову изнутри, превращая ее в сосуд, полный раскаленных углей. – Ясно? Засунь ее кому-нибудь в задний проход, возможно своему итальянцу или…
– Ганс! – оклик звенит в унисон реву; по полу шуршит неподшитая юбка – и угли у Людвига в голове разгораются сильнее. – Не надо! Не трогай!
Когда Людвиг, на несколько секунд окаменевший и даже не подумавший защититься, оборачивается, отец шагах в пяти. Всем телом он словно стремится вперед: броситься, повалить, избить? Но на руке висит мать, прибежавшая на шум, – бледная, растрепанная, с расширенными глазами. Держит. Ее отец никогда не оттолкнет, не рявкнет: «Пошла прочь!» – не обзовет плесенью. Он покорно стоит, напряженный и яростный. Рука, за которую цепляются молочно-белые, исколотые шилом пальцы, вся идет судорогой.
– Лена…
За время разлуки мать еще больше осунулась и поблекла, стала как будто ниже: разве так сильно шуршала прежде ее юбка, так стелилась по полу, оставляя в пыли шлейф испуганной чистоты? Мать кутается в платок, жидкие пряди – просто нитки, кое-как прилепленные к голове. Она босая, будто только с постели… конечно, с постели, ведь она едва держится на ногах. И все равно борется за него, за Людвига: робко, до крика заискивающе улыбается отцу.
– Он хотел как лучше. И однажды сможет все, что задумал! Я же просила, дай ему…
Отец жмурится – злобно, бессильно. Страшно: вдруг ударит, даст первую в жизни затрещину защитнице и очередную – виновнику. Он пьян. Взбешен. Унижен сыновним неповиновением, а униженному всегда нужно упрочить положение, унизив другого. Но когда он открывает глаза, болотная жижа в них подернута льдом. Даже теперь отец помнит: мать нельзя тревожить. Помнит: Людвиг остается ее любимцем, мучение которого – ее мучение. Возможно, он думает о том, как она скучала и ждала; о том, что нельзя отнимать у нее радость воссоединения. Он покорно отходит на несколько шагов и говорит уже тише:
– Шанс? Нет, он поступил безответственно. И неизвестно, чем он там…
– А многие ли быстро находят нужную дорогу? – нежно отзывается мать. – Ты нашел? И не спотыкался? – Она нетвердо привстает на носки, пытаясь заглянуть ему в глаза. – Я ведь помню… чего тебе стоил один только наш брак. Сколько оплеух от отца ты получил, выбрав в жены дочь служанки и повара? Сколько мучился?[21]21
Дед и тезка Людвига ван Бетховена возражал против брака сына с Магдаленой Кеверих, так как разница их положений, несмотря на отсутствие у Бетховенов титула, была значительной. После свадьбы отец проклял сына и сменил гнев на милость только после рождения Людвига.
[Закрыть]
Как только она делает это, что у нее за власть? Лицо отца меняется, чуть светлеет от каких-то – ни с кем не разделенных – воспоминаний. Потерев веки, он сипло отзывается:
– Столько не выдерживают на ногах, Лена… Тут ты права. Досталось нам с тобой.
Людвиг неверяще вглядывается в щеки отца, дряблые, грязно-бледные, словно каша, сдобренная песком. Тщетно: родительская ярость не всегда оставляет шрамы снаружи, зато внутри эти шрамы кровоточат снова и снова. Так и у него? Отец ловит взгляд Людвига и снова хмурится. «Не лезь. Это наше». Уступая, Людвиг глядит на мать, опустившуюся на пятки. Плечи ее ссутулились сильнее, тело совсем утонуло в тепле платка. Похоже, ее знобит. Немного – и начнется привычный кашель.
– Как ты? – сдавленно спрашивает Людвиг и получает улыбку:
– Все хорошо, мой славный. Никак не проснусь, да и все.
– Просто изумительно хорошо, о да, – тихо, снова зло говорит отец. – Тебе спасибо. Она волновалась, не говоря уже о том, как сбивалась с ног.
Но Людвигу есть что ответить. Упрек от самой матери ввергнул бы его в отчаяние, от отца же – несет только новую вспышку брезгливого раздражения.
– А тебе с твоими винными парами? – Он снова подступает ближе. – Где ты гулял? Она спала сегодня? Кто сидел с больной малышкой ночью?
Глаза отца сужаются, рот сжимается, наверняка чтобы удержать ругательство, неприятное для маминых ушей. Отвечает он только на последний вопрос, все так же колко:
– Не ты. И я еще раз предупреждаю: не учи нас, как…
– Ганс!.. – Мать мгновенно слышит крохотное повышение тона, опять хватает отца за руку. – Успокой…
– Не защищай его! – рыкает тот, все же стряхнув ее хрупкую ладонь. – Разбалованность, вот в чем дело! Которой только и не хватало столичной мерзости!
– В Вене отцы хотя бы не бьют детей, в отличие от… – отзывается Людвиг и запоздало понимает, что сказал лишнее. – Плевать. Забудь.
Щека все еще горит, будто обожженная. Но кожа обветрена, груба, и след незаметен издали, да еще в полумраке комнаты. А синяки на коленях и локтях проступят завтра.
– Бьют? – выдыхает мать. – Кого у нас бьют, о чем ты?
А ведь она укутана слепотой и слабостью – еще одним пуховым платком. Они не дают ей рассыпаться, день за днем защищают от леденеющей реальности и поднимают на ноги. Что, если сдернуть платок одним движением? Выстоит? Превратится в грязный снег, как порванные ноты? Людвиг заглядывает в ее глаза, в чистый свет любви, непонимания и страха. «Нас бьют, мама. Пока ты спишь, мама. Так, чтобы ты не услышала. Там, где ты не увидишь, а если вдруг… это мы упали, мама. Мы подрались с друзьями, нас чуть не сшибла карета, потому что по пути к хлебной лавке мы считали ворон. Да, мама, мы – все трое – такие ротозеи, мы обязательно будем поосторожнее…»
– Не выдумывай, свинья! – цедит отец, но дрогнувший голос может выдать его. – Нечего! Станет кто-то мараться об…
Но мать, схватившись за грудь, пошатывается. Оскорбление ли ранило ее или догадка? Людвиг молчит, раз за разом сглатывая кисловатую слюну. Нужно сделать выбор. Если он приблизится, возьмет мать за плечи, склонится, она заметит. Не понять будет трудно.
– Ганс… – Ее взгляд мечется по комнате, по полу. – Людвиг, о чем же ты… ох… – Как рыба, мать хватает ртом воздух. – Простите, милые, что-то мне…
– Лена! – Отец в несколько шагов приближается к ней и подхватывает, обнимает, заставляет приклонить голову к плечу. – Тише, дыши, не слушай всякие ужасы, не…
Отстраниться она не пытается, руки висят плетьми. Одна босая нога наступает на другую, лишь бы не касаться холодного пола. Глаза круглые, мутные, бегают в ожидании.
– Объясни… – С дрожащих губ не слетает более ни слова, только рваный свист – дыхание подкрадывающегося приступа, того, который в очередной раз истерзает грудь и останется красными брызгами на платке. И Людвиг делает выбор: отступает глубже в тень.
– Ни о чем таком я не говорю, мама. О соседях через улицу.
Пусть так. О братьях он позаботится сам. С облегчением и нежностью он смотрит, как опускаются мамины веки, как она вцепляется в руку обнимающего ее, растягивающего губы в неискренней улыбке Фафнира. Правда, краски на щеках по-прежнему нет, а впрочем, она уже почти забыта. Кожа матери не как у отца, не каша с песком, но весенний снег – тот самый, который, истаивая, смешивается с нечистотами, прячущимися на земле. И все же в умиротворении мать вновь почти красива. Отец прижимает ее к себе еще теснее, словно хочет спрятать навсегда, от мира, а особенно от Людвига.
– Позор, – цедит он. – И ради чего все, ты даже не смог его впечатлить! Впрочем, ладно… – Трезвеющий рассудок подсказывает: нужно убираться, пока сын не сказал еще что-нибудь. – Думай над поведением. На ужин ничего нет. Впрочем, уверен, в Вене ты нажрался пирожных и перепелов на год вперед.
Людвиг давит кривую усмешку и, прижав ладонь к животу, который будто кто-то вспорол – такая там резь, – кивает:
– Не сомневайся, я сыт.
Мать снова блекло улыбается, качает головой, немо упрашивая: «Не делай хуже!» – а в следующую секунду, вздрогнув, смотрит в сторону окна. Оно только что распахнулось от ветра, дохнуло влажной ночью. Улица зашумела близкой грозой; ярче заблестели огни в домах – желтые глаза сонных соседей, на которых можно возвести напраслину, лишь бы не разбить родное сердце. Людвиг тоже кидает за окно взгляд. Почему стерлась мамина улыбка, почему мелькнул на лице тоскливый страх, точно невидимый демон махнул ей костлявой рукой или хуже – поманил?
– Я прилягу, – лепечет она, потупляясь и укрывая под платком даже подбородок. – Ганс, проводи, милый… Доброй ночи, Людвиг. Отдыхай как следует, а утром обещаю свежие булочки. Я припасла горстку корицы…
Свежие булочки, политые не слезами и кровью, так испариной с бледного лба.
Родители уходят: мать шепотом воркует, задабривая отца, с жертвенной хитростью отвлекая на свои недуги. В одиночестве Людвиг снова какое-то время озирает беспорядок – будто орудовала толпа жандармов, а не злобный пьяница и несуразный мальчишка. Хаос. Разоренная конура. Уцелевшие черновики валяются не там, где их забыли, всюду гуляет сквозняк. Были дожди; вода, попав на подоконник, испортила страницы Гете и Плутарха. Людвиг затворяет окно. Проводит по книгам ладонью. И выдержка рассыпается в прах.
Ненавистный, чужой дом! Проклятое, чужое все!
Как раненое животное, он мечется, хватая все, что попадается под руку. Швыряя, раздирая, растаптывая. Кусает губы, давя хриплый крик; лупит кулаками в стены, ногами – в дверь. Он забывает, как дышать; это вдруг становится тяжелее и больнее, чем двигаться. Его душит сухая жилистая рука, и имя ей – злость.
На себя – за бессмысленный побег.
На отца – за боль в щеке, невыветриваемую винную вонь и вечные напоминания о том, что грязь под ногами – слишком щедрое место для такого сына.
На мать – за слепую любовь к дракону и нежность, украдкой раздаваемую его детям.
На Моцарта, который оказался лишь жалким рыжим голубем и отверг все, что Людвиг так хотел ему доверить.
«Глупый ребенок… щенок…»
Рык рвется из груди – его уже не сдержать, можно только не дать ему стать воплем. Чернильница летит в стену, и звенят, звенят осколками стекло и все внутри.
Может, все куда как проще? Может, чахлый гений просто увидел в Людвиге соперника и предпочел услать, дабы не мешался? Моцарт не добился и половины того, о чем мечтал. Съезжает с квартиры, продает фортепиано. Обожаемая Сальери «Свадьба Фигаро» прекрасна музыкой, но сюжетом – если не оправдывать ее буфонадой – нелепа, местами тошнотворна: тонконогие пажи в женских платьях, высоколобые скоты, влюбленные во все, что шевелится. Этого ли ждали от таланта подобной глубины? Так ли несправедлив отец? Столица опошлила Моцарта, заставила гнаться за успехом и только за ним, а с провалами пришли злоба и пороки, зависть и колкая, заразная, как люэс[22]22
Устарелое название сифилиса.
[Закрыть], хандра.
Людвиг снова сжимает кулаки, задушенный злостью – на себя, теперь только на себя. Честить кумира… так просто, резко отвернуться, вслед за скудоумной публикой! Такие мысли о Великом Амадеусе – не подлость? Подлость и предательство, после которых он, Людвиг, недостоин вовсе ничего. Сальери не зря задал у камина тот вопрос. «Кто поддержит вас?»
Сальери… мерцающий посреди надменного города маяк. Единственный, на кого злости нет, ни тени, и кому сейчас, прямо сейчас, хотелось бы излить душу, нет, просто взять его за руку и провести по дому, по всем пыльным комнатам и темным коридорам, по кухне, где нет еды и блестит от несоскобленного жира посуда. Он бы понял… Вот только ему и без Людвига есть кого понимать. У него чудесная жена, вовремя заставляющая его есть и превращающая дом в дворец; три славных дочки; талантливо играющий на скрипке сын, которому за короткую жизнь вряд ли достался хоть один тумак. У него особая дружба с императором и дутыми придворными, готовыми любезничать со всеми, кого он им представит. У него Великий Амадеус – проклятый Амадеус, с которым Людвиг каким-то чудом больше не пересекся ни разу. Возможно, он был занят переездом, отеками и ногой жены; возможно, целенаправленно избегал столкновений с отвергнутым учеником. Отвергнутым учеником, таскающимся за его другом. Премерзкий осадок не дает покоя: а ведь это ревность. Прощаясь, украдкой прося Сальери прийти завтра, Моцарт смотрел именно так – с выражением «Зачем, зачем вы притащили этого шелудивого щенка, когда я хочу видеть вас, когда мне нужно все, все ваше участие без остатка?». Великий Амадеус, выбравший сюжетом вершину вульгарщины и ни с кем ничем не делящийся. Сиятельный Сальери, в лицо которому все улыбаются, а за спиной, стоит мелькнуть в беседе фамилии Моцарт, шепчущие кто одно, кто другое:
«Вся их любезность, очевидно, напоказ, а император забавляется, стравливая их».
«На балах они угощают друг друга ядом, но у каждого при себе обязательно противоядие. Прячут в кольцах: у одного отрава, у второго антидот».
«А вы что же, не знали? Они любовники… Да-да, с той самой музыкальной дуэли[23]23
Музыкальная «дуэль» между Сальери и Моцартом, инициированная императором Иосифом, состоялась в феврале 1786 года, на «увеселительном празднике в честь губернатора Нидерландов». Она заключалась в том, что император заказал обоим композиторам по одноактной комической опере на одну и ту же тему – театральное закулисье. Оба сочинения были представлены публике в Шенбрунне 7 февраля 1786 года. Победу одержал Сальери.
[Закрыть]».
Сплетни чушь, хватит о них, но и без них ясно одно: Вена позади. Моцарт, Сальери, мечты, надежды – все там, все чужое. Ворота зачарованного замка лучше запереть и отложить попытки выбраться до лучших времен. Ведь когда-нибудь колодки и цепи упадут сами. Упадут… но что, если нет?
Людвиг опускается на колени посреди комнаты и закрывает лицо руками. Он – буран, он – осколки, он – ничто. И только демоны – озлобленные, нагие, слепые, наполовину освежеванные – с воем мечутся в голове. Как же она болит, как вторит ей желудок. С этим все сложнее: теперь он превращается в начиненную свинцом раскаленную подушку после каждой семейной ссоры или любого другого потрясения.
– Людвиг…
Слыша это как сквозь черный сон, он не двигается. Просто мираж, начало лихорадки, ведь после такого путешествия сложно не заболеть.
– Людвиг! – громче. Прохладная ладонь касается его пальцев и пробует убрать их; медленно, с усилием, он подчиняется, опускает руку и открывает глаза.
– И вот я здесь, – сипло повторяют губы. – Здравствуй.
Она похорошела за эти месяцы. Глаза ее все такие же яркие, но овал лица окончательно потерял полудетскую округлость. Красота Беатриче и Лауры – в одном лике, там же – бледная, устремленная в чужие души задумчивость Офелии, готовой шагнуть в реку. Эта прохладная тоскливая нежность, ограненная синим сумраком, пронзает подобно молнии. На секунду ослепляет. Обжигает. И лишает последних сил, помогавших хотя бы держать спину.
– Прости. Я отчего-то так устал…
Нужно встать, пока она не ускользнула, нужно хотя бы так, на коленях, попросить ее больше не исчезать. Но он, наоборот, ниже клонится к полу, к обрывкам своих нот, и ни слова не может вырваться из сжатого, саднящего горла.
– Бедный Людвиг… – Смыкаются светлые, как само солнце, ресницы. Она так близко, что снова видны золотистые веснушки на носу; она опускается рядом и тянет навстречу дрожащие, обнаженные по локоть бледные руки. – Ты тонешь…

Теперь-то ты знаешь, какое вздорное существо избрала. Подозревала ли тогда? Ведь я ненавижу, когда меня слезливо, точно ушибившегося ребенка, жалеют; это не просто унижает меня, но заставляет по новой падать в омут своих поражений. И все же, едва ты произнесла «бедный Людвиг» и обняла меня, я неожиданно ощутил иное, светлее. В ушах перестало стучать, щеку более не жгла оплеуха, желудок успокоился. Мои демоны замерли, смолкли и легли, свернувшись у ног. Ты утешила и их, и меня.
Я не поднял рук, как и всегда. Я не смел к тебе прикоснуться: казалось, ты сразу пропадешь, выдашь свою бестелесность; я не успею даже сказать, как мучился без тебя. Нет, запретив себе прикосновения, я лишь прижимался губами к теплой коже между твоими убранными в простую косу волосами и шеей, а твои руки гладили мою раскаленную голову. Как стыдно было вспомнить, сколько я не мыл волос за время дороги, пока застрял на рубеже – в захолустном Аугсбурге – в поисках денег… Мы замерли – посреди комнаты, полной разбитого стекла и порванной бумаги. Говорил ли что-то? Наверное, нет; надеюсь, нет… Наконец я задышал глубже – и уловил от твоих волос запах клевера. Запах первой нашей встречи, тех встреч, которые не пахли дождем или молодой травой. Какой-нибудь из этих запахов ты ведь приносишь всегда, даже сквозь снег или смертельную духоту.
Я едва верил, что ты вернулась, и не винил в том, что не приходила раньше. Да и что изменилось бы? Я и так играл для Моцарта на пределе сил, а разрушил все по собственному выбору. Я сыграл его душу такой, какой ощутил. Меня прогнали. А дома мне напомнили, что я нелюбим, меня повергли в пыль, заставили сражаться, наконец-то сражаться за себя и за братьев, с большим чудовищем, и лишь Господь знал, чем кончится подобное сражение… Я был один. Только ты протянула мне руку. И я благодарно принял уже то, что сейчас ты рядом. Мое хрупкое ничто. Моя опора в мире, который я расшатываю сам, ломаю, потому что не умею, никак не научусь строить. Моя ветте, кто же свел нас? В каком из миров?
– Мне так не хватало тебя…
Я знал, что не услышу «Мне тоже», и не услышал – только объятие стало крепче. Наконец ты отпустила меня и достала что-то из кармана платья – сегодня закрытого, зеленого, как мох на валунах. Опять клочья бумаги, и я узнал в них те, которые отец обрушил на мою голову, когда бранился. Когда, зачем ты успела собрать их?
– Сыграешь?
Я посмотрел на обрывки внимательнее и покачал головой.
– Прости, я не запоминал ее, а теперь, наверное, многого не хватает. Я уверен был, что смогу завершить, забрав вместе с вещами, когда…
«…буду съезжать отсюда». Я не закончил, но ты поняла – и принялась соединять обрывки. Ты делала это так же быстро, как когда-то плела венок, я не успевал уследить и не понимал цель этого действа. Но менее чем через минуту ты протягивала мне целый, не тронутый ничьим гневом лист и знакомо, по-мальчишески улыбалась.
Свечей нет; на улице беззвездно, безмолвно смеркается. Шумит дождь, но музыка и мрак легко уживаются с ударами капель. Безымянная стоит у окна. Людвиг играет ей, играет, успокаиваясь и забываясь. Нащупывает звуки, точно потерявшихся друзей, тянет ближе – и возвращает к жизни. Это лучше, чем приводить в порядок комнату. Тревожиться о грядущем. И вслушиваться, не раздастся ли кашель матери где-то там, в пещере, охраняемой Фафниром.