Текст книги "Земля моей любви"
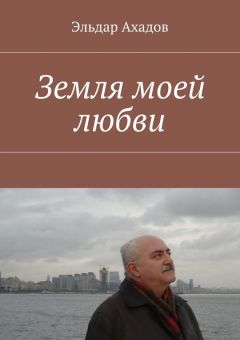
Автор книги: Эльдар Ахадов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Земля моей любви
Эльдар Алихасович Ахадов
© Эльдар Алихасович Ахадов, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Отцовская родня
Дед мой – Аббасгулу Ахадов, жил с семьей на берегу реки Куры в селении Уладжалы Сабирабадского района Азербайджанской ССР. Знаю, что родился он в 1870 году (то есть, был ровесником В. И. Ульянова-Ленина), а умер в 1959, не дожив года до моего рождения и своего девяностолетия.
Имя своё дед, возможно, получил в честь первого азербайджанского просветителя нового типа Аббасгулу Бакиханова. Сын последнего правившего бакинского хана, Бакиханов – основоположник азербайджанской научной историографии, а его труд «Гюлистане-и-Ирем» – первое монографическое исследование академического плана. Вот та причина, по которой в середине девятнадцатого века в мусульманском Закавказье имя Аббасгулу было весьма популярно.
Алихас Аббасгулу оглы Ахадов, мой отец, родился в 1933 году, когда деду было 63 года. Он был его младшим сыном. После окончания школы в начале пятидесятых годов он поехал в Баку, поступил в индустриальный институт (АзИ он тогда назывался), окончил его и остался работать в городе. Здесь мама и отец познакомились и поженились. Здесь родились я и мои сёстры.
Бабушку мою звали Сярфиназ, она происходила из другой деревни, ближе к Сабирабаду, и была дочерью обедневшего Таги-хана. У неё было два брата: большевики, придя к власти, вскоре расстреляли обоих. Знаю, что бабушка не только занималась обычными домашними делами, но и ткала прекрасные ковры. Я никогда её не видел (бабушки не стало задолго до моего появления на свет), но ковер, вытканный её тёплыми добрыми руками помню в нашей бакинской квартире с раннего детства: с ею набранной нитками и шерстью в уголочке ковра датой – 1944, а ещё – со старинным национальным орнаментом – бутой по всему ковровому полю.
Детьми Аббасгулу и Сярфиназ были дядя Юсиф (Юсиф-эми), тётя Азизбеим (Азизбеим-биби), тётя Рубаба (Рубаба-биби), дядя Алибала (Алибала-эми), дядя Ханбала (Ханбала-эми) и мой отец – Алихас. Слова «эми» и «биби» в азербайджанском языке означают соответственно дядя (со стороны отца) и тётя (тоже со стороны отца).
Дед работал бакенщиком на реке, отлично плавал, впрочем, как и мой отец: переплывал стремительную широкую Куру в обе стороны. Река Кура в тех местах течет настолько стремительно и непредсказуемо, что порой местные её называют «дэли Кюр», что означает «сумасшедшая Кура».
У деда были (на мой взгляд) довольно обширные земли, расположенные между озером Ахмаз и рекой Курой. Ахмаз представляет собой старицу (отрезок бывшего русла) реки Куры. Сейчас эти земли разделены между теми его внуками и правнуками, которые продолжают жить в Уладжалах. И всем их достаточно.
Говорят, отцом Аббасгулу, то есть моим прадедом, был Ахад, родившийся ещё в годы правления императрицы Екатерины Второй. Возможно, Ахад был единственным сыном своих родителей, поскольку его имя в переводе с арабского и означает «единственный» (это – шестьдесят седьмое из девяносто девяти имён Аллаха Милосердного и Всемилостивого). В любом случае фамилия наша произошла от имени моего прадеда.
Однако, не всем членам семьи удалось её сохранить. При оформлении документов дяди Ханбалы произошла ошибка, и его записали Ахмедовым. Так вместо Ахадова ниоткуда возник Ахмедов Ханбала. В дальнейшем его потомки остались Ахмедовыми.
Дядя Юсиф был настолько старше моего отца и остальных братьев, что все их дети звали его не иначе как Юсиф-баба (дедушка Юсиф), хотя он был им дядей а не дедушкой, конечно. Когда грянула Великая Отечественная война, то дядю Юсифа по возрасту в армию так и не взяли, всю войну он проработал в колхозе. Колхоз в Уладжалах был хлопководческий, а значит, стратегически очень важный, поскольку хлопок нужен был для изготовления взрывчатки. Всю свою жизнь дядя Юсиф проработал на земле. Лицо у него всегда было темным от загара. Когда он почувствовал приближение смерти, то позвал родных, сказал им, что он умирает и попросил постелить ему на голой земле. Ему постелили. Он лёг и умер. Через много лет его сын Билял, мой двоюродный брат, попросил однажды ночью о том же самом свою жену Джамилю. Она, плача, постелила ему на земле… И он тоже умер. Они были сельскими тружениками, жили и работали на своей земле и любили – свой дом, своих близких, свою деревню, свою землю.
Дядя Ханбала ушел на войну в 43-м, когда подошёл призывной возраст. Успел повоевать на Украине, был автоматчиком. На юго-западе Украины в бою Ханбала получил тяжелое ранение, фашисты прострелили ему автоматной очередью лёгкие. Мало того, у него, девятнадцатилетнего паренька, в госпитале начался туберкулёз…
Дядю Алибалу очень любила его мама, моя бабушка Сярфиназ. Он ушел на фронт раньше Ханбалы и… пропал без вести. Бабушке было очень тяжело, она говорила, что он был очень добрым, послушным ребенком в детстве Если бы он дерзил или вёл себя как-то нехорошо, то, может быть, его было бы легче забыть, но она не могла вспомнить ни одного такого случая, их не существовало. И от этого становилось ещё тяжелей, невыносимо тяжко…
Нет уже на свете ни набожной, соблюдавшей все намазы тёти Азизбеим (а в кармане широкой юбки – прячутся припасенные конфетки для маленького Эльдара), ни радушной улыбающейся тёти Рубабы (она в моей памяти такой и осталась – с распростёртыми руками, радостной, громкоголосой, бегущей по сельскому двору навстречу мне, своему племяннику), ни дяди Ханбалы (с пахучими нежными персиками в раскрытых ладонях: «Бери, сынок, это тебе»).
Остались их дети, мои двоюродные братья и сёстры: Али-Магомед, Нигяр, Шофкет, Тейбала, Теймир, Али-бала, Эльсафа, Низам и другие, много…. Народились их внуки и правнуки. И в Азербайджане, и за его пределами они теперь: растеклось по всей земле потомство моего прадеда – Ахада, чьё имя означало Единственный.
Оглы
У меня есть имя. Есть фамилия. А есть отчество. У всех они есть. У каждого своё. У меня отчество азербайджанское, из двух слов: первое – имя отца, а второе —“ оглы», что в переводе значит «сын». Нет в азербайджанском языке окончания «ович» или «овна». Только “ оглы» или “ кызы» (дочь). Всё бы ничего, но я в России живу больше четверти века, а здесь это не всеми и не всегда адекватно воспринимается. И на работе бывали сложности. Вроде мелкие: ну, похихикает кто-нибудь, ну, «черножопым» как-то раз в спину назвали. Не в лицо, нет. В лицо постеснялись. Я ведь по-русски говорю и пишу получше кое-кого. И соображаю неплохо. Вот и постеснялись.
На улицу выхожу всегда с паспортом. В принципе, нигде, кроме Москвы – проблем не было. Да, и в столице, тьфу-тьфу, обошлось. Остановили пару раз, проверили, прочитали, и такое холодное недоверие в глазах – из-за того, что я “ оглы», а не «ович»… Всё равно как-то неприятно, неуютно, что ли… Как будто я что-то плохое сделал и скрываю…
А годы были тревожные, бандитские, девяностые. Вот и советует мне однажды моя русская жена:
– Зачем тебе это «оглы»? Ты же и говоришь по-русски, и думаешь по-русски, и живёшь в России. Сходи в паспортный стол, поменяй отчество, заплатишь и станешь Александровичем, как режиссёр Рязанов, или Алексеевичем каким-нибудь. И детей наших в школе дразнить перестанут. А?
Задумался я. Достал фотографии отца, матери, сестёр… И тут выпала из пакета с фотографиями старая бакинская газета. Январская. Девяностого года. На ней – городская площадь у берега моря, вся покрытая бесчисленным людским морем. В городе действует комендантский час. На улицах танки, бронетранспортеры, пулеметы, тысячи вооружённых солдат. Больше трех человек собираться запрещено. А народ вышел на площадь. Не побоялся народ ни арестов, ни смертей. Поэт Галич когда-то пел:
«Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки…»
А ведь полки действительно стояли в ожидании приказа. И над площадью барражировали военные вертолёты. Но люди, простые безоружные люди, бакинцы, шли и шли на эту площадь. И их было не остановить никому!
Никаким солдатам, никаким пулемётам, никаким танкам. Они шли хоронить своих детей, убитых солдатами в ночь на 20-е января. В этих продолговатых прямоугольниках на фотографии – убитые. Я не знаю, как их звали: сотни убитых, молодых, пожилых, юношей, девушек, детей, стариков…
У каждого из них было имя. Была фамилия. И было отчество… Первую часть их отчеств – я не знаю, но вторую – не могу и смогу забыть, где бы я не был.
Я – оглы, я – сын моего отца и моей матери. Был и останусь. Нацисты, скинхеды, бритоголовые – не важно, кто встретится на пути, я останусь тем, кем родился.
Из-за тебя
Если у тебя убыло нечто, не огорчайся, но возрадуйся за ближнего своего: ибо прибыло у него. У Бога всё соразмерно. И когда убывает твоё, прибывает другому. И когда прибывает тебе – у другого становится меньше. И так всегда. И потому: не спеши ликовать и не торопись огорчаться о себе, но умей сорадоваться другому и печалиться его печалями, ибо все они – из-за тебя.
Однажды ночью…
Это было такой же январской ночью с 19-го на 20-е в 1990 году. По проспекту ехал старенький автобус, в котором возвращались с завода домой рабочие после смены. На переднем сидении рядом с отцом находилась девочка-школьница, упросившая его взять её с собой на работу. И вдруг впереди по курсу движения автобуса возник бронетранспортер. Прозвучала пулеметная очередь. Пуля попала ребёнку в сердце. Ещё не осознав происшедшего, отец подхватил мертвую девочку на руки и вынес её из расстрелянной машины. Вторая очередь из пулемета пришлась уже по нему… Девочку звали Лариса.
По пригородной автотрассе двигалась колонна бронетехники. На обочине, пропуская колонну, стояли «Жигули». За рулем сидела женщина. Было светло, потому что было утро. Внезапно одна из боевых машин свернула с дороги, аккуратно переехала через «Жигули» и, возвратившись на дорогу, продолжила движение в колонне. Женщиной, которая находилась в машине и спешила на работу в то утро, была доктор химических наук, профессор Светлана Мамедова, первая женщина-ученый, получившая степень доктора наук в области высокомолекулярных соединений.
Броневая колонна шла по улицам города. Из неё продолжали раздаваться пулеметные очереди, просто так – по окнам роддома, по детской больнице, по жилым домам… На полу одной из квартир лежала бездыханная семнадцатилетняя девушка. Её звали Верочка Бессантина, пуля попала ей в голову. По дороге к поселку из города по вызову ехала машина «Скорой помощи». В ней торопился к больным молодой дежурный врач… Солдаты расстреляли и машину, и врача, находившегося в ней. Его звали Александр Мархевка. Никто из больных никогда уже его не увидит, но всё-таки он сделал для них всё, что мог тогда: отдал свою жизнь.
На тротуаре городской улицы стоял слепой старик, случайно потерявший свою палку. Мимо проезжала военная колонна. Один из солдат спрыгнул с БТРа, подошел к старику, ударом приклада свалил его на асфальт, вторым ударом при помощи штык-ножа добил слепого и вернулся назад, на броню. Колонна двигалась дальше.
Я видел много фотографий. И на каждой из них было множество расстрелянных и раздавленных танками тел: в морге, а больше – просто на городском асфальте. Среди них были взрослые и дети, мужчины и женщины, подростки и старики. Все они умерли в ту ночь или наутро. Помню фотографию подростка без ног, которые по-видимому остались под гусеницами. Но он умер не от этого, нет. За ухом у него я разглядел аккуратное пулевое отверстие. Значит, стреляли в упор. Значит, раненых добивали.
Я помню (через целый месяц после этих событий, уже в конце февраля!), как удивили меня странные ржаво-коричневые потеки вдоль тротуарного бордюра в районе площади, которую с тех пор называют в народе Кровавой. Потом я узнал, что это высохшая кровь – ещё с той ночи. Сколько же её было пролито, если вдоль проезжей части нескольких городских улиц текли к морю кровавые ручьи от тел, расплющенных танковыми траками? Говорят, чтобы скрыть количество убитых, трупы топили в море… Тысячи людей пропали без вести навсегда, сотни – похоронены в бывшем парке культуры и отдыха, превратившемся с той поры в кладбище.
Город, где всё это однажды случилось, называется Баку. А человек, приказавший сделать всё это, называется Михаил Горбачев. Немцы его любят.
Твой друг
Ты спрашиваешь, где я сейчас? Не знаю… Скорее всего, в прострации… Пару дней назад утром я проснулся с ощущением голоса, который умолк только что. Это был голос моего друга Джафара. И я вспомнил сон: он говорил и улыбался мне так, словно мы расстались только что на вечерней бакинской улице Ага-Нейматулла. Словно не прошло десятков лет с той поры. Словно он всё ещё жив… «Эльдар! Приходи, я со скучился по тебе…»
И оба промелькнувших затем дня меня преследовали его мелодии, они звучали, как воспоминания незатихающие ни на миг. Я не помнил точно, где находится кладбище, потому просил отвезти меня туда с кем-нибудь из местной моей родни, чтобы положить цветы на могилу. Они поначалу отмахивались : «Да, не забивай себе голову! У тебя же завтра день рождения! Радуйся, веселись!» Но, поскольку я продолжал настаивать, все же отправили со мной мужа сестры, а по дороге к нам присоединились ещё двое общих знакомых его и моих.
Я купил по дороге охапку алых, как кровь, гвоздик. Возле кладбища. Но оказалось, что это не то кладбище. То было не на горе, а ниже, под горой. И его могила была крайней среди небольшого количества иных могил. Не мог вспомнить точно где… Приятели наши взялись нас довезти и уверенно подсказывали куда ехать. Дорога становилась всё глуше. Асфальт кончился. Начались загородные дачи – одна шикарнее другой. Наконец, братья-приятели радостно указали: вон, там, вдали, на почти отвесном склоне горы! Нет. Это было не то место. Вернулись назад. Нашли хорошую новенькую дорогу, которая завершилась… великолепным зданием местного ГИБДД. Оно чем-то напоминало крымский замок «Ласточкино гнездо». На отвесном склоне. В растерянности я подошел к краю обрыва. Здесь же была раньше дорога на кладбище! Неужели её срыли? Так и есть… Вот оно – далеко внизу, еле видно. А невдалеке ниточка железной дороги. Но отсюда туда теперь не попасть. Вскоре обнаружили дорогу вдоль горы. Однако, сразу за её краем неведомо откуда потянулся новенький забор из колючей проволоки, а на расстоянии видимости вдоль забора вытянулись в ряд абсолютно новенькие дозорные вышки, похожие на застекленные скворечники. В каждом скворечнике сидело по солдату в странной незнакомой военной форме кофейного цвета. Вдоль забора рабочие разматывали огромные катушки с толстенным черным кабелем. В нескольких местах мы находили свороты дорог вниз, однако, увы, помимо шлагбаумов, они ещё и охранялись.
Проезд запрещен! Проезд запрещен! Запрещено! Ничего не могу понять. Что такое? Зачем? Почему? Откуда столько колючей проволоки? И вдруг зятя моего осенило: так это же американцы! Американская военная база строится прямо над городом, в самом стратегическом его месте. Это их коммуникации прокладываются повсюду. Это не теперь наша земля, а их… Вот так, втихаря, пока никто ни о чем не догадывается…
Бедный Джафар! Как же к тебе проехать теперь? Оставался последний вариант: совсем с другой, дальней от города стороны – вдоль моря. С огромными трудностями, по всяким проезжим разбитым дорогам, по нескольку раз ошибаясь в направлении, постоянно натыкаясь на колючую проволоку, заборы и часовых, мы все-таки пробились к кладбищу.
С черного могильного камня мне улыбался Джафар – точно такой, каким видел его во сне. А на покрытой пылью плите всё ещё можно разглядеть выбитые слова, которые я посвятил когда-то его памяти…
«Хранит отныне призрачная даль,
Где – только небо в радугах и звёздах,
Твоей улыбки мягкую печаль,
Твоих мелодий предрассветный воздух…
В них плещет море, что у самых ног,
И ходит эхо звонкими волнами,
И пляшет ветер, и поёт песок
О том, кто был и вечно будет с нами.»
И тут я обратил внимание на даты, начертанные под его портретом: «1955 – 2002». Ему было сорок семь лет тогда, когда он ушел!.. А дату его смерти я знал и так: 19 июля.
Сегодня, 19 июля, мне исполняется ровно сорок семь лет. Спасибо, Джафарик, что не забыл обо мне и на том свете. Спасибо, родной. Даже если эти нелюди закатают всё твое кладбище в асфальт, даже если от места не останется ничего… Мы тебя помним. Всегда. Понимаешь? Всегда!
Обнимаю.
Твой друг, Эльдар. 2007г.
Мамина долма
Самое вкусное в мире блюдо – это мамина долма. Поскольку ни повторить, ни, тем более, превзойти его никому никогда не удастся, ибо для его приготовления нужны руки и душа моей мамы, то перейдём к долме обыкновенной, которую могут приготовить все, даже я.
Что для этого нужно? Во-первых, виноградные листья. Не крупные и не мелкие, средние. Желательно свежие. Мама отправила мне такие в полулитровой пластмассовой бутылке, доверху набив её скрученными виноградными листьями и хорошенько закупорив. Теперь, чтобы их осторожно расправить, я складываю листья в небольшую кастрюлю и заливаю их горячей водой из чайника. Так они легче расправляются. Когда не сезон и нет под рукой свежих виноградных листьев, тогда можно использовать маринованные виноградные листья. Если у вас в городе есть базар, то там они непременно должны где-нибудь быть.
Мясо лучше выбирать и делать фарш самому. Поскольку, увы, времени у меня на это, а главное, терпения, не хватило, я купил готовый нежирный говяжий фарш. По виду – свежий. Я не люблю жирную долму. Кто-то, может быть, и любит, но не я. Вкус жира перебивает всё. И даже долма становится мне неинтересна. И это несмотря на то, что давным-давным-давно, когда я еще учился в школе, мама сказала мне: «Сынок, я заметила, что если даже я буду готовить тебе долму все 365 дней в году, то ты спокойно будешь её есть и ничего больше не попросишь из еды». Это правда, мама знает, как я люблю мамину долму. Но не любую, а именно мамину.
В фарш нужно обязательно добавить риса. Я предпочитаю делать это интуитивно, ничего я в пропорциях не понимаю, но получилось вчера очень даже нормально. Рис должен быть рисом, а не дробленкой, не окатышами и прочим непонятно чем. Так, чтобы, в приготовленной долме рис в начинке выглядел, как в плове: рисинка к рисинке, и ни в коем случае не выглядел слипшейся склизкой массой.
В фарш ещё добавляется мелко-мелко нарезанный репчатый лук, зелень мяты (нанэ) или базилика (рейхан). Или того и другого, если есть. И, конечно, нужно заправить фарш черным молотым перцем и простой поваренной солью. Готовый фарш заворачивается в виноградные листочки. Получается сырая долма.
В кастрюлю лучше всего сначала положить одну-две-три небольшие мясные косточки. Поскольку я делаю долму с говядиной, то косточки должны быть говяжьи. Сверху укладывается долма.
К готовой долме я делаю соус. Если есть мацони или катык, то добавляю в них мелко нарезанный чеснок (по вкусу) и хорошо перемешиваю, чтобы чеснок там распределился равномерно. Всё. Можно выложить долму, полить соусом и есть. Что я сегодня и сделал…
Ем долму, а сам вспоминаю разные-разные мамины блюда… И ароматный суп кюфта-бозбаш с крупными мясными шариками, внутри которых цельный чернослив, с крупным горохом – нохуд. И плов с мясом в каштанах, и каурма-плов, и сабза-каурма-плов, и кялям-долмасы, и холодную с зеленью довгу, и пити, и душбара, и лявянги (особенно кутум-лявянги), и, конечно, кутабы – с мясом и зеленью… И пярямяча (ну, разумеется!).
А сладости? Боже мой, сладости, которые мне давно уже нельзя есть, увы… От простого лябляби (смеси орешков и изюма), до кяты, шекер-буры, пахлавы и даже шор-когала (он солёный, его мне, наверное, можно немножко)!..
А потом я включаю музыку «Яных-керем», потому что помню её с детства, и грущу. Почему я, сытый, в тепле, а всё равно грущу? Я не умею делать мамину долму. Наверно, поэтому? Нет, не поэтому. Не скажу – почему… Не хочу говорить. Это моё. Извините…
Фарид
Летит мягкий, сдобный, пушистый снег. Вернее, даже не летит, а плывёт по воздуху. Этакий снег – воздухоплаватель. Снежинки медленно опускаются, обволакивая бахромой тонкие, словно реснички, и потому прежде незаметные веточки кустов и невысоких деревьев. Не слышно собственных шагов: ноги движутся где-то внутри пухлого лебединого снега. А лебеди (естественно) давно улетели с Крайнего Севера. Туда. На юг.
Я знаю куда. Видел их там, в морской каспийской дали – словно кусочки белого пушистого снега на изумрудно-синей воде. Стоя у балюстрады на искусственной террасе, выступающей в море, мы с Фаридом вглядываемся в них. Видно, что ему нравится этот простор, этот свежий каспийский ветер над островом у самой восточной оконечности Апшеронского полуострова. Так уж сложилась судьба, что Фарид оказался родственником двух президентов страны. Он уважает и любит свою семью, и покойного дядю Гейдара, (с которым они оба поразительно похожи на родного деда – лицом, улыбкой, жестами), и двоюродного брата Ильхама, которому искренне сочувствует, считая, что его, умнейшего человека, многие не понимают, не берегут и не ценят так, как следовало бы. И внучку свою, Фариду, обожает, несмотря на слова «больше минуты не могу ни с одним ребенком общаться». Ой, что-то не верится! На обложке одной из трех коробок дисков с его любимыми музыкальными записями – фотография улыбающейся симпатичной девочки лет восьми в красной бейсболке, надетой задом наперед – любимая внучка. Впрочем, долгое время официально в семье он считался изгоем, поскольку любил джаз и прочую американскую музыку, собирал диски, говорил на английском, а думал в основном по-русски, и обо всем имел собственные суждения, которые, ну, никак не пересекались с генеральной линией партии. По тем временам – ярлык конченого ярого антисоветчика такому человеку был обеспечен. И это в семье первого секретаря компартии! Какой кошмар! Если честно, то большинство моих знакомых городских интеллигентов, тех, кого сейчас зовут «старыми бакинцами», во все времена были именно такими. Так что Фарид вовсе не был одинок в этом смысле.
Это не значит, что все они обязательно занимались политикой или касались её, совершенно нет, просто относились ко всему адекватно, здраво, без официозной эйфории. Фарид с улыбкой вспоминает, как однажды, будучи у Гейдара «на ковре» и выслушивая его очередной разнос за свое не ангельское, скажем так, поведение, он отвлекся на передачу по телевизору, стоявшему в кабинете. Там шла какая-то юмористическая программа, и Фарид умудрился настолько забыться, что посреди разгневанной речи дяди вдруг начал хохотать над каким-то моментом по телевизору. Ошалевший от такой наглости Гейдар был вне себя. Фарид удрал из кабинета – от греха подальше… Забавно. Хотя, на самом деле, всё это никак не влияло и не влияет на его истинное отношение к покойному дяде – нежное и доброе, даже трепетное. Дядя есть дядя. Родная кровь. Общая судьба – общая ответственность.
Естественно, что иногда к Фариду обращаются с просьбами «замолвить словечко» о ком-то, но у него есть принципы, от которых он никогда не отступит. К примеру, просил его некто заступиться за начальника районной полиции, которого уволили. Фарид вник в ситуацию и тут же отказался даже обсуждать эту тему. Оказывается, родственник уволенного застрелил двух человек. «Какой из тебя начальник полиции, если ты в своем районе не можешь приглядеть даже за родней?» На мой взгляд, вопрос житейски резонный и по существу…
Машину Фарид водит достаточно вежливо и плавно, без рывков, правила соблюдает, хотя любя скорость, конечно, неважно относится к езде по узким улочкам, предпочитая им магистрали. На светофорах стоит наравне со всеми гражданами, не «грубит» и никакими преимуществами не пользуется. Лично это видел. Кстати, сам автомобиль с металлическим корпусом – замечательной редкой американской марки. Пусть я не дока в этих вопросах, но ездить в салоне из мягкой сероватой кожи было удобно и комфортно. Кстати, Фарид прекрасно владеет и русским, и азербайджанским, неплохо английским, все-таки МГИМО за плечами, не абы что.
Кстати, о МГИМО. Вступительные экзамены юный Фарид сдавал сам, без чьей-либо помощи. Попался ему билет под номером 13. Сдал на «отлично». С той поры число 13 он считает своим счастливым числом, такая вот персональная примета. Впрочем, и встречу с черным котом тоже считает хорошим предзнаменованием. В те давние студенческие годы он всерьёз увлекался рокерством, носил кличку «Бешеный кот» и рассекал по Москве на чехословацком мотоцикле. О бесшабашности своей далекой юности рассказывает с улыбкой. Однажды, буквально у ворот аргентинского посольства в Москве «Бешеный кот» на своем мотоцикле едва не столкнулся с такси. Чтобы избежать лобового удара, ему пришлось выпрыгнуть из седла мотоцикла и совершить настоящее акробатическое сальто в воздухе, перелетев через автомобиль и приземлившись с другой его стороны! Когда это произошло, он, к своему удивлению, услышал аплодисменты и крики «браво» со стороны ворот аргентинского посольства. Видимо, находившиеся там приняли случившееся на их глазах за некий специальный трюк, рассчитанный на публику…
Но первое впечатление от него было удивительным и даже чуть диковатым. В полумраке бара под рёв динамиков караоке вдруг возникла, медленно приближаясь, одинокая фигура щупловатого невысокого семидесятипятилетнего человека в молодёжной бейсболке и куртке со старомодным школьным портфелем. По виду портфеля – я с таким когда-то ходил в первый класс. В портфеле вперемежку лежала всяческая разнокалиберная мелочевка: ключи, бумаги, записные книжки, авторучки и прочее такое же. Он прибаливал, пил только горячий чай, ел мало и вяло. Глаза красные, носовой платок постоянно в деле… Зато много рассказывал о своих планах и стройках на острове – о двухэтажном ресторане для свадеб и различных торжеств в посёлке, о даче у моря с трехэтажным домом для гостей, местами для ловли рыбы, дайвинга, купания в море и прочих развлечениях.. А ещё о том, что туда прилетают лебеди, много лебедей, а еще – фламинго, и о том, что он расчистил и углубил участок моря и теперь там всегда много рыбы.
Кстати, он давно бы мог размещаться в огромных апартаментах, но на самом деле для жизни они ему не нужны. Человек привык обходиться скромной обстановкой … А вот роскошь апартаментов наоборот, только приводит его в замешательство, в них он чувствует себя неуютно, сразу скучает по тесноте своей старенькой бакинской квартиры, где всё под рукой… Обожает Фарид музыкальные записи 30—80 годов – джаз, итальянская музыка, Нино Рота, Крэйг Пейтон… Годами он собирал любимые записи на дисках, там нет ни одной «проходной» мелодии или песни. «Только шедевры», – с нескрываемой гордостью рассказывает он. И дарит свои диски с записями каждому так, как дарят кусочек сердца, свою душу. Здесь и «Is my lady» Френка Синатры, и «I will always love you» Уитни Хьюстон, и «We have all the time in the world» Луиса Армстронга… Чего только нет! Записей очень много. И все они действительно интересны. Тем более, что в тот же вечер мы слушали и смотрели их сразу на пяти огромных телеэкранах. При этом практически каждую запись Фарид горячо комментировал. Особенно мне запомнилась история Эми Вайнхаус в пересказе Фарида, которым он сопровождал исполнение ею одной из своих песен… Вот как он (примерно) рассказывал о ней: – Шикарный, уникальный голос! А какая судьба! Она сама писала всетексты и музыку к своим песням. Это при том, что в 13 лет ее выгнали из музыкальной школы, как бесперспективную. Она работала невероятно много, давала в один день по одиннадцать концертов. Какой живой организм это выдержит? Её посадили на наркотики. Она находилась в тюрьме, когда её объявили лучшей певицей планеты! Она сидела в тюрьме, когда её пять раз подряд объявили платиновой обладательницей крупнейшей на планете музыкальной премии – «Грэмми». В двадцать шесть лет она умерла. Сердце не выдержало. Стать мировой звездой в двадцать лет и умереть в двадцать шесть! Какая судьба! Какой потрясающий талант! Теперь уже я сам собираю песни Эми. Фарид «заразил». Определённо нравятся её «Back To Black», «Rehab», «You Know Im No Good», « Honey Honey» – в самом деле: уникальный голос и виртуозное исполнение. Я вдруг нечаянно пообещал Фариду, что на завтра он выздоровеет.
Действительно, так и случилось. На следующий день он выздоровел. Почему пообещал, почему не удивился результату – не знаю. Однако, из-за караоке грохот в баре стоял такой, что мы всё-таки собрались и ушли в другой, соседний, пустой зал.
Там, помимо умения собирать замечательные музыкальные записи я открыл для себя ещё один талант своего собеседника! Он прекрасно готовит блюда! В тот вечер Фарид угощал чудесными котлетами из кутума. Котлеток было всего пять. Но, хотя кутум – это рыба, рыбой они совершенно не пахли! Потом нам принесли соленья его собственной работы. Фарид с удовольствием рассказал, как именно надо солить, а ещё о том, что солить можно всё, буквально что угодно. Я пробовал на вкус и алчу, и сливу, и какой-то вообще непонятный фрукт (увы, не запомнил названия), естественно огурцы, капусту и тому подобное. Потом принесли каспийскую кефаль, тоже он сам готовил. Денег, разумеется, не взял…
– Дядя Фарид, давайте, мы Вас женим.
– Что я тебе плохого сделал? – смеётся Фарид.
Не верит он женщинам. Обжегся. Встречаться – пожалуйста. Хоть сейчас. Но как только барышня заводит речь о браке… Встречи прекращаются. В семьдесят пять поздно в чем-либо переубеждать. В свое время даже супруге Гейдара Алиева, Зарифе -ханум и матери Фарида не удалось его женить. С теплом вспомнилось о нём именно сейчас и здесь, на Севере, глядя на плывущие в воздухе мохнатые снежинки, чем-то неуловимо напоминающие фаридовских лебедей далёкого Каспия…









































