Читать книгу "Знак змеи"
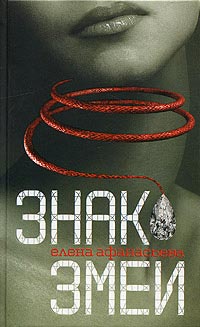
Автор книги: Елена Афанасьева
Жанр: Современные детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Катенька жмурится, представляя себе отрезанную голову и выгребную яму. Все это кажется таким жутким и таким невозможным. Только с младшими постельку ежику собирали, а теперь Грибоедов, персидский мир, отрезанная голова, алмаз в дар русскому царю во искупление крови…
Так государь император и сказал: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие!» Воротившийся из Петербурга дядюшка знает подробности того, как юный Хозрев-Мирза нашему государю дарил алмаз – цену грибоедовской крови. Заодно были прощены два последних курура контрибуции, а это четыре миллиона рублей серебром.
– Хорошо себе «происшествие»! – острая на язык Елизавета Ардалионовна не смущается вслух сказать то, что у других на уме. – Жизнь российского дворянина оценена в камешек, пусть даже редкостный!
– Да, не много жизнь наша стоит. Не много. Хотя подаренный императору камень, что в столице прозвали «Шахом», дорогого стоит. И, знаете ли, камень этот мог в нашем роду быть, – говорит Христофор Иоакимович, и словно ветер по веранде прокатывается.
– Как «в роду нашем»?!
– Он тоже фамильный лазаревский?
– Алмаз этот был среди тех пяти редких камней, которые Надир-шах показывал нашему деду. Но, как вы все знаете, после смерти Надир-шаха тайник его оказался пуст. Дед Лазарь думал, что следы всех камней потеряны. Но один или несколько камней все же были сокрыты любимой шахской наложницей среди игрушек сына, и много лет спустя один из камней перешел дяде Ивану Лазаревичу, от него нам вместе с погремушкой.
– Погремушкой?! – Елизавета Ардалионовна выказывает неподдельный интерес. – Что за погремушка?
Достав из нагрудного кармана ключ, Лазарев кличет дворецкого.
– Порфирий! Принеси ларец. Тем временем, ежели позволите, продолжу. Другой, подобный алмазной розе камень, стараниями дядюшки зовется ныне «Орлов» и красуется в скипетре Российской империи. Подаренный ныне императору желтый алмаз «Шах» третий из их числа.
– Знать бы, в чьих руках побывал он с тех пор, как исчез из тайника под Павлиньим троном! – говорит Катенькина матушка Марфа Иоакимовна.
– Бог даст, приятель мой давний Павел Петрович Сухтелен, генерал-квартирмейстер Главного штаба Его Императорского Величества, что ныне к Хозрев-Мирзе приставлен, миссию свою окончит и поможет на многие из тайн свет пролить, – отвечает отец Давыд Семенович, но взгляды уже обращены к вошедшему Порфирию.
– Вот и погремушка!
Лазарев достает из принесенного Порфирием ларца старую восточную игрушку. Теперь все глаза устремлены на загадочный предмет, и некому заметить выглядывающую из-за спины Семена маленькую Ленушку Татищеву. Только глядит девочка не на завороживший старших алмаз, а на свою маменьку Елизавету Ардалионовну. И отчего-то пришептывает: «Только не это! Только не это!»
Елизавета Ардалионовна, не слыша шепота дочери, протягивает руки к игрушке.
– Это и есть главная безделица рода Лазаревых?
– Она самая!
– Где же начинка?
– Извольте опустить пальчики туда, где шелк и парча по краю протерлись. Да-да. И меж мешочков с камешками, стеклышками и бусинками, которые делают игрушке звучание, скрыта и наша фамильная игрушка.
Елизавета Ардалионовна извлекает из погремушки алмаз. Внимательный наблюдатель в эту минуту мог бы счесть с лица Татищевой все чувства разом – от удивления и досады до злорадства. Жадно разглядывающая алмаз женщина и не догадывается, что ее младшей дочери в эту минуту видится рука со змеиным рисунком вместо кольца.
– Эдакий камень состояния стоит! – Елизавета Ардалионовна с трудом выпускает алмаз из рук и принимается с не меньшим вниманием разглядывать хранящую сокровище игрушку.
– Оттого за ним и такая охота! Знали бы вы, сколько раз пытались его перекупить, выманить его у Лазаревых! Ответ был всегда один: не отдается камень! Подарен быть может, продан никогда.
Младшие зовут Катеньку вместо детского чая просить себе молока, чтобы поить ежика, а мысли Катюшины убежали далеко-далеко и никак не вернутся. Разве что папенька говорит, к Спасу обещался приехать какой-то его приятель со смешной фамилией Сухтелен, которого император теперь при шахском посольстве состоять определил. Тогда и про тегеранское дело, и про красавчика Хозрев-Мирзу, внука нынешнего персидского правителя Фетх-Али-шаха, одного из сыновей наследного принца Аббас-Мирзы, расскажет…
* * *
Спустя несколько дней поздним вечером Христофор Иоакимович подъезжает к Москве. Дела Лазаревского института восточных языков, созданного его отцом по завещанию дядюшки Ивана Лазаревича, зовут своего попечителя. Перед новым учебным годом завтра должен заседать Ученый совет, да и типографское оборудование время оплачивать пришло. Вот и едет Христофор Иоакимович в ставший делом его жизни институт. А мысли то и дело сбиваются с одного любимого дела на другое – с институтских надобностей на проказы племянников, а с их ангельских личиков снова на дела учебные. И теперь, уже миновав Калужскую заставу и замечая, как опускается на любимый город короткая летняя ночь, Лазарев невольно возвращается мыслями в имение, спят уже, поди, маленькие непоседы?
Шумно в лазаревском доме. Да только весь этот детский гомон иной раз резанет Христофора Иоакимовича по сердцу. Шестеро племянников и еще две дочки гостящей Екатерины Ардалионовны Татищевой – создания дивные. Теплые, ласковые. Только вот им с Катеринушкой Господь детей не пошлет.
Нет у лазаревского рода наследников. Из всех сыновей старого Лазаря только Иоаким оставил наследников. Дочки Ивана Лазаревича умирали во младенчестве, а единственный сын и наследник Артемий Иванович двадцати двух лет скончался. Иван Лазаревич завещал все брату своему Иоакиму и ему, племяннику Христофору. И у Христофора Иоакимовича детей тоже нет. Того и гляди, придется снова доблесть лазаревского рода племянникам передавать. Племянники, спору нет, достойны. Один Семен чего стоит – и серьезность, и доблесть, и ум не по годам прыткий! Но так хочется и своим дитяткам в глазки посмотреть. Какие они могут быть, глазки у его-то созданий…
И все же он рад, что щебетом племянников раскрашена их всегдашняя тишина. То в салочки играть требуется, то венки плести у деревенских девушек учиться надобно. То ежика в лесу нашли, молоком из блюдечка поили, в кукольную кроватку, в мастерской самого Гамбса сделанную, спать укладывали. Три ночи несчастный еж из кроватки удирал, по комнатам как пьяный мужик топал да к ужасу дворецкого Порфирия и горничных на персидских коврах, еще дедом Лазарем привезенных, гадил, пока Христофор Иоакимович над несчастной животиной не сжалился и в сад не вынес. Побежал ежонок, только пяточки застучали. Про утренний рев и сказывать нечего. Катеринушка с Марфой все утро рыдающим детям говорили, что у ежа дома сестры-братья остались.
– Вам один без другого тоскливо бы сталось, так и ежику без дома никак не можно. Всем без дома плохо, будь ты животина или, совсем даже напротив, человек.
Дядюшка Иван Лазаревич не только о прямом потомстве думал. Оставил двести тысяч капитала «для заведения и содержания училища, в пользу нации своей». Отец, Иоаким Лазаревич, не только волю брата выполнил, но и своих более ста тысяч рублей на дело учебного заведения внес. И в восемьсот пятнадцатом году было открыто «преподавание наук для поступивших в оное воспитанников, как из армянской, так и других наций». Еще дед Лазарь вскоре после приезда купил у содержателя шелковой фабрики Захария Шеримана участок земли недалеко от Кремля, в Столбовом переулке. В годы былые там, на месте срубленного соснового бора, Иван III селил насильно вывезенных в Московию богатых новгородских бояр и купцов. С годами выстроены там были палаты князей Милославских, которые после принадлежали железных заводов держателю Вахрамею Миллеру, затем князьям Незвицким и Салтыковым, а с прошлого года – выкупившим их Лазаревым. Еще один дом в том же переулке дядюшка Иван Лазаревич в восьмисотом году купил у князей Мещерских, теперь в нем жили педагоги института. А главное здание наново выстроили.
И теперь, при свете фонарей подъезжая к нарядному, выстроенному в классическом стиле особняку, Христофор Иоакимович привычно любовался плодом лазаревских трудов. После смерти родителя все попечительские заботы перешли к Христофору Иоакимовичу и брату его. И институт в Москве в переулке, который теперь по их армянскому роду все чаще звали не Столбовым, а Армянским, отбирал много времени и сил. Но и даровал много наслаждения. Весной пожаловал он на выпускные экзамены и был приятно удивлен тем, как российские юноши восточные премудрости постигли.
Теперь Христофора Иоакимовича увлекла еще и типография.
– Три печатных станка из Петербурга доставлены, – докладывает институтский распорядитель уже по пути от кареты к парадному входу. Знает, что Лазарев зря времени терять не любит. Многие дела и на ходу можно решить. Распорядиться высадить новые цветы в институтском дворике перед чугунным с мраморными изображениями обелиском, что в двадцать втором году в память о родителе и брате его Иване Лазаревиче открыли. Или осведомиться, как продвигается ремонт конюшни и постройка нового типографского корпуса. Со временем Христофор Иоакимович думает докупить в Лондоне хорошее типографское оборудование, шрифты для разных языков, восточных и европейских, скоропечатные машины, матрицы, и издавать учебники и монографии. Без просветительства, без хороших книг ни одну нацию не сберечь и не поднять!
– Завтра! Все типографские надобности завтра, – обещает Христофор Иоакимович. – А теперь, даром что поздно, встреча у меня назначена.
– Посетитель ждет в верхней столовой! Изволите откушать?
– Не голоден. Чаю вели подать!
Пройдя по парадной мраморной лестнице, Христофор Иоакимович входит в актовую залу. Привычно окидывая взглядом роскошные бронзовые люстры, свечи в канделябрах у портрета государя, персидский ковер на полу в центре залы и торжественный длинный стол, за которым завтра соберутся на ученый совет преподаватели, а он займет свое законное место во главе этого стола.
Кивнув, мол, доволен, Христофор Иоакимович быстрыми шагами выходит, и, попутно заглянув еще в несколько классных комнат, поднимается выше. Здесь под самую крышу ведет изысканной красы чугунная лестница – произведение умельцев Чёрмозского железного завода, купленного еще дядюшкой Иваном Лазаревичем у графа Строганова. И каждый раз, поднимаясь по этой лестнице в собственную попечительскую столовую, Христофор Иоакимович испытывает необъяснимое чувство, будто не ноги его перебирают эти черные ажурные ступеньки, а крылья поднимают его под самые небеса.
– С чем пожаловал? – поздоровавшись, спрашивает Христофор Иоакимович у гостя, сидящего спиною к зажженным в тяжелом канделябре свечам и оттого кажущегося черным и таинственным.
– Заговор! – произносит гость, и только что испытанное ощущение полета улетучивается. – В шахской свите есть человек с упомянутым вашими предками знаком – змеей, обвившейся вокруг среднего пальца правой руки.
– Знак змеи еще не есть преступление, – пробует скорее себя успокоить, чем возразить гостю Лазарев.
– Знак не есть преступление, – соглашается гость. – Преступление есть подкуп. Человек со змеей намеревается подкупить тех, кто к вам в доверие вхож. Мамонтов и Шериман, к чести их, отказались. Но нам не дано знать, кто будет следующий.
* * *
Ленушке Татищевой плохо спится в ту ночь. Даром что нарыдалась о пропавшем ежике. Прежде после рыданий спалось так сладенько, а теперь отчего-то грустно. И сердце между ребрышек колотится, будто птичка-кенар, что живет в оранжерее Лазаревых, по клеточке мечется. А что как кто-нибудь умрет? Папенька, или маменька, или вот даже Любушка. Или она сама. И что тогда? В гробик положат и в земличку закопают? И как жить весело, в игры играть, ежели знаешь, что кто-то умереть может? Вот и плачется от таких мыслей Ленушке.
Еще плачется оттого, что сестрица Любушка объявила себя в Семушку Абамелека влюбленной. Ленушка и сама в Семушку давным-давно влюблена. Он и камень удивительный овальный ей подарил, что привез в прошлый год из Италии. Никому не подарил, а ей отдал, и хранит теперь Ленушка этот камень под подушкой.
Да что проку! Говорили они давеча с сестрою, нельзя им замуж за Абамелеков – приданым не вышли. Что ежели и за другого хорошего человека будет нельзя? Ежели время замуж идти настанет, а за ними и дать будет нечего, как тогда?
Род татищевский, кажется, не бедный. И поместья имеются, и мужиков много. Только с прошлой зимы невесело стало в их доме. Маменька шуметь громче обычного принялась. Папенька исчез куда-то. Учителю от должности отказали, одну гувернантку на них с Любочкой оставили. И летом отчего-то в свою Мамонтовку не поехали, в Москве сидели и только в августе приехали гостить в имение к Лазаревым. У Лазаревых, спору нет, хорошо. Да только плохо, что это не дома. Отчего боженька не родил ее у Лазаревых? Боженька им деточек не дает, вот и дал бы ее! И Семушка Абамелек приходился бы ей тогда кузеном, а в их роду на кузинах женятся.
Катерина Мануиловна тихая, ласковая, не серчает, как маменька. И Христофор Иоакимович с детьми играет, даром что все ему не родные.
С прошлой зимы мама повторяет, что папенька их «промотался». Когда она первый раз так сказала, Ленушка с Любочкой ну смеяться! Так и виделся папенька в гардеробе за ворот сюртука подвешенный. Мотался-мотался из стороны в сторону, пока не промотался окончательно, и ничего от бедного папеньки не осталось. Но после папенька исчез куда-то, маменька стала браниться пуще обычного, и Ленушка поняла, какое невеселое это слово «промотался». Теперь в их доме только и разговору было, что про «закладные», «проценты», «долги». Ленушка и слов таких прежде не слыхивала, а теперь поняла, что слова это важные, из-за них прежняя добрая жизнь в их доме не наладится.
Еще плакала Ленушка оттого, что не знала, дурная ли женщина ее маменька. Как-то раз еще в московском доме, проснувшись среди ночи, она услышала с парадной половины дома маменькин смех. В последние дни маменька не смеялась, только плакала или бранилась, и вдруг веселый такой смех. Босиком, в одной рубашке Ленушка пошла на звук маменькиного голоса. Что как сейчас откроет она дверь, а там маменька и папенька веселые, скажут ей, что все уладилось, что нашлись деньги и все теперь будет по-прежнему.
Маменька сидела на кушетке под своим парадным портретом, словно копия нарисованного. Только глаза другие, злые отчего-то глаза. Рядом с маменькой сидел человек в длинном парчовом одеянии, в Москве и в Петербурге такого не носят. От длинности платия Ленушка решила, что в гостях у маменьки женщина, и лишь когда гость повернулся, увидела и длинный острый нос, и усы, и черную бороду. Хотела посмеяться, что мужчина вдруг длинное, как у дамы, платье надел, но вспомнила, что маменька уезжала на маскерад, который Разумовские давали для персидского принца, и успокоилась. Может, сам Хозрев-Мирза в гости к маменьке пожаловал.
Впрочем, шахский внук, сказывали, молоденький, а этот совсем даже не молод. И страшон. Говорит-говорит что-то маменьке на ухо. Ленушка слов не разбирает: кушетка далеко от двери. А мама смеется и головой из стороны в сторону качает – нет-нет-нет. А страшный человек своей головой, напротив, – вниз-вверх, да-да-да! И все ближе к маменьке, ближе…
Ленушка едва не кричит от страха. И что делать, не знает. Кинешься маменьку спасать – что как она заругает. Детям выходить вечерами в гостиную не дозволено. А не кинешься, не закричишь, что как страшный человек маменьку уволочет, как тот джинн из сказки.
Джинна с маменькой за спинкой кушетки не видать. Лишь странные звуки доносятся да все то же «нет-нет-нет, да-да-да». Нет-нет-нет! Да-да-да! Глядишь, как в маскераде новую игру придумали, вот и продолжают.
– Вам, Лиззи, это и стоить ничего не будет! – вдруг громко шепчет «джинн» на дурном французском. – Посудите сами, что для вашей подруги та игрушка – восточная безделица, случайно предками с чужой земли прихвачена.
– Безделица не безделица, но не мне она принадлежит. Отчего бы вам у самих Лазаревых не спросить, – отвечает мама.
– Когда я, официальный посланник шахского двора, сундуктар…
Вот когда Ленушка слыхала то странное слово, что после называла сестре Любушке, а та не верила, что человек может сундуком прозываться!
– …сундуктар, чьим рукам было доверено охранять в дороге шахский дар, явлюсь к Лазаревым за пущей безделицей, за детской игрушкой, они могут заподозрить в том нечестный умысел.
– Зачем же роду вашему детская игрушка?
– Единственная память о прадеде нашем, чье возвышение от двора шаха Надира началось! И если это для нас прихоть, то для вас, Елизавета, моя прихоть дает единственный шанс поправить ваши дела. Иначе вам по закладным не заплатить. Пустите детей своих по миру.
– И я должна разменять будущность моих детей на бесчестие?
– Не бесчестие! Только деньги. Большие деньги. Рука «джинна-сундука» взлетает над спинкой кушетки, потрясая тяжелым кошелем. На пальце той руки темнеют то ли кольца, то ли рисунок какой…
– Этого хватит забыть все беды, причиненные вам вашим супругом. Иная дорога только в приживалы, а деточек в сиротский приют…
Горло перехватывает судорога ужаса – в приют! Их с Любушкой в приют! Едва не до крови закусывает Ленушка свою ладошку, чтобы не закричать. Рука «сундука» все трясет кошелем. И кольца, привидевшиеся девочке на пальце черного джинна, извиваются и свертываются трижды обернувшейся вкруг пальца змеей.
С той ночи змея, и кошель, и голос «сундука» стали пугать по ночам. Ленушка мучилась мыслию, чтобы маменька не сделала чего дурного. Отчего тогда привезла их гостить в усадьбу к Лазаревым?
Родил бы ее Боженька у Лазаревых, и не надо было б ни о чем таком думать. Были б у нее тогда черные глаза и черные кудри кольцами. У них с Любушкой волосы белесенькие, в локоны еле-еле укладываются, а у девочек Абамелеков кудри черные, расчесать невозможно, горничная Марьяша по утрам измучается, пока Кате и Соне головки уберет.
Родил бы ее здесь Боженька, и она была бы весела, как Катя и Соня! А если напротив, Боженька родил бы ее не в этом господском доме, который куда как лучше их дома в Мамонтовке, а в деревне, среди мужиков? Лежала бы она крохотная в стогу сена и орала, а мать ее крестьянка снопы бы вязала. Прошлым летом Ленушка такое видала.
Они с Любочкой от мадемуазель убежали и из леска за их садом случайно вышли в поле. Из небольшой скирды на краю поля неслись истошные вопли. Младенец, завернутый в какие-то грязные тряпки, посинел от крика. Ручками сучит, и слезки в маленьких глазиках. Так и орал, пока с дальнего края поля не пришла загорелая баба. Пот со лба отерла, из грязного кувшина молока отпила, титьку из-под рубахи вынула и младенцу дала. Ухватился, аж высунувшиеся из тряпья ножки задергались. Титька у бабы большая, с синими вздувшимися полосками, Ленушка никогда такой не видела. У маменьки в парадных платьях корсаж приподнят, край груди виден, красивой, белой. И колье из парюры фамильной, про которую Любонька давеча поминала, на маменькиной груди сияет красиво. Так красиво, что маменьку художник Брюллов рисовал. А эту бабу какой художник нарисует?! А если и нарисует, где такую картину повесишь? Не в залах же, разве ж такое в парадных залах вешают – баба с голой титькой и посиневший младенец.
У Ленушки тогда головка закружилась. Хорошо, мадемуазель Бинни их отыскала, отругала и домой увела. Ленушка ругани мадемуазели в кои веки рада была. Дома чай с бисквитами, и никакого синего, дурно пахнущего младенца. Грех гневить Господа! Молитву сказывать надобно, благодарить Боженьку, что она живет в теплом домике, спит в мягкой постельке. И книжки читает, и в игрушки играет, а не как тот младенец – в сыром стогу голодным криком заходится. И что с того, что Аннушка Абамелек скоро фрейлиной императрицы будет, а она, Ленушка Татищева, не будет. Главное, она замуж за хорошего человека пойдет, и у нее будут детки, много деток. Ах, почему ж нельзя за Семушку…
10
СЕКРЕТ ДОНСКОГО МАРИНАДА
(ЛИКА. СЕЙЧАС)
Вы знаете, чем пахнет южное лето?
Не рекой, не скошенной травой, не пылью и не раскаленным асфальтом, хотя и ими тоже.
Южное лето пахнет заготовками на зиму – сиропами и маринадами, соленьями и вареньями. С раннего июля по поздний сентябрь терпкий дух рассолов и заливок, льющийся из распахнутых настежь окон, перемешивается с ароматом варений.
Огурцы для засолки на южных базарах измеряются сотнями и стоят те невообразимые гроши, за которые столичный человек поленился бы даже семена в землю бросить. А надо еще рассаду вырастить, высадить, полить, окучить, выполоть сорняки, истребить вредителей, снова полить, ведрами таская к грядкам воду из ближайшего колодца, собрать урожай, рассовать зеленеющее море по грубым холщовым мешкам, загрузить в допотопный «Жигуль» тысяча девятьсот семьдесят третьего года выпуска, прожариться под полуденным солнцем, пока закипевший мотор будет плеваться и без того раскаленной водой, довезти до рынка, переругаться с перекупщиками, откупиться от крышующих, забашлять, умаслить, дать на лапу… Чтобы наутро почти за бесценок отдать таким же богатеям, уверяющим, что на сельмашевском рынке на два рубля дешевле.
Потом огурцы эти, как малые дети, будут мокнуть в хозяйской ванне, забирая из ведер и пластиковых канистр последние запасы воды, которая в этом городе течь из-под крана давно уже не хочет, чтобы к вечеру вызвать к жизни наш советско-российский вариант капиталистического конвейера, составленного из всех членов семьи. Пряный аромат эстрагона, сельдерея, чеснока и укропа въедается в кожу и остается в порезанных и натертых пальцах надолго. Кто помладше специи режет и по банкам рассовывает – главное не перепутать, куда острый перец положили, а куда еще нет. Кто постарше, налегая на машинку для закручивания, занимается делом в высшей степени эротичным – в экстазе сливает крышку с банкой…
Ах, это летнее закатывание банок, превращенное жителями знойного юга в священный ритуал. Хозяйка, не заготовившая на зиму несколько сотен баллонов с солеными огурцами, помидорами, кабачками и патиссонами, не забившая полки сараев и подвалов батареями компотов, варений, заправок, соусов и аджик, не нашедшая своего фирменного рецепта консервирования баклажанов и засаливания арбузов, не имеет права на звание хорошей жены и матери.
– …Вы бланшируете ваши помидоры?
– …Сельдерея сколько на баллон?
– …И обязательно вынуть косточку! Шпилечкой аккуратненько так поддеваете через попку, ну через то, где у вишенки хвостик, и вынаете! С косточкой не тот настрой!
– …Все помидоры в тот год повзрывались! Уксус, видать, плохой. Уж как без помидоров-то дожили до нового урожая, и не сказать!
– …И добавьте веточку смородины. Говорю вам, добавьте смородины, не пожалеете.
Ах, эти южные заготовки на зиму! Предложение зимою покупать по баночке в магазине звучит кощунственно. Все мешками! Все кадками! Кажется, ни за какую зиму это не съесть, да и не выпить столько, чтобы всем этим закусывать. Но и выпить, и заесть, задыхаясь от остроты алого помидорчика больше, чем от того, что этим помидорчиком закушено. Эх, ядрен, аж во рту все горит! И запить все прозрачным рассольчиком с плавающими в нем веточками петрушки, мраморными дольками чеснока и одинокими горошинами душистого перца.
А после жаловаться на язвы, гастриты, поджелудочные, как личную обиду воспринимая любое упоминание о диете. Фраза «Ограничьте острое и соленое» в лексиконе южных врачей отсутствует. Они же не сумасшедшие, чтобы предлагать такое! Они же сами живут в этом городе! Здесь легче скорчиться от боли, чем не хрустнуть болотно-зеленым в пупырышках огурчиком, легче сдохнуть, чем не съесть. Если не съесть, то жить тогда зачем?
* * *
– Эгав эрвинацав! За смертью посылать! – отреагировала на мое появление Ида. Каринэ на удивление промолчала, только выразительно взглянула на часы.
Когда я вернулась от Эльки, два столпа развалившейся семьи ушли «в ночное». Число закатанных банок и баллонов с баклажанами и огурцами, выставленных на холщовый мешок крышкой вниз – проверить, не протекают ли, измерялось уже рядами, а число заранее приготовленных пустых банок не уменьшалось.
– И кто все это будет есть?! – не удержалась я от столичного вопроса, забыв, что в родном городе такие вопросы считаются неприличными
Обе гранд-дамы наградили меня достойными взглядами.
– Неча умничать! Соль лучше отмерь.
Не успев пикнуть, я оказалась встроенной в семейный конвейер. Иные южные семьи подобный конвейер держал крепче всех прочих родственных уз. Семьи давно не было, а конвейер был. Как это разойтись с мужем, а кто будет мешки с базара тащить и банки закручивать?!
– Соли мы у Зинки заняли, тебя разве дождешься! Пойди, отнеси ей свою пачку! – сквозь зубы процедила свекровь, пока я доставала из пакета выданный мне Ашотиком «боевой засолочный комплект», выкладывая вокруг пачки каменной соли натюрморт из красных жгучих перцев, болотной зелени хрена и укропа.
Рядом с моим натюрмортом на столе красовался оплетенный кувшин вина. Что-то новенькое. Любовью к вину мои гранд-дамы никогда не отличались. Обе всегда предпочитали пропустить стопочку армянского коньячка, приправляя ее старой байкой о знакомом, который уверял, что это русские придумали закусывать коньяк лимоном. «Настоящий коньяк закусывают толко пэрсиком! Пэрсиком!»
– Подарок тебе привезли. Нашли, что везти – кислятину! – указав на бутыль, прокомментировала свекровь. Белое вино в этом доме по-прежнему было не в почете.
– И кто привез? – поинтересовалась я, на что получила конкретный ответ:
– Нам не докладывали!
Никто, кроме Эльки с Ашотом не знает, что я здесь. Разве что Михаська решил собственную негалантность исправить и бутыль из взяточнического запаса перекинул.
– Сама пить не будешь, – не спрашивала, а утверждала свекровь, отдавая дальнейшие распоряжения, – Зинке снеси, как соль отдавать пойдешь. Зинка все выглушит!
Ах, этот вечный соседский принцип: «На тебе, Боже, шо мини не гоже!» – бабуля моя называла это так. В нашем дворе всегда найдется, кому непригодный в хозяйстве презент передарить.
* * *
Зинка, которой я была вынуждена на ночь глядя тащить занятую свекровями соль, была уже в соответствующей этому времени суток кондиции. Но, как и мои гарпии, колдовала над баллонами. Только у Зинки на повестке дня были одни огурцы, без баклажанов. И сей титанический труд соседка сопровождала не занудными придирками в духе моих свекровей, а громогласным исполнением неоднократно показанной по всем телеканалам арии Квазимодо из модного мюзикла. Ну и прихлебыванием винца, разумеется.
Все-таки я отвыкла от действительности родного двора. Неверно среагировала на нездоровенький блеск в глазах соседки и характерное дрожание ее рук, когда та, открыв принесенную мною пачку соли, попыталась отмерить нужное число ложек в кипящий рассол.
– Не многовато ли?
– Цыц! – скомандовала Зинаида. – Яйца курицу не учат! Ты мои огурки кушала? Я те спрашую – ты мои огурки кушала, чтоб меня учить, сколько соли сыпать! Это у твоей Каринки хинин вместо помидорок. А у меня огурчик к огурчику! Закусываешь – душа поет!
Душа у Зинки явно пела! Причем громко. «Я-аа-а душу дьяволу готов отдать за ночь с тобо-оо-ой!»
Зинка ложкой зачерпнула кипящий рассол. Подула на него так, что брызги разлетелись во все стороны, оставляя белесые от выпарившейся соли следы. Попробовала.
– Ядреный! Глотни!
Я замотала головой.
– Тогда винца.
Поморщившись на мой следующий отрицательный жест, Зина вытерла руки о фартук, плеснула из принесенной мною фляги щедрую порцию в стакан.
– Ну, за нас, таких красавиц! А если мы не красавицы, то мужики просто зажрались! – выдала свою традиционную присказку Зинаида и жадно выпила. – Не! Вы на нее только поглядите! Ну что ты, Анжеликочка, за соседка! Пять лет ее не было, пожаловала – и нате! Ни выпить по-людски, ни закусить. Флягу притарабанила, и все соседство! Давай по трошечки, с возвращеньицем!
– Зин, я тебе лет пятнадцать назад объяснила, что я не Анжелика, а Лика. Ли-ка! – сорвалась я, и сама же пожалела. Объяснять что-либо Зине было бесполезно.
– Лады! Лика! Лика-хреника! Хоть Матрена. Хоть Алинка-малинка, как эта последняя твоего первого.
Зина мотнула головой в сторону фотографии, висевшей в дешевенькой рамочке на стене. На фото легко идентифицировались главные действующие лица этого дворового театра, собравшиеся вокруг Зинаиды на ее дне рождения. Между Идой и Кимом виднелась незнакомая мне молодая рыжеволосая женщина.
– Кто это?
– Говорю ж, последняя твоего первого. Кимушкина последняя по счету жена, Алинка-малинка. Сучка с ручкой, тебя почище.
Зина выдавала в адрес последней жены Кима нечто столь же одобрительное, какое всегда неслось вослед и мне. Я тем временем разглядывала на фото свою последовательницу, видеть которую мне прежде не доводилось. Да уж, лица недобрым выраженьем… Как там ее Ашотик назвал? Рыжая копна на мешке амбиций… Где ж я ее видела? Не во сне же. Но видела. Явно видела где-то… Впрочем, в этом городе все друг друга где-то когда-то видели.
Ах, да! Картина, столь странно исчезнувшая сегодня днем из Кимкиной мастерской. Не померещилась же мне эта картина. Рыжую Алину, изображенную в верхней части холста, я прежде, до этой фотографии, не видала, значит, привидеться, да еще и в нарисованном виде, мне она не могла. А если не привиделась, то кому понадобилось картину с ее изображением красть? Разве что какому-то алкашу, продать бесценный кимовский шедевр за бутылку, рассуждала я сама с собой, закрывая Зинкину дверь и поднимаясь на полтора лестничных пролета вверх, домой. Дома – странно, но я по-прежнему мысленно называла домом эту старую квартиру в полуразвалившемся доме, в котором витали призраки моих былых страстей, – семейный конвейер заканчивал работу.
– Каринэ, ты случайно не просила Кима что-либо с персидского языка перевести?
– Ему б с такими женами русский с армянским не забыть бы!
– Но мог же он просить Алину найти в Эмиратах переводчика для тебя.
– Мне без этой сучки, хан джих, арабистов хватает. Ругалась свекровь всегда отменно, причем сразу на двух родных языках.
Закупорив крышкой последнюю из отмеренных на сегодня банок, она отерла пот со лба, устало уселась у старого деревянного стола. Вытащила из дальнего ящика пачку сигарет, запрятанную между оторвавшихся пуговиц и катушек. Сто лет в обед, а все от Иды прячется! Затянулась и вместе с дымом выдохнула:
– В вашей комнате завалы разбирала. – Похоже, Каринэ, как и я, не могла отвыкнуть называть «вашей» комнату, в которой я по очереди жила с двумя своими мужьями. – Вещи твои нашла. Может, пригодятся. Твоим родителям звонила, чтобы забрали, да они так и не заехали.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































