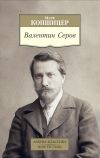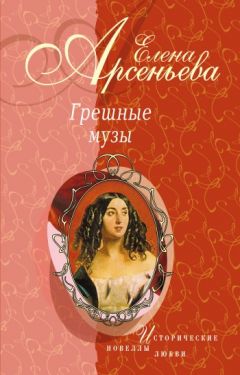
Автор книги: Елена Арсеньева
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Елена Арсеньева
Причуды Саломеи, или Роман одной картины (Валентин Серов – Ида Рубинштейн)
Как красива царевна Саломея сегодня вечером!.. Посмотри на луну. Странный вид у луны. Она – как женщина, встающая из могилы. Она похожа на мертвую женщину. Можно подумать – она ищет мертвых… Очень странный вид у нее. Она похожа на маленькую царевну в желтом покрывале, ноги которой из серебра. Она похожа на царевну, у которой ноги как две белые голубки. Можно подумать – она танцует. Она медленно движется… Как царевна бледна! Я никогда не видел, чтобы она была так бледна. Она похожа на отражение белой розы в серебряном зеркале…
Резкий, монотонный женский голос, произносящий эти странные слова, размеренно доносился из-за наглухо запертой белой двери.
– Как она мне надоела! – вздохнула сиделка и выключила спиртовку, на которой уже начал побулькивать крышечкой маленький кофейник. – Слышать больше не могу про эту проклятую Саломею. Каждый вечер одно и то же, одно и то же. Мадам Ленор, которая дежурит в смену со мной, жалуется, что и ей нет никакого покоя от Саломеи. По-хорошему надо бы позвать священника, чтобы изгнал дьявола из этой бледной немочи, которую держат там, за дверью!
– Ничего, – усмехнулся санитар, протягивая чашку. – Половину, мадам Мано. Довольно, вот так… Слишком крепкий кофе, я не хочу, чтобы у меня опять началось учащенное сердцебиение. А может быть, – игриво хихикнул он, – у меня учащенное сердцебиение не из-за кофе, а из-за вас?
– А у меня учащенное сердцебиение из-за нее! – не отвечая на невинное кокетство, простонала мадам Мано, со звоном брякая чашку на блюдце. – Вот, слышите? Она опять начала! Проклятая еретичка!
– Твой голос пьянит меня, Иоканаан! Я влюблена в твое тело! Твое тело белое, как лилия луга, который еще никогда не косили… Твое тело белое, как снега, что лежат на горах Иудеи и нисходят в долины… Розы в саду аравийской царицы не так белы, как твое тело. Ни розы в саду царицы аравийской, благоуханном саду царицы аравийской, ни стопы утренней зари, скользящей по листьям, ни лик луны, когда она покоится на лоне моря… Нет ничего на свете белее твоего тела. Дай мне коснуться твоего тела!
– Господи, что она несет! – фыркнула сиделка, краснея. – Надо ее связать и заткнуть ей рот. Чего я только не наслушалась на этом посту, одна Святая Дева знает мои мучения! Но такого я никогда не слышала.
– Да не волнуйтесь вы так, – пробормотал санитар, который тоже смутился и отвел глаза от распалившейся сиделки. – Не надо никого связывать. Разве вы не знаете, как тиха и безобидна эта больная? Вся ее вина только в том, что она слишком богата и непомерно помешана на своей красоте. Держу пари, она сейчас лежит, вытянувшись во весь свой длинный рост, таращится на себя в зеркало, которое по ее мольбам укрепили над ее кроватью, и бормочет эти нелепые слова. Ну какая в том беда? Она не бьет стекла, не ломится в дверь. Бог с ней! – И он снова поглядел на сиделку: – Вы лучше вот что скажите мне, мадам Мано… нет ли среди ваших предков испанцев или итальянцев? Иначе откуда бы у вас взялись эти прелестные черные глазки?..
Эх, жаль, жаль, не нашлось в этот вечер в частной лечебнице доктора Левинсона никого, кто рискнул бы держать пари с санитаром, потому что у него, у этого рискового человека, появился бы вполне реальный шанс увеличить содержимое своего кошелька!
– Саломея, Саломея, танцуй для меня. Я молю тебя, танцуй для меня… – высоким, пронзительным голосом декламировала очень высокая, очень худая и очень бледная женщина с распущенными черными волосами, одетая в лиловую с серебром пижаму, медлительными, рассчитанными движениями ковыряя шпилькой в замочке, который сдерживал оконные створки.
Эту шпильку еще позавчера уронила из своей прически сиделка Мано. Ида боялась, что она спохватится, боялась, что это проверка, и не притрагивалась к шпильке до сегодняшнего утра, хотя она так заманчиво темнела на светлом ковре, покрывавшем пол. Конечно, ее непременно заметила бы уборщица, заметила бы и убрала, однако Ида и вчера, и нынче утром устроила скандал и никого в свою комнату не пустила. Лекарства ей приносил сам подслеповатый дядюшка, доктор Левинсон – вот поганая, мерзкая тварь, он-то и заточил Иду в свою собственную психушку, повиновавшись настоятельным требованиям ее родственников, которым до того жалко стало рубинштейновских миллионов (что и говорить, тратила она деньги, как хотела, не считая!), что они сочли ее помешанной и упрятали в эту беленькую, сверкающую, чистенькую, пахнущую лекарствами тюрьму.
Она провела здесь целый месяц, чуть и в самом деле не спятила, ожидая, что эти зажиревшие свиньи, ее родичи, одумаются и сжалятся, а потом решила плюнуть на все – и снова взять судьбу в свои руки. Причем надо было спешить – cрок действия ее паспорта кончался. Нужно уехать из Франции самое позднее послезавтра, не то к ней привяжется полиция, и у Левинсона появятся законные основания держать ее в заточении, кроме выдуманной болезни. Скажет: «Я делаю это для вашей же пользы, моя маленькая Лидуся! Стоит вам выйти на улицу, и к вам может привязаться любой ажан, который разглядит в вас иностранку. А за несоблюдение паспортного режима во Франции недолго и в Консьержери угодить!»
В Консьержери Иде не хотелось. Но еще больше ей не хотелось сидеть в этой наглухо запертой комнате и слушать, как толстый и противный доктор Левинсон (сама чрезвычайно, невероятно худая, она ненавидела толстяков до брезгливого визга!) называет ее Лидусей.
Ну да, в самом-то деле ее звали не Идой, а Лидой, но это имя она ненавидела, ненавидела!
– Мне грустно сегодня вечером… Да, мне очень грустно сегодня вечером. Когда я вошел сюда, я поскользнулся в крови, это дурной знак, и я слышал, я уверен, что слышал, взмахи крыльев в воздухе, взмахи как бы гигантских крыльев. Я не знаю, что это значит… – произнесла она громче, чем прежде, потому что в это мгновение замок поддался ее усилиям и открылся.
Так, отлично, теперь очередь за ставнями. Какое счастье, что палата на втором этаже, а значит, ставни закрываются изнутри!
– Мне грустно сегодня вечером, поэтому танцуй для меня… Танцуй для меня, Саломея, я умоляю тебя! – продолжала Ида свой спасительный, скрывающий шум ее усилий монолог. – Если ты будешь танцевать для меня, ты можешь просить все, что захочешь, и я дам тебе. Да, танцуй для меня, Саломея, я дам тебе все, что ты пожелаешь, будь это половина моего царства!
Второй замок открылся неожиданно быстро, Ида чуть не подавилась от неожиданности. Не отворяя ставен (а вдруг кто-то заметит открытое окно клиники раньше, чем Ида ее покинет?), она прокралась к двери и провозгласила:
– Ты мне дашь все, что я пожелаю, тетрарх? Ты в этом клянешься, тетрарх? Чем поклянешься ты, тетрарх?
Прыжок к окну. Толкнуть тяжелые створки… Легко вскочить на подоконник… Опустить вниз ноги – такие длинные, что, чудится, им совсем немножко осталось, чтобы достать до земли. Затем Ида пронзительно заговорила:
– Жизнью моей поклянусь, короной моей, богами моими! Все, что ты пожелаешь, я дам тебе, будь это половина моего царства, если ты будешь танцевать для меня. О Саломея, Саломея, танцуй для меня!
Ида бесшумно спрыгнула в сад. Резкий, пронзительный голос умолк.
В коридоре мадам Мано вздохнула с нескрываемым облегчением, приоткрывая губы навстречу губам санитара…
– Такси! Такси! Стойте! Говорят вам, стойте! Крети-ин!..
Вторая машина промчалась мимо, не остановившись около Иды. Ну да, она еще слишком близко от клиники Левинсона. Неужели парижские таксисты такие догадливые и понимают, каким образом на тротуаре могла оказаться растрепанная дама в шелковой пижаме?
Правда что кретины. На самом деле у пациентов клиники совсем другие пижамы, а эта пошита на заказ и на заказ вышита серебром. Почему у этих простолюдинов столь бедное воображение, что они не могут принять эту пижаму за маскарадный костюм?
Наконец ей повезло. Один таксист все же оказался обладателем достаточно богатого воображения. Богатого не только в отношении одежды. Когда таксист запросил двадцать франков, Ида по его загоревшимся глазкам сразу поняла, что сумма несусветная, но, конечно, спорить не стала. Двадцать, двести… Не все ли ей равно?!
И вот уже площадь Квебек, вот знакомый дом в глубине садика…
Швейцар вытаращил глаза:
– Мадам? Вас так давно не было видно! Я даже хотел заявить в полицию! А сегодня из Петербурга прибыла дама, которая назвала себя вашей тетей, мадам Горовиц. Она очень волновалась, не найдя вас на месте!
– Да, мадам Горовиц и в самом деле моя тетушка. Буду рада ее видеть. Шарль, я приехала на такси. Прошу вас, пойдите отдайте моему шоферу двадцать франков.
– Сколько?! – простонал швейцар, хватаясь за грудь. – Откуда вы приехали, мадам? Может быть, из Бордо?!
Не слушая, Ида взбежала по лестнице:
– Тетя Аня? Ну да, ну да, это я, не падайте в обморок. Послушайте, вы должны за меня заступиться перед Левинсоном. Он объявил меня сумасшедшей, вот дурак-то… Все, я все поняла! Я понимаю, что вы и все прочие были отчасти правы. Я должна поделиться с вами… Давайте договоримся. Я выхожу за вашего Володьку, выхожу хоть завтра. Потом мы разводимся. Вы же понимаете, что ни он, ни я не созданы для семейного счастья. Я не могу идти по жизни рядом с кем бы то ни было. Я могу идти только одна! Владимир получит по контракту… Сколько вы хотите? Четверть? Ладно, третью часть, черт с вами со всеми! Но только уж извольте после этого оставить меня в покое, понятно?! А теперь я хочу ванну и ужин. Мяса, мяса, мяса! И дюжину устриц. И шампанского! И еще пошлите за Ромен Брукс. Моя горничная знает, где она живет. В этой поганой клинике я устала спать одна!
Мадам Горовиц наконец обрела дар речи:
– Как? Ты хочешь позвать сюда эту непотребную американку?! Но ты теперь невеста моего сына, так что…
– Но ведь я еще не жена его, – ухмыльнулась Ида. – Кроме того, я не возражаю, если Володенька приведет сюда кого-то из своих мальчиков. Кто у него теперь? Все еще Луи-Поль? Ну надо же, какая долгая верность! Мой привет Луи-Полю!
И, расшвыряв в разные стороны туфельки, она пробежала в сторону ванной комнаты.
Анна Петровна Горовиц только головой покачала, глядя вслед по-змеиному извивающейся фигуре в лиловых шелках. Право, такое ощущение, что в теле Иды нет ни единой косточки. Зато нрав у нее – железной крепости. Даже и теперь, припертая к стенке денежными претензиями возмущенных родственников, для которых нет разницы между актрисой и куртизанкой, она норовит поступить по-своему!
Сколько всего Анна Петровна натерпелась за последние десять лет, с тех самых пор, как Иду привезли в Петербург после смерти ее родителей! Девчонка не знала меры своим фантазиям… так же, как никогда не знала счету своим деньгам…
* * *
Что и говорить, Лев Рубинштейн, харьковский, а потом и киевский сахарозаводчик и меценат, был богат фантастически. Его единственная дочь (разные источники называют годом рождения Лидии то 1880, то 1883, то 1885 год) росла и воспитывалась, как принцесса крови. Но вот родителей Иды унесла эпидемия… Многочисленные родственники, кормившиеся на проценты с капитала Рубинштейна до совершеннолетия наследницы, продолжали лелеять все ее прихоти. А когда ей было десять и возникли разговоры о хорошем образовании, Иду (на имя Лида она больше не отзывалась) отправили в Петербург, к тетушке Анне Петровне. Особняк на Английской набережной, переполненный шедеврами искусства, вполне подходил для дальнейшего воспитания принцессы Рубинштейн.
Разумеется, ни о каких гимназиях или институтах речи не шло и не могло идти. Образование Ида получала дома и без труда освоила четыре языка: английский, французский, немецкий и итальянский. Когда она заинтересовалась историей Греции, тут же был нанят ученый-эллинист. Теперь она знала пять языков.
Она читала невероятное количество книг, великолепно знала классику и увлекалась Ницше.
Ну и разумеется, Иду обучали музыке и танцам. Слух у нее оказался недурной, но голоса никакого, способностей к танцам тоже не обнаружилось. Зато обнаружилось невероятное упрямство! Именно танцы влекли ее неодолимо, и она готова была на все, чтобы научиться владеть своим долговязым, непослушным, несуразным и неграциозным телом. Часами занималась перед зеркалом, то отрабатывая сложное па, то застывая в изысканной позе.
Чем больше она смотрела на себя в зеркало, тем больше восхищалась своим уродством, в котором со временем и в самом деле начало появляться что-то изысканное. Большеротая, с узкими, вытянутыми к вискам глазами, худая, плоскогрудая, Ида была далеко не глупа. Красота – это ведь не только канон, но и впечатление. Если она, Ида Рубинштейн, не соответствует канонам, значит, она должна научиться производить на людей ошеломляющее впечатление. А это лишь вопрос стиля, воображения и денег. Того, другого и третьего у нее имеется в достатке, а значит, ничто не мешает стать единственной в своем роде! Чем больше Ида смотрелась в зеркало, тем больше уверялась, что производит впечатление какой-то нездешней сомнамбулы, едва пробудившейся к жизни, охваченной некими чудесными грезами…
Решено! Это и будет ее стиль!
И вот еще что. Настоящие дурнушки сидят по углам и прячут свое уродство от глаз людских. Но Ида выставит свое возведенное до превосходной степени безобразие на всеобщее обозрение и заставит поверить, что оно и есть красота!
Где же можно было продемонстрировать себя всем людям в начале ХХ века? Разумеется, на сцене. И она увлеклась художественной декламацией. Но голос был слаб, ложный, манерный, истерический пафос только раздражал слушателей.
Родственники скептически восприняли желание Иды пойти на сцену, но были убеждены, что, осознав собственную бездарность, девица одумается. Но они ведь не знали, что Ида не видела у себя ни единого недостатка, только несомненные достоинства!
В общем, ей было позволено брать уроки драмы у артистов императорских театров. Закончилось это обучение сюрпризом: Ида заявила о своем желании стать трагической актрисой.
Однако одного только ее желания было мало. То один, то другой педагог заявляли ей о полном отсутствии таланта. И тогда Ида наконец вспомнила своего отца, который был принят у самых уважаемых людей Киева, потому что он, всего-навсего еврей-торговец, обладал таким состоянием, при мысли о котором сословные различия превращались в сущую ерунду. Но ведь теперь это почти неприличное состояние принадлежит ей! Почему же она не умеет извлекать из него пользу?
Ида Рубинштейн пошла учиться на драматические курсы при Малом театре и начала тратить свое сказочное состояние на то, что сегодня назвали бы «частной театральной антрепризой». Теперь она не снисходила до просьб: дайте мне роль, ах, молю вас… Теперь она называла сумму, превышающую смету спектакля вдвое или втрое, и говорила: я хочу главную роль! Именно главную – она была слишком брезглива, чтобы унижаться до второстепенных ролей. Кроме того, она сама выбирала и спектакли: в скучнейших, с ее точки зрения, пьесах Горького или Чехова она и впрямь смотрелась бы нелепо, зато античная классика или современный декаданс – вполне достойные ее произведения!
Когда пронесся слух о том, какие деньги она готова отдать за спектакли, Станиславский, незадолго до этого отвергнувший ее, начал рвать на себе свои густые и пока еще черные волосы. Он звал ее вернуться, звал, звал… Ида только фыркнула.
Разумеется, она понимала, что не обойдется без знакомств в театральном мире. И тут на каком-то светском приеме она познакомилась со Львом Бакстом, театральным художником и декоратором.
К тому времени слух об утонченной и стильной Иде Рубинштейн прошел по Петербургу. Немало этому слуху способствовали написанные на ее деньги статейки для светской хроники. Их цитировали. Стало модно говорить о невероятной, утонченной красоте Иды. Вот только несколько таких высказываний.
«Я увидел молодую, высокую, стройную девушку в чудесном туалете, с пристально-скромным взглядом, отливающим солнечною косметикою. Она произносила только отдельные слова, ничего цельного не говорила, вся какая-то секретная и запечатанная, а между тем она была и не могла не быть центром всеобщего внимания. Девушка эта претендовала на репутацию сказочного богатства и ослепительной красоты. О богатстве ее распространялись легенды».
«Лицо Иды Рубинштейн было такой безусловной изумляющей красоты, что кругом все лица вмиг становились кривыми, мясными, расплывшимися!»
«Никто не умеет так обедать, как Ида Рубинштейн. Протянуться длинной рукой к закускам, взять ложку, ответить что-нибудь лакею, при этом хохотнуть вам трепетно блеском зубов, пригубить вино и с небрежной лаской налить его соседу – все это музыка, веселье, радость. И тут же разговор на труднейшую тему, в котором Ида принимала живейшее участие, даже не без некоторой эрудиции, особенно пленительной в таких устах. Играя за столом, усыпанным цветами, скользящими улыбками и прелестным наклоном головы к кавалеру, она иногда, разгорячившись по-своему, в порыве восхищенного экстаза бросала на дно вашего бокала бриллианты, снятые с длинных пальцев».
Бакст, подстегнутый мыслями о гонораре, который ему светит, не остался в стороне и вплел свой цветок в венок высказываний, венчающий голову Иды, маячившую где-то сантиметрах в десяти над ним: «Это существо мифическое… Как похожа она на тюльпан, дерзкий и ослепительный. Сама гордыня и сеет вокруг себя гордыню».
Оказалось, «тюльпан» хотел на свои средства поставить «Антигону» и сыграть в ней главную роль. Бакст с радостью согласился.
Стильное уродство было в моде, поэтому, когда Ида пригласила художника к сотрудничеству не только на сцене, но и в постели, он с радостью согласился. И потом долго не мог понять, что она такое: то ли лед в огне, то ли огонь во льду. У девицы обнаружились явные склонности к извращениям, ее темперамент то вспыхивал, то остывал, она зажмуривалась, чтобы не видеть отражения любовника в зеркалах, которыми была щедро уставлена ее спальня, но почти не отводила во время акта глаз от себя.
Эгоцентризм, нарциссизм, эгофилия, гедонизм… Клиническая картина. А не лесбиянка ли она, подумал Бакст… Да ладно, зато какие деньги! К тому же в голове у юной гедонистки водились кое-какие мысли, и эрудиции у Иды в самом деле было не отнять. Ко всему в своей жизни она подходила серьезно и обстоятельно. «Заболев» древнегреческой трагедией, она начала учиться истории искусств, назначая знакомым свидания в Эрмитаже. Специально зубрила не современный греческий, а древнегреческий язык, чтобы прочесть Софокла и Еврипида в подлиннике. Хотела построить в Питере грандиозное здание нового театра из розового мрамора…
Впрочем, «Антигона», как и все другие проекты Иды, будут направлены на прославление одного человека – ее самой. Древнегреческое искусство было лишь поводом к этому. Однако сцена – это не обед, где довольно «потянуться длинной рукой к закускам». Когда Ида под псевдонимом Львовская появилась в роли Антигоны, критики назвали ее игру ученической: отметив пластическую выразительность, не закрыли глаза на дилетантизм – отсутствие голосовой техники, плохую дикцию, неумение держать паузу и слушать партнера.
Примерно в это время в Петербурге оказался немецкий драматург Иоганнес фон Гюнтер. Вот что он писал: «Лев Самойлович Бакст тогда обхаживал одну неестественно худую, наивно дерзкую и очень богатую молодую девушку, мечтавшую стать новой Дузе. Ида Рубинштейн происходила, если не ошибаюсь, из семьи петербургских банкиров. К ее начинаниям привлечены были все известные современные драматурги: еще очень юная и чрезвычайно самоуверенная дама хотела получить сенсационную пьесу какого-нибудь гениального драматурга, написанную только для нее, и, поручив оформление Баксту, поставить ее на свои средства в Париже.
Не знаю точно, с кем именно уже велись переговоры, но, кажется, никого не нашли. Позднее Гофмансталь намекал мне, что Дягилев обращался к нему по этому поводу из Парижа, но – безуспешно. Название моей пьесы заинтересовало Бакста: «Очаровательная змея» – с этим уже можно было что-то делать. Однако сама пьеса понравилась ему столь же мало, сколь ее автор – серафически надменному чуду, принявшему девический облик. На этом все дело и провалилось. Добрейший Бакст пытался меня утешить. А Ида Рубинштейн нашла себе потом драматурга в лице Габриэля Д’Аннунцио, который как ловкий профессионал сочинил именно то, что требовалось – «Мистерию о мученичестве святого Себастьяна». Главная роль особенно подходила для нее еще и потому, что, как утверждают, во время спектакля при всем желании невозможно было распознать, какого пола госпожа Рубинштейн. Когда я спросил об этом Бакста, он лишь многозначительно подмигнул мне: у Моисеева золотого тельца, мол, тоже не разберешь, какой он там из себя».
Мужчи-ины… Как же они коварны! Недаром Ида все откровенней начинала предпочитать женщин, тут Бакст не ошибся.
Про Д’Аннунцио речь пойдет впереди, а пока вернемся к «Антигоне». Прохладные рецензии не остудили пыла неистовой Иды. Теперь она возжелала сыграть «Саломею» в пьесе гениального гомосексуалиста Оскара Уайльда, который, между прочим, сам в свое время выступил в этой безусловно женской роли.
С другой стороны, играла же Сара Бернар шекспировского Гамлета, так почему бы Уайльду не сыграть его собственную Саломею?..
Ида начала искать театр и режиссера, подходящих под ее деньги и замысел. Станиславский снова звал ее к себе. Ах, как ему нужны были средства! Ладно, Мария Андреева привлекала тысячи Саввы Морозова, но вот ежели бы денежки Морозова да прибавить к денежкам Рубинштейн… К изумлению Иды, два или три театра, в том числе Малый, от постановки отказались, назвав пьесу безнравственной.
Похоже, именно тогда она услышала это слово впервые. И вытаращила свои сильно подведенные черные-пречерные глаза: да? А что тут такого?
Ей объяснили: Уайльд уверяет, будто Саломея, падчерица царя Ирода, выпросила у него голову Иоанна Крестителя лишь потому, что возжелала его, а Иоанн испугался искушения и отверг ее. Пьеса искажает образ святого, разве вы не понимаете, сударыня?
Сударыня не понимала. И с упоением репетировала свой любимый монолог, держа в руках что-нибудь, что должно было изображать отрубленную голову пророка:
– Иоканаан, ты был единственный человек, которого я любила. Все другие внушают мне отвращение. Но ты, ты был красив. Твое тело было подобно колонне из слоновой кости на подножии из серебра. Оно было подобно саду, полному голубей и серебряных лилий. Оно было подобно башне из серебра, украшенной щитами из слоновой кости. Ничего на свете не было белее твоего тела. Ничего на свете не было чернее твоих волос. В целом свете не было ничего краснее твоего рта. Твой голос был жертвенным сосудом, изливающим странное благовоние, и, когда я смотрела на тебя, я слышала странную музыку!.. Почему ты не смотрел на меня, Иоканаан? За твоими руками и за хулениями твоими скрыл ты лицо свое. На глаза свои ты надел повязку, как тот, кто хочет видеть своего Бога. Ну что же, ты видел своего Бога, Иоканаан, но меня, меня ты никогда не видал. Если бы ты меня увидел, ты полюбил бы меня. Я видела тебя, Иоканаан, и я полюбила тебя! Я еще люблю тебя, Иоканаан. Тебя одного. Твоей красоты я жажду. Тела твоего я хочу. И ни вино, ни плоды не могут утолить желания моего. Что буду я делать теперь, Иоканаан? Ни реки, ни великие воды не погасят моей страсти. Царевной была я, ты презрел меня… Целомудренна я была, ты зажег огонь в моих жилах… Почему ты не посмотрел на меня, Иоканаан? Если бы ты посмотрел, ты полюбил бы меня. Я знаю, ты полюбил бы меня, потому что тайна любви больше, чем тайна смерти. Лишь на любовь надо смотреть… А! Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот. На твоих губах был острый вкус. Был это вкус крови?.. Может быть, это вкус любви. Говорят, у любви острый вкус. Но все равно. Все равно. Я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот…
Какой прекрасный текст.
Какой страшный текст!
Он безмерно подходил Иде. Безмерно, ибо она была таким же демоном разрушения, как и Саломея.
Наконец Ида оказалась в Театре Комиссаржевской. Сначала присматривалась: ежедневно приезжала в театр, молча выходила из роскошной кареты в совершенно фантастических и роскошных одеяниях, с лицом буквально наштукатуренным, на котором нарисованы были, как стрелы, иссиня-черные брови, такие же огромные ресницы у глаз и пунцовые, как коралл, губы. Молча входила в театр, не здороваясь ни с кем, садилась в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же возвращалась в карету. Видом своим она просто-таки с ног сбивала молоденьких провинциалок вроде будущей великой актрисы Веры Пашенной: «Ида Рубинштейн прошла мимо в пунцовом платье, вся в шорохе драгоценных кружев, «дыша духами и туманами». За ней волочился длинный шлейф. Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой…»
Итак, она все же создала свой стиль. Ну что ж, эпоха декаданса была истинно ее эпохой.
Пьесу Уайльда приняли к постановке в Театре Комиссаржевской, но Ида напрасно ждала своего звездного часа: роль Саломеи отдали актрисе Наталье Волоховой, возлюбленной Александра Блока. Однако обижаться на судьбу было рано: цензура запретила-таки спектакль![1]1
В этой связи забавно читать тенденциозные высказывания некоторых современных исследователей жизни и творчества Иды Рубинштейн о том, что снятия спектакля добились черносотенцы, лишь бы не дать сыграть Саломею именно ей, еврейке. Дело было не в Иде, речь о которой как об исполнительнице вовсе не шла. Пьеса Уайльда и в самом деле эпатажна до безумия, тем более – с точки зрения религиозных канонов.
[Закрыть] Театр Комиссаржевской закрыли.
Впрочем, Ида так и так ушла бы оттуда, слишком уж разными существами были они с Верой Федоровной. Комиссаржевская считалась воплощением женственности и лиричности, а Иду Рубинштейн привлекал утонченный и острый психологизм, стилизация и эротичная экзотичность. Или экзотичный эротизм, это уж кому как больше нравится…
Но с мыслью о «Саломее» она расстаться не могла. Уйдя из театра, Ида пыталась поставить пьесу у себя дома. Режиссировал Мейерхольд, музыку писал Глазунов, декорации, конечно, делал Бакст, танцы ставил Фокин. Но Ида не смогла создать обстановку, необходимую для серьезной работы. Она видела на сцене только себя и только себя слушала, а это, безусловно, бесило остальных актеров, а тем более режиссера. Не получилось консенсуса, как сказали бы мы, образованные потомки. Кроме того, ссориться со Святейшим синодом и возобновлять запрещенную пьесу как-то расхотелось разумным людям, у которых за спинами не стояли оборонительные сооружения из мешков, набитых деньгами, какие стояли у Иды.
Но она по-прежнему не могла расстаться со своей навязчивой идеей. Как ни странно, из всей роли более всего ей было жаль «Танец семи покрывал», которым Саломея очаровывает царя Ирода настолько, что он клянется исполнить любое ее желание. И она задалась целью станцевать хотя бы его, если невозможно сыграть всю роль.
Однако танец по-прежнему не желал ей повиноваться! На него никак, при всем своем желании, нельзя было воздействовать простым формированием общественного мнения. То есть Ида не сомневалась, конечно, что пресса и общие эффекты сыграют свою роль, однако кое-чему все же следовало научиться.
В это время в Петербурге находилась Айседора Дункан, и Ида отправилась к ней – наниматься в ученицы. Прельщенная гонораром, божественная Айседора согласилась начать урок и, по своему обыкновению, осталась в одной тунике. Белья она принципиально не носила. Разумеется, ученица тоже должна была раздеться.
При взгляде на тощую, лишенную малейших примет женственности фигурку Айседоре, поклоннице классических канонов красоты, помешанной на античном искусстве, стало не по себе. Ну а когда в черных, подведенных глазах вспыхнул огонь безумного вожделения и Ида, неправильно истолковавшая призыв раздеться, схватила танцовщицу в объятия, Айседора едва не умерла от ужаса. С превеликим трудом разомкнув змеиные кольца этого тощего, но невероятно сильного тела, она скандально прогнала Иду.
Эта история скоро стала известна Станиславскому, который немало позлорадствовал на сей счет.
А Ида снова обратилась к блистательному балетмейстеру Михаилу Фокину.
В это время он находился с женой в Швейцарии. Ида приехала туда и проявила удивительную настойчивость, уговаривая его.
Конечно, сначала Фокин воспринял ее желание скептически: двадцать пять лет – не тот возраст, когда учатся азам классической (да хоть бы и не классической!) хореографии. Но уж очень необычно выглядела Ида: непомерно узкое плоское тело, длинные, почти «геометрические», ноги, взмахи рук и колен, похожие на «удары острых мечей», – все это никак не отвечало балетным канонам. Но Фокин вспомнил, что он считается новатором… Вдобавок деньги за урок эта несуразная особа платила совершенно безумные. А уж упорство-то какое проявила! Как будто не танцевать училась, а боролась за жизнь!
И вот 20 декабря 1908 года в Петербурге наконец-то состоялась столь страстно чаемая Идой премьера «Танца семи покрывал». В финале танца Саломея раздевалась почти догола, оставаясь в одних бусах. Впечатление было сильное: все-таки голая женщина, пусть и жуткого телосложения…
Мнения зрителей разделились. Станиславский назвал ее «бездарно голой». Но кое-кто, безусловно, считал, что она голая вполне талантливо. Известный театровед В. Светлов писал: «В ней чувствуется та иудейская раса, которая пленила древнего Ирода; в ней – гибкость змеи и пластичность женщины, в ее танцах – сладострастно окаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти…»
А Ида тем временем отправилась на завоевание Парижа!
В конце 1908 года «Танец семи покрывал» был поставлен в парижском мюзик-холле «Олимпия».
Это стоило Иде таких денег, что родственники всерьез усомнились в ее душевном здоровье. По их просьбе парижский врач Левинсон, принадлежавший к одной из ветвей семьи, упрятал ее в сумасшедший дом. Через месяц Ида выбралась из застенков и, чтобы избавиться от опеки, быстро вышла замуж за своего кузена Владимира Горовица. Брак был расторгнут немедленно после медового месяца, но Ида получила теперь деньги в свое собственное распоряжение.
«Ни микрона банальности!» – эти слова стали ее девизом. Что и говорить, ее особняк в Париже поражал всякое воображение эксцентричным убранством.
«Дом просторный и тихий. В большой гостиной комнате висит тяжелый занавес, скрепленный золотыми кистями, как в театре. Встроенные в одну из стен зеркала придают комнате таинственность, удлиняя ее. Сенегальские инструменты пыток зловеще мерцают в темном углу, искусно развешанные ткани из Абиссинии образуют как бы вход в пещеру Аладдина, из древних Афин статуя оракула с застывшими чертами, японские боги и божки, самурайские мечи, будто ждущие жертвы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!