Текст книги "Русское (сборник)"
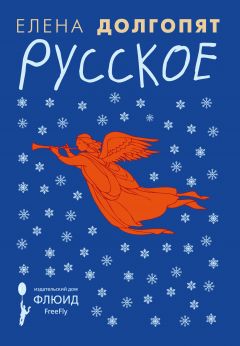
Автор книги: Елена Долгопят
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Да, Роберт, я работаю, что же делать, тебя нет, а жить надо. Если бы ты умер, я бы унаследовала твой счет, то есть могла бы им распоряжаться. И с квартиры можно было бы не съезжать. Я нашла дом гораздо скромнее, по средствам. И я очень надеюсь, что ты жив, мы все надеемся, и Татиана, твоя мама, видишь, я уже выучила ее русское имя. Твои друзья в банке тоже надеются. Мы все.
У меня сейчас очень мало времени, чтобы смотреть ваш русский канал. Извини, что я сказала «ваш». Поначалу я не отрывалась. Ела перед экраном. Все что-то надеялась разглядеть. Во сне слышала русскую речь, она мне снилась, и мне казалось, я понимаю все. Я записалась на курсы русского языка, но продвинулась мало. На слух разбираю только «спасибо», «здравствуйте», «пока». Не пропускаю погоду по русскому каналу. Всех ведущих помню в лицо. Там у вас сейчас холодно, как у нас. В Нью-Йорке очень холодная зима. И снег валит по ночам. Я иногда подхожу к окну и смотрю.
Сейчас, когда я работаю, у меня меньше возможности включать русский канал. Немного вечером, больше в выходные. Экран – как иллюминатор, оконце в русскую жизнь. Я понимаю, что телевидение – это не вся жизнь, это какой-то обрубок жизни. В уличном репортаже вдруг промелькнет улица, вот это и есть самое важное. Я такие куски всегда ищу в записях, пересматриваю. Что-то живое, что-то настоящее, пусть промельк. И вот, Роберт, однажды вечером, а именно 16 декабря, я увидела во время такого уличного репортажа тебя. Ты шел на заднем плане в какой-то чужой куртке. Я остановила запись, нашла кадр с твоим лицом, распечатала. Мне показалось, что ты осунулся, мой милый. Я так плакала. Позвонила Татиане. Я спросила насчет родинки. Знаешь, на этом снимке у тебя родинка на щеке, возле левого уха, вот тут. Но я ее не помню. То есть не помню, была она или нет. Татиана тоже не помнила. Сказала, что родинка могла и появиться. Если это родинка. Я сказала, что уже стала забывать твое настоящее лицо. Татиана сказала, что так всегда бывает. Я так не хочу. Не хочу.
Я много плакала. Я представляла тебя в Москве. У них черные мокрые улицы даже в мороз, я видела. Я так рада, что сунула тебе в сумку носки и шапку. Может, это была капля грязи у тебя на щеке? В старых русских текстах Москва зимой белая, уютные теплые дома, дым от печек, звонят колокола со всех колоколен. Сейчас так не может быть. Льют какую-то химию в снег. У нас тоже льют. Это странно, когда черные лужи в мороз. У тебя промокают ноги? Береги себя, милый.
Роберт, ты устроился, ты работаешь, ты не просишь милостыню по электричкам? Татиана рассказывала про электрички, у вас была когда-то дача в Загорске, там храм.
Я не могла уснуть в тот вечер, когда увидела тебя, все представляла, как ты, плакала и думала, что завтра на работу с опухшим лицом не допустят, уволят. И вдруг я догадалась, что и ты смотришь какой-нибудь американский канал. Доказательств, конечно, никаких, но ведь возможно. И тут же я перестала плакать. Я воображала, как ты там смотришь какой-нибудь наш «Фокс», все эти дурацкие шоу, которые ты всегда терпеть не мог. Вот это и есть сейчас твое оконце на родину, как русский канал – мое оконце к тебе. Так себе оконца, конечно, но других нет.
Ах, Роберт, как бы хорошо, чтобы так оно и было.
Я добилась встречи с руководством «Фокса». Рассылала им письма с предложением сделать новую передачу. И в конце концов кто-то прочитал одно из писем, и обдумал, и доложил начальству, и мне назначили встречу. Спасибо тебе, милый человек. Как уже там договаривались большие начальники, я не знаю, но эту передачу, ту, которую ты сейчас видишь, мой любимый, ее будут транслировать по всем американским каналам в разное время в течение трех месяцев. Вот эту самую передачу, в которой я так много говорю. Мы же не знаем, какой именно из наших каналов к вам пробивается. Мы только верим, что какой-нибудь да пробивается. Прямо как сигналы внеземным цивилизациям посылаем. Вселенная, не молчи.
Роберт, родной, если ты меня сейчас видишь, пожалуйста, откликнись, покажись по вашему телевидению. Как ты?
Нэнси стала знаменитостью. В дорогой универмаг на Пятой авеню заходили нарочно, чтобы поглазеть на нее, интересовались насчет часов. Нэнси с достоинством объясняла, чувствовалось, что она и в самом деле любит и знает часы.
Как-то раз она сказала, что часы – стрекочущие насекомые, питаются временем. Человек, которому она это сказала, выложил немалые деньги за одно такое насекомое и пригласил Нэнси на ужин. К тому времени фильм с Нэнси уже позабылся. Давно прошла зима, и весна прошла, и лето. В Нью-Йорке стояла чудесная осень. И хотелось, чтобы она не спешила уходить. Нэнси все меньше думала о России, все реже заглядывала в нее через оконце. Русские на ее телевизионное послание не отвечали, а возможно, и не получали его.
В конце октября Нэнси позвонила Татиане и виновато сказала, что полюбила другого.
– Брак мы оформить не можем в связи с тем, что Роберт, должно быть, жив. Вы будете смеяться, но Поль тоже немножко русский, его прапрапрабабка приехала в Штаты еще до революции, у него сохранилась ее карточка на толстой картонке, такая милая девочка с косой.
– Ты не волнуйся, – сказала Татиана, – через год-два примут закон, и ты оформишь свои отношения, и счета Бобкины тебе откроют.
– Вы обиделись?
– Нет. Ты славная.
– Курите?
– Курю.
Татиана заглядывала в окошечко часто, все надеялась разглядеть свою прежнюю Россию. Может быть, документальные кадры. Чтобы московский вечер, желтый электрический свет, дрожащая стопка серебряной фольги, чье-то виноватое лицо.
Машинист
Это был общий, битком набитый вагон в составе пассажирского поезда, идущего от Москвы в сторону Казани и дальше – через Урал, в Сибирь. Поезд шел от Москвы шестой час, все уже угомонились, наелись вареной колбасы, которую накупили в столице. Одна женщина взяла апельсины, выстояв очередь в угловом овощном на Арбате. Эти оранжевые апельсины, собранные в авоську, оказались единственным ярким пятном в полумраке вагона. Многие в вагоне уже спали, забравшись на верхние полки (заняли даже багажные). Внизу сидели тесно, кто-то дремал, кто-то что-то говорил, кто-то слушал, а поезд бежал, и было не скучно, но грустно.
Я говорю о душевном состоянии одного человека, центрального героя нашего повествования. Человек этот примостился с самого края деревянной лавки. В вагоне было жарко, но человек сидел в пальто. Он просто забыл, что сидит в пальто. Оранжевые апельсины покачивались в авоське на крючке. И даже закрыв глаза, человек видел их, и он придумывал, на что эти апельсины похожи, и представлял, под каким солнцем они росли, и таким образом забывал о том, что вокруг.
Все это неудивительно. Человек был художник и даже член МОСХа, и в кармане его пальто лежала книжечка, в которой черным по белому было написано, что Иван Дмитриевич Егоров – член Союза художников с 1966 года. Рядом с книжечкой в кармане лежала зубная щетка. И никаких больше вещей при себе Иван Егоров не имел.
Перед самым отправлением из Москвы на Казанском вокзале, недаром носившем свое имя (все носильщики – татары), Ваня, – Иваном его звали только в официальных случаях, – выпил водки с демобилизованными солдатами. Он опьянел и от этого стал совсем молчалив и задумчив. Все вокруг ему казалось то милым и трогательным, а то вдруг каким-то чужим, холодным, злым, даже деревья. Сейчас, в поезде, опьянение прошло, но лихорадочное, болезненное состояние осталось, и Ваня не понимал, что с ним.
Поезд останавливался часто. За окном сгущались зимние сумерки. Ване хотелось курить, но почему-то лень было двигаться, вставать, идти, запинаясь о чьи-то ноги, в холодный тамбур, просить у людей папироску, закуривать, стоять на собственных ногах в тряском железном закутке. В ногах чувствовалась младенческая слабость.
Примерно через шесть часов после Москвы поезд подошел к довольно большой станции, во всяком случае, путевое хозяйство казалось огромным. Поезд подходил к этой станции почти так же долго, как подходил бы к Москве, покачиваясь на стрелках, мимо бесконечных товарных составов, тепловозных депо, мимо кирпичных строений, в окнах которых сидели люди, четко видные в электрическом свете, и что-то писали или считали на деревянных счетах. Ваня даже привстал, забыв о слабости, чтобы подольше видеть человека в окне, занятого подсчетами, бумагами и прихлебывающего из чашки чай. Человек в окне исчез с глаз, но появилось вдруг другое окно, огромное, за стальной решеткой; за этим окном пылал в горне огонь, и обнаженный по пояс парень бил молотом. Не было слышно, как он бьет, но Ваня как будто бы слышал.
Между тем в вагоне все оживилось: многие пассажиры просыпались, спрыгивали со своих полок, собирали свои мешки, сумки, авоськи и шли узким проходом к выходу, толкаясь, переругиваясь, а поезд все шел и шел, и станция никак не появлялась.
Когда Ваня оторвался от окна, он увидел, что авоськи с апельсинами уже нет. Как будто солнце ушло!.. Ваня встал, надеясь еще порадовать глаза их светом, и ему показалось, что он мелькнул впереди, в проходе. Ваня шагнул за ним, но ему сказали: «Куда прешь!» – и Ваня не смог двинуться уже никуда, зажатый со всех сторон людьми, стоящими на выход. Так он со всеми и сошел на первой платформе небольшого русского городка, бывшего крупным железнодорожным узлом и промышленным центром Владимирской области.
На воздухе Ване стало гораздо легче, чем в вагоне. Лежал снег, оказалось не так уж холодно, легкий морозец. Освещенный прожекторами, стоял прямо перед Ваней вокзал. Каменный, серый, в русском стиле, он походил на старинную крепость с тяжелыми воротами. Люди открывали эти ворота с усилием.
Ваня не заметил, как исчезли все сошедшие с поезда пассажиры. Он очнулся, когда сам поезд за его спиной тихо, без малейшего лязга, двинулся. Тем не менее Ваня почувствовал движение огромной массы за спиной. Объявления об отправлении он не слышал – в голове его стояла снежная вечерняя тишина.
Он мог, конечно, пройти пару шагов за своим вагоном, ухватиться за поручень, вспрыгнуть, вернуться в теплое нутро вагона, забраться на свободную полку, уснуть, но Ваня даже не оглянулся. Он слышал спиной, как движется и уходит поезд, но не оборачивался. Обернулся только тогда, когда за спиной стало тихо и пусто.
Стояли товарные составы вдалеке. Ваня услышал, как говорит диспетчер, услышал, как коротко гудит маневровый, и почувствовал безмерную усталость и одиночество.
Ваня налег на ворота всем телом, и, слава богу, тяжести его тела хватило – ворота подались. Они замкнулись за его спиной, и Ваня оказался в здании вокзала, совсем небольшого, с кафельным чистым полом, с деревянными креслами для ожидающих пассажиров, с бачком питьевой воды, к которому привязана была железная кружка, и с батареями под высокими окнами. Ваня отправился к батареям, чей жар почувствовал у самого входа. Ваню познабливало.
Когда он опустился в просторное гладкое кресло, то увидел намалеванный во всю стену летний вид Оки.
В каком-то смысле Ваня не видел разницы между плохой картиной и хорошей – любая картина имела над ним власть. Ваня оказывался во власти любого изображения, дурно исполненного или превосходно.
Картина, оказавшаяся перед ним, была ужасна. Краски кричали вразнобой, река не двигалась, солнце остановилось, рыбак в лодке был как будто из железа. Нет! Он как будто был закован в железо и стонал. Лодка походила на гроб, из которого скованный пытался выйти. Но самой страшной была река, абсолютно непрозрачная, неживая, мертвая, не отражающая ничего. Облака будто были распластаны над ней, распяты.
Ваня не мог оторвать глаз от кошмарной картины. Он чувствовал себя отвратительно: горело лицо, в виски стучало, ломило кости, и казалось, отведи только глаза, погляди на живых людей в зале, ждущих ночного поезда на Москву, грызущих черные семечки, читающих, режущихся в карты, открывающих друг другу души, – погляди на их живые лица – и все пройдет, весь дурман. Но Ваня не мог отвернуться от мертвого изображения даже под страхом смерти, а он действительно чувствовал, что умирает, вот-вот умрет.
Между тем на Ваню давно и пристально смотрел человек в черной до пят шинели с золотыми пуговицами, высокий, смуглый, гладко выбритый. Человек этот стоял неподвижно, как памятник, у входа в зал.
Вдруг он ожил, надел фуражку, которую держал в опущенной руке, и вышел. Вернулся он минут через десять с низеньким пожилым милиционером, у которого на портупее висела кожаная кобура с пистолетом. Милиционер подошел к Ване, а человек в черном остался стоять поодаль. Милиционер приложил руку к серой шапке-ушанке с кокардой. Ваня ничего не замечал. Тогда милиционер взял Ваню за плечо и тряхнул.
Он вновь приложил руку к шапке и вежливо сказал:
– Ваши документики, товарищ.
Несколько секунд Ваня не понимал, чего от него хотят. Затем вскочил, вытащил из пальто книжечку, вывалив на пол свою зубную щетку. Щетка ударилась и отскочила. Милиционер взял Ванину книжечку и развернул. Ваня вдруг понял, что ослабевшие ноги совсем его не держат.
Теряя сознание, Ваня упал и удара уже не почувствовал.
Тикали часы. Ваня поискал их глазами и нашел. Часы висели на стене, обыкновенные, круглые, и тикали очень мирно. Ваня осознал, что лежит в чистой постели, в чьей-то большой полосатой пижаме, под легким пуховым одеялом, что комната, в которой он лежит, невелика, с одним светлым окном, за которым слышна станция: переговоры диспетчеров, ход поездов, свистки тепловозов. Но все это слышно как будто очень издалека. Дверь в комнату затворена. В зеркале платяного шкафа отражается свет из окна… И Ваня вдруг захотел увидеть себя в этом зеркале.
Он откинул одеяло, опустил на пол ноги и увидел большие мужские тапочки. Вдел в них ноги. Тапочки оказались велики. Ваня прошлепал к зеркалу. Выглядел он в нем жалко: заросший жесткой рыжей щетиной, тощий, в большой пижаме. Ваня пригладил клочковатые светлые волосы и увидел в зеркале окно, а перед окном – стол, на котором стояла круглая вазочка со множеством цветных карандашей, остро отточенных. Ваня, забывшись, ткнулся в зеркало, думая, что подойдет к столу.
Кроме карандашей на столе оказались папка с чистыми белыми листами для акварели, несколько альбомов по живописи, изданных в Ленинграде, непочатая коробочка ленинградской же акварели, московской гуаши, пастели. К тому же на столе лежали непочатая пачка сигарет «Памир», коробок спичек и хрустальная пепельница. Ваня достал сигарету, чиркнул спичкой. Он любил смотреть на маленькое пламя и смотрел на него, пока оно не добегало до пальцев и не обжигало. Иногда Ваня даже забывал прикурить.
Ваня бросил в хрусталь целиком обугленную спичку, чиркнул новой, прикурил. Он увидел, что станция прямо под окнами, а звуки кажутся далекими из-за того, что все щели в двойных рамах законопачены. Пламя обожгло пальцы, Ваня бросил спичку в хрусталь.
Докурив сигарету, Ваня захотел выйти из комнаты и посмотреть, что там дальше. Он решил действовать тихо и спокойно. Тихо и спокойно отворил дверь, переступил порог и оказался в довольно большой комнате, где тоже стучали на стене часы. Центр комнаты занимал круглый стол под скатертью, над столом висела на цепи люстра с хрустальными подвесками, вокруг стола стояли пустые стулья. Всего шесть.
У окна примостился книжный шкаф с собраниями сочинений русских писателей. Это окно тоже смотрело на станцию. Но его загородили тюлем, и от этого в комнате стоял полумрак. На чисто выбеленных стенах висело множество фотографий людей, видно давно умерших. У противоположной от окна стены находились простой раскладной диван и тумбочка для белья. Довольно большой шифоньер занимал стену, общую с комнатой, из которой Ваня вышел.
По тишине Ваня понял, что он в доме – один.
Тем не менее храня осторожность, он вышел из большой комнаты в коридор, заглянул в туалет и ванную, зашел в кухню.
Здесь ему понравилось. На подоконнике росли в горшках цветы, и многие из них цвели прямо по-летнему. Связка сушеных грибов висела на гвоздике и замечательно пахла. Урчал белый чистенький холодильник. На чистом столе стояли солонка и хлебница. Вообще, все было чистое: и деревянные, крашенные масляной краской полы, и плита, и раковина, над которой висела сушилка с чистой посудой, на которой к тому же блестели капли чистой воды! На плите стояла чистая кастрюля, от которой исходил жар, – под ней только недавно погасили синее пламя. Ваня почувствовал дикий голод, наклонился к кастрюле, принюхался, и ему показалось, что в кастрюле борщ. И он увидел маленькую жирную каплю на крышке.
Ваня открыл хлебницу, в которой оказалось полбуханки серого хлеба и несколько ломтей. Он схватил ломоть, посолил, запихал его в рот и, чувствуя себя воришкой, решил немедленно покинуть чужую квартиру.
Он заглянул в шкаф в «своей» комнате и нашел там свою одежду: брюки, рубашку, носки, трусы. Все было чисто выстиранное, отглаженное, подшитое, подштопанное. Все лежало на отдельной, специально, видимо, освобожденной полке. Ваня скинул пижаму, оделся, заправил, как мог аккуратно, постель, сложил в изголовье пижаму. Все это он делал лихорадочно, судорожно прислушиваясь к тишине квартиры и отдаленному голосу станции за окном.
Пальто висело в прихожей. Ботинки исчезли.
Ваня надел пальто, сунул руки в карманы, нащупал удостоверение и зубную щетку. На ноги надеть ему было нечего. Стояли дамские полусапожки на среднем каблучке, дамские же тапочки. Мужские летние сандалеты, такого же большого размера, как тапочки, в которых был Ваня.
Ваня вернулся в пальто в кухню, сел на табурет, вынул из хлебницы ломоть хлеба, посолил.
Он жевал хлеб, когда услышал, как отворяется ключом входная дверь. Ваня поперхнулся, закашлялся. Человек, вошедший в прихожую, замер.
Из прихожей показалась женщина и увидела Ваню, сидящего сбоку от кухонного стола. Ваня встал.
Она рассматривала Ваню, а он покрывался красными пятнами, он всегда так краснел – пятнами.
– Здравствуйте, – тихо сказала женщина.
– Здравствуйте.
– Вы почему в пальто?
– Я ботинок не нашел.
– Ой. Ваня их в ремонт отнес.
– Ваня?
– Мой муж. Иван Егорович. Это он вас сюда привез, когда вы в бессознательном состоянии были. Да вы садитесь, я сейчас пальто сниму и приду к вам, в кухню.
И она ушла обратно в прихожую, продолжая оттуда говорить:
– Я на рынок ходила, говядины взяла и свинины, сейчас котлет накручу, Иван Егорыч придет, будет и первое, и второе, а на третье чаю заварим, и с конфетами. Иван Егорыч ужасный сладкоежка.
Она появилась из прихожей уже в платье с теплой кофтой поверх, в тапочках. Волосы у нее оказались гладкие, стянутые на затылке в узел.
– Чего же вы в пальто, Иван Димитрич? Или замерзли?
Она вынула из сумки в раковину мясо, завернутое в толстую мягкую бумагу, включила холодную воду, достала доску, нож, приладила на край стола мясорубку, взяла из холодильника пару яиц, из навесного шкафчика пакет с манной крупой и молотый черный перец в пузырьке.
– Почем у вас мясо? – непонятно почему спросил Ваня.
– Дорого, – отвечала женщина, – четыре рубля. Да что сделаешь, в магазине не укупишь, только кости лежат в витрине, какая-нибудь пенсионная старуха возьмет, бульон сварит, а у нас Иван Егорыч хорошо зарабатывает, можем и мясо позволить, можем и яблок купить зимой на рынке.
– Продают сейчас яблоки?
– Отчего же. Антоновку.
Женщина Ване понравилась, не в том смысле, как нравится мужчине женщина, он на нее засмотрелся как художник. Он даже чуть-чуть приоткрыл рот, таращась на нее. Женщина между тем скинула на свободный табурет кофту, закатала рукава простого серого платья, и обнажились ее руки, белые и полные, круглые. Она ими ловко резала мясо и лук, проворачивала все в мясорубке, месила фарш в миске, лепила котлеты, а чугунная сковорода уже разогревалась. Ваня заметил, что под узлом на затылке волосы у женщины вьются, и вьются они в ложбинке на шее, и от этих мягких детских завитков на шее Ваня ощутил к женщине нежность. Вдруг он вспомнил, что сам небрит и всклокочен, и вновь покрылся красными пятнами.
– Вы хорошо себя чувствуете? – спросила женщина. Она, оказывается, все замечала, а Ваня думал, что она на него и не смотрит.
– Нормально, – хрипло сказал Ваня и, удивившись своей хрипоте, кашлянул. – У вас бритвы не найдется? Побриться. А то я как пленный немец. – И добавил зачем-то: – У меня дед из немцев был. Как говорят.
– А вы идите в ванную, – сказала женщина, улыбаясь, – там и бритва на полочке, и полотенце я для вас повесила чистое, белое, с синей полосой. Там и мочалка, и мыло. И зубная щетка в стаканчике, новенькая, специально для вас. Вода у нас горячая, из котельной.
Когда Ваня вернулся, намытый, гладкий, с мокрыми волосами, котлеты уже доходили в духовке, белый стол был вымыт и чайник стоял на плите.
– Ну вот, – сказала женщина, увидев вошедшего Ваню. – Теперь на вас смотреть не страшно.
– Да, – сказал Ваня. – Спасибо. Огромное вам спасибо за все. И если бы у вас нашлись какие-нибудь старые ботинки, я б их надел и пошел.
– Куда? – удивилась женщина.
– Ну. Дальше.
– Вы сядьте, пожалуйста, Иван Димитрич.
И она подождала, пока он сядет, а затем продолжила:
– Давайте мы с вами не будем торопиться, а подождем Ивана Егорыча. Я знаю, что он с вами обязательно хотел поговорить.
– О чем?
– Этого я не знаю.
– Он кто, Иван Егорыч ваш?
– Муж мой.
– Это я понял.
– Он машинистом служит.
– Ну и что?
– Ничего. Это он вас сюда больного привез.
– Зачем?
– Чтоб вы не померли совсем.
– Он что, каждого бродягу к вам в дом тащит от смерти спасать?
– Да нет. Он художников любит.
– Худо-ожников! Да почем он знает, что я художник?
– По удостоверению.
– Да мало ли какое у кого удостоверение в кармане болтается! Не художник я! Ясно?!
– Не кричите.
– Простите.
Ваня замолчал.
– Ой, – сказала женщина.
Открыла духовку, вынула прихваткой тяжелую сковороду, опустила на плиту.
– Слушайте, – сказал Ваня. – Там в комнате карандаши разные, красочки всякие. Это что, специально для меня куплено?
– Нуда.
– Он, что ли, хочет, чтобы я нарисовал чего?
– Я не знаю, чего хочет Иван Егорыч, – спокойно сказала женщина, выключив закипевший чайник и повернувшись от плиты к Ване. – Вы его сами спросите, ладно?
– Ладно, – сказал Ваня. – А как вас зовут?
– Маша.
– Я так и думал.
– Почему?
– Так. А меня Ваней зовут. Меня только в милиции Иваном Дмитриевичем зовут. Ладно?
– Ладно.
Ужинали в большой комнате за круглым столом под люстрой на цепи.
Люстра горела, окна были зашторены тяжелыми шторами. Люди с фотографий смотрели. Звякали ложки и вилки. Сидели за столом трое: Маша, Ваня и черноволосый высокий человек в белой рубашке – Иван Егорович. Он оставил свою черную с золотыми пуговицами шинель в прихожей, там же он снял свои черные начищенные ботинки и надел стоптанные летние сандалии. Китель он повесил на спинку стула. Пуговицы на кителе тоже были золотые, со скрещенными молоточками. Ваня то и дело поглядывал на эти пуговицы и щурился от их сияния.
Иван Егорович выглядел устало, и Ваня ждал с вопросами, пока он поест и отойдет от усталости. Маша тоже молчала, и Ваня подумал, что, наверно, они всегда так едят, молча.
Ваня съел все быстро, как всегда быстро ел, и даже подобрал корочкой с тарелки сметанный соус, в котором поданы были котлеты. Съел и сказал:
– Спасибо. Очень вкусно.
– Да? – сказала Маша.
– Очень.
– Действительно, – сказал Иван Егорович. – Замечательно.
Он ел аккуратно, с ножом. Не спешил.
Маша собрала и унесла в кухню тарелки, поставила мужчинам чашки, вазочку с конфетами, разлила чай. Принесла пепельницу из зеленого камня, похожего на малахит, сигареты, спички и ушла в кухню мыть посуду. Включила воду.
Первым закурил Иван Егорович. Ваня чиркнул спичкой и посмотрел, как бежит пламя. Успел прикурить, пока пламя не обожгло.
– Вы извините, – сказал Иван Егорович, – за ботинки. Я их выкинул. Отнес было в мастерскую, но они сказали, что это смешно чинить, и правильно сказали. Так что, простите, выкинул.
– Ничего. Хотя жалко. Босиком по снегу не очень-то пойдешь, я ведь не йог.
– Зачем же босиком, я вам как раз сегодня и купил ботинки. Прикинул, какой вам размер… Сороковой? Не ошибся?
– Не ошиблись, спасибо. Только вот отплатить мне вам нечем. Была у меня в брюках десятка…
– Она там и есть.
– Знаю. Но кроме нее мне вам заплатить нечем.
– Во-первых, я у вас эту десятку не отниму. Во-вторых, даже еще дам денег, рублей пятьдесят.
– За что? За то, что я такой молодой и веселый?
– Не такой уж вы и молодой.
– Это точно.
– И веселость ваша меня не волнует. А вот то, что вы художник…
– Я не художник.
– Мы давали запрос в МОСХ, вы художник.
– Ежели вы думаете, что я буду по вашему заказу писать какой-нибудь портрет или вид, то это вы напрасно так думаете. Не буду. Даже если вы еще пятьдесят карандашей заточите, в руки их не возьму, даже если вы их разом мне в пузо воткнете!
– Господи, – Иван Егорович вдруг засмеялся, а Ваня покрылся пятнами, – какой вы горячий. Не хотите писать, и не надо. Это я так, на всякий случай поставил вам карандаши. Не нужно, так не нужно. И мне от вас ничего не нужно. Я, правда, думал город вам наш показать. У меня завтра рейс, через три дня вернусь, будут отгулы. Может, дождетесь?
– Не знаю.
– Ну смотрите.
– А что вы мне показать хотите?
– Место одно.
– Почему именно мне?
– Потому что вы художник. Только вы не спорьте, пожалуйста, я ведь вашу работу видел.
– Где? – поразился Ваня.
– В Москве. На выставке. На Малой Грузинской улице. Ровно три года назад.
– Вот уж не думал, что вы по таким выставкам ходите.
– Почему?
– Не знаю. Я бы еще понял, если бы моя работа в Третьяковке висела. В том смысле, что в Третьяковку все ходят, то есть тоже не все, конечно.
Ваня сбился и замолчал. Затем посмотрел на Ивана Егоровича, разворачивавшего шоколадную конфету.
– И как?
– Что? – спросил Иван Егорович.
– Понравилась вам моя картина?
– Да.
Выпили молча чай. Пришла Маша и унесла чашки. Собрала со стола. Иван Егорович вынул из шкафа книгу, надел, поразив Ваню, очки и сел за круглый стол читать. Читал он седьмой том академического собрания сочинений А. П. Чехова. Он и Ване предложил взять из шкафа книгу на выбор.
– Если есть желание.
Но Ваня книги не взял.
В комнату пришла Маша с клубками шерсти и острыми спицами и села за круглый стол вязать. Ваня поглядел немного, как мелькают и постукивают быстрые спицы в круглых Машиных руках, как Иван Егорович перелистывает страницу и разворачивает не глядя конфету, и ушел в «свою» комнату.
Уже совершенно стемнело. Он подошел к окну. На станции было светло от прожекторов. Чернели в снегу рельсы. Шел состав. Шли обходчики с фонарями в оранжевых куртках.
Ваня взял сигарету из пачки на столе. Чиркнул спичкой. Посмотрел, как она горит в темноте, и не успел прикурить.
Пепельница, в которую он бросил обугленную спичку, была прозрачно чиста.
Утром, когда Ваня проснулся, Иван Егорович уже вел состав на Москву.
Сначала Ваня чистил картошку. Солнце светило из кухонного окна. Нож был острым, картофельные очистки завивались кольцами. Маша рубила капусту. Из крана весело срывались капли. На огне в кастрюле грелась вода. Маша собиралась варить на обед постные щи.
Ботинки оказались Ване впору, и после обеда он пошел с Машей по магазинам. Она складывала ему в сумку все, что покупала, а он шел за ней с этой сумкой, и новенькие ботинки поскрипывали.
Они побывали в булочной, где купили кроме хлеба четыре пирожных к чаю и пакет сахара и где на сдачу им дали горсть блестящих монет. Город был чистенький, дворники соскребали снег с тротуаров, машины по гололеду шли осторожно. Иногда Маша с кем-нибудь здоровалась, и тогда Ваня пристально смотрел на этого человека, и все, с кем Маша здоровалась, ему нравились.
Они вернулись, нагуляв хороший аппетит, и пообедали в кухне, сидя друг против друга. Ваня слопал все, как всегда, мгновенно.
– Еще? – сказала Маша.
– Нет, я все.
Ваня почувствовал, что глаза слипаются.
– Идите-ка спать, – сказала Маша, и Ваня в который раз удивился, как она все замечает, что с ним происходит.
Ему приснился сон, о существовании которого он давно забыл, как, бывает, забудешь о существовании какого-нибудь человека, с которым когда-то, в раннем детстве, был знаком. Сон был именно из раннего детства. Он снился Ване в раннем детстве, а потом перестал.
Итак, он – маленький мальчик и идет с матерью на демонстрацию. Он держится за ее руку и видит, не глазея даже по сторонам, все сразу: и течение в небе облаков, и течение толпы, и первую нежную зелень тополей, растущих вдоль тротуаров, и глаза бродячей собаки, и пьяную физиономию, и тележку, к которой привязаны воздушные шарики разных цветов, и гармониста с красным бантом на груди. Он обладает как бы сферическим зрением.
Шарики прыгают в воздухе от весеннего ветра.
– Хочешь? – мать ведет его прямо к ним.
– Какой хороший мальчик, – говорит продавщица. И отвязывает красный шарик.
Мать достает из светлого плаща блестящую монетку.
Ваня берется за веревочку.
– Держи крепче, – говорит продавщица и отпускает шарик.
Шарик прыгает на ветру.
Вдруг он начинает рваться в небо, где текут белые быстрые облака.
Ваня отпускает руку матери и хватается за веревочку обеими руками.
Шарик рвется ввысь. И отрывается от земли вместе с Ваней.
– Мама! – кричит Ваня. Кричит весело – ему нисколько не страшно.
Он поднимается высоко-высоко, почти так же высоко, как облака, они как текучий туман над головой, сквозь который вдруг слепит солнце. Теперь он видит все сразу прямо с неба: течение толпы, связку шаров на тележке, мать, машущую ему рукой, задравшую морду собаку, красные флаги на зданиях, духовой оркестр во главе колонны демонстрантов…
Ваня проснулся в полумраке раннего зимнего вечера.
Некоторое время он лежал и думал о своем сне, о той легкости, которой он в этом сне обладал, о легкости полета. Сейчас он лежал и чувствовал тяжесть своего тела.
«Ну вот, – сказал сам себе Ваня, – я и на земле. Надо жить».
Первое мгновенье, когда, отворив дверь, он вошел в большую комнату, Ваня подумал, что опять один в квартире. Свет нигде не горел. Вдруг Ваня почувствовал, еще не видя и не слыша, что в комнате кто-то есть. Затем увидел, что за круглым столом сидит Маша, и услышал стук ее спиц.
– Проснулись? – сказала Маша. – Включайте свет, если хотите.
– А вы чего без света сидите?
– Экономлю.
– Серьезно?
– Немножко.
– Как же вы вяжете в темноте?
– Отлично вяжу. У меня бабка тоже вслепую вязала, даже когда совсем ослепла, по-настоящему. Сидела зимой на печке и вязала. Ну и потом, сейчас ведь не кромешная тьма, а так, сумерки. Я люблю сумерничать.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































