Текст книги "Тень стрелы"
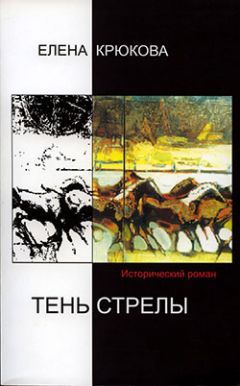
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– В дивизии все знают, как вас зовут.
Ага, этот Мономах из баронова войска. Ну что ж, тем лучше. Они все сюда, в Ургу, увязываются время от времени, сбегают из лагеря – либо гульнуть с копеешными проститутками, либо поднажиться на минутных заработках – что кому поднести, разгрузить привезенный товар в лавке купца, либо… Кто ж это?.. Она щурилась, всматривалась, не различала…
Ташур, с говорящим попугаем на плече, отступил во тьму. Из темноты послышалось лошадиное ржанье. Да это ж наш солдат на коне, подумала она весело. Раздула ноздри. Уловила лишь запах горючего, нефтяной запах машинного масла от кургузого, заляпанного дорожной грязью авто.
Глаза Луны
Алмаз, зажатый в кулаке, ранит не руку, а сердце.
Монгольская мудрость
В Астрахани он ел только селедку и воблу. Россия умерла. В России больше нечего было делать. И он вернулся на Восток.
Его друзья-калмыки спокойно и бестрепетно переходили в казачество. Придя в Монголию, он вспоминал те дни в пыльной рыбной Астрахани с улыбкой. Пусть Монголия стала провинцией Китая, это ненадолго. Унгерн вернет монголам Монголию. Он-то знает Унгерна. Это человек воли. Воля – единственное, что толкает людей на деяние. Все остальное – закон перерождения. В ком ты воплотишься, тем ты и будешь. Что было бы с ним, если б его мать, его отец, его деды и бабки нагрешили бы и он вновь родился бы собакой или черепахой? В трехлапую черепаху, медный китайский сосуд о трех ногах, он собирал кровь жертвенного барана, рассекая ему глотку ножом. Когда-нибудь он так же дернет ногами и затихнет – под чьим-нибудь вздернутым над ним ножом. А они все, его люди, все монголы, все буряты и ойраты, все уйгуры и тувинцы вокруг верят, что он – бессмертен. Что он выпил эликсир бессмертия, и теперь его не возьмет ни одна пуля, не разрубит ни один меч.
Люди то же самое говорят об Унгерне. Что ж, удачлив друг его. А он, Джа-лама, воистину бессмертен. Ибо он воплощение Амурсаны. Ему не надо пить тибетские напитки, дающие вечную жизнь. Не надо колдовать в полнолуние, одевая себя незримым непробиваемым щитом. Лунг-гом-па бежит по заснеженным дорогам, и из острия его кинжала-пурба ударяет вниз, отвесно, ослепительный луч. Он тоже бежит по дороге. И это его дорога. Только его. Никто не заступит ему путь.
Красные и белые дьяволы все равно истребят друг друга, и тогда настанет его время. Надо уметь ждать.
Дверь скрипнула. Вошел, низко кланяясь, один из его верных цэриков, Максаржав.
– Господин отдыхает?.. может быть, сделать жирный хурч, может, повелеть приготовить свежие поозы с бараниной?..
Дамби-джамцан медленно обернул крупную, круглую массивную голову. Толстые щеки дрогнули. Цэрик воззрился на налившееся кровью лицо, на глаза в складках обвислой кожи, чуть выпученные, с белками в разводах кровеносных сосудов. «Как он плохо выглядит, – подумал Максаржав с жалостью. – Почти не спит. Он чувствует опасность. Он как дикий зверь, на которого хотят напасть».
– Приготовь поозы, Максаржав. И… в моем кабинете… на столе… стоит бутылка, оплетенная лозой. Там сакэ. Настоящее японское сакэ. Его привез эта сволочь Биттерман. Принеси сакэ и горячие поозы в юрту. Я сейчас уйду отсюда. Я не могу здесь, в крепости, есть и пить. Я, как истый монгол, должен делать это в юрте. Разделишь со мной трапезу?
– Да, господин.
– Не было известий от Унгерна?
– Были известия от Семенова, господин.
– От какого? От Трифона?
– От Иуды, господин.
– Каковы известия?
– Готовится штурм Урги, господин.
Джа-лама пожал плечами. Максаржав видел – виски под перехваченной густо-алым, как кровь, платком уже серебрятся. Бессмертному Дамби-джамцану не так много лет, а он уже седой. Мир горит и сгорает в огне, и, если ты бесстрастно глядишь на разрушения и смерть, огонь перекидывается на твое лицо, и ты морозом седины объемлешь пламя.
– Меня хотят пригласить… участвовать… в торжестве?
– Иуда Семенов через своего посланника просил передать вам, господин, что штурм будет происходить без вашего обязательного участия, только если вы сами пожелаете прийти на подмогу. В Урге организованы тубуты.
– А, тибетцы?..
– Их колония вблизи Захадыра. Их много. Они ненавидят китайцев. Над ними вызвался начальствовать человек недалекий, но полный священного огня, жестокий, по слухам, и молодой. Это один из палачей Унгерна, бурят Тубанов. Он организовал тубутов, уже существует Тибетская сотня. Группа заговорщиков, переодетых ламами, должна проникнуть в резиденцию Богдо-гэгэна через Святые ворота. Богдо-гэгэн и его божественная супруга будут похищены и унесены на вершину Богдо-ула.
– Откуда Иуда знает все это? От брата?
– Иуда знает все это от самого Унгерна. Это известия достоверные.
– Две рыбы должны соединиться мордами и хвостами, чтобы внутри них образовался тройной знак Небесной Войны. – Джа-лама встал с кресла, положил руки на поясницу, поморщился. «И поясница болит, как у старика», – отметил цэрик. – Значит, снова война? Отлично. И меня тоже ждут?.. Что ж, я никогда не отказывался воевать. Тем более, если речь идет о спасении и возрождении моей страны.
– И живого Будды, господин.
– Верно, Максаржав. Иди распорядись насчет ужина. И про сакэ не забудь.
Максаржав удалился. Джа-лама расстегнул темно-зеленое дэли, с пришитой к широким рукавам золотой тесьмой, с отороченными золотом отворотами воротника. Зло сорвал с головы платок. Растер рукой голую голову. Как многие воины, он брился наголо, чтобы не потеть, не пользоваться гребнем, не вычесывать из башки вшей. Через бритое темя, разделяя череп надвое, пролегал страшный, уродливый шрам. Однажды в бою ему, Неуязвимому, рассекли голову саблей. Он чудом остался жив. Старая бурятка по прозвищу Морин-Хур колдовала над ним, мазала ему темя и затылок тибетскими мазями и притираниями, закутывала в тряпки, вымоченные в уксусе и отварах горных трав. Морин-Хур поила его через каждый час горячим и холодным питьем, каким – он не знал, – и он все время мочился в подставляемую ему медную посудину, – а есть старуха не давала ему ни крошки. Ровно через десять дней Джа-лама поднялся с постели. Он спросил Морин-Хур: чем тебя вознаградить?.. скажи, все исполню. Старуха насмешливо сверкнула узкими глазами. «Подари мне медную пулю, а себе ружье оставь», – ему казалось, она смеется над ним. Побледнев, закусив губу, он вытряхнул пулю из магазина. Протянул на ладони старухе. Бурятка попробовала пулю на зуб, как монету. «Что ты с ней сделаешь?» – «Просверлю дырочку, буду носить на груди. Пока я ношу ее на груди, тебя не возьмет никакая пуля». Он спросил Морин-Хур: от чего я умру? «Тебе отрубят голову, батор», – беззубо улыбаясь, зажав пулю в кулаке, спокойно и радостно сказала старуха.
А теперь будем отдыхать. Морин-Хур, скорей всего, давно умерла, а он еще жив – и будет жить вечно. Пуля, дура… Это человек дурак. Ригден-Джапо еще не повернул на пальце свой перстень. Какой камень у него в перстне? Сапфир? Синий камень, прозрачный камень, синее небо. Тишина. Давай отдохни, Дамби-джамцан. Холодно? Ты выйдешь на воздух. Ты пойдешь к пруду. Рядом с крепостью для тебя выкопали пруд и наполнили его водой. Он замерзает по зиме. Ты возьмешь пешню, разобьешь наросшую за ночь корку льда, разденешься, встанешь у зазубрин ледяной кромки, глубоко вдохнешь морозный ветер, жизнь. Ты жив еще. Ты жив. И ты мудрец. Ты не посягаешь на власть над Азией – то, на что, сам не отдавая себе в том отчета, посягает Унгерн. Тебе не нужна власть: ты и так ее имеешь. А кому-то будет нужна твоя голова. И ее на пике, с оскаленными зубами, лысую, повезут по городам, чтобы хвастаться: мы убили Бессмертного.
Он зажмурился, отогнал видение. Спустился по лестнице, по каменным грубым ступеням, вниз, во двор. Зубчатые стены крепости молчали. Одинокий огонь горел на угловой башне. Максаржав распорядился всю ночь жечь факел. Но ведь уже скоро утро. Уже утро, и вот рассвет.
Бледное небо наливалось нежной розовостью, как щека девушки на морозе. Джамби-джамцан, чуть вперевалку, раскачиваясь, как утка, на своих кривых, словно рахитичных, ногах кочевника, номада, подошел к замерзшему озерцу. Пешня лежала тут же, на берегу. Он взял ее, легко расколол наледь. Черная вода выбрызнула поверх прозрачной пластины льда. Он медленно разделся, кидая одежду на снег, как стяги поверженного врага; горячее тело схватил цепкими колючими когтями безжалостный холод. Джа-лама вжал живот, вминая в снег ступни, тяжело подбрел к проруби, долго стоял, смотрел на смоляную темь воды. Будда, отец твоего духа, не боялся ни холода, ни жара. Амурсана, ты же освежался холодом вод, горьким вином, горячим женским лоном. Вперед, Джа-лама, может быть, когда ты возродишься в облике Ригден-Джапо, ты вспомнишь это утреннее купание в Тенпей-бейшин.
Он, прочитав быстро мантру, прыгнул в прорубь.
Так из жизни прыгают в смерть.
Так из смерти, из застылого озера бардо, снова прыгают в жизнь, и ледяной холод охватывает младенца. Утроба покинута, темная пещера пройдена. Ты снова бессмертен. А для чего?
Он, нырнув с головой, выплыл, отфыркнулся. Уцепился руками за осколочно-острую закраину льда. Небо все сильнее ярчело, и солнце наконец вывалилось в ледяной белый простор, будто красное китайское яблоко выкатилось на белый снег, будто красный, орущий человечек выпростался из напряженного, искрученного родильной мукой белого живота матери на чисто-белую простыню.
* * *
Он ненавидел ее. Зачем он женился на ней?
Пусть бы лучше он спал с проститутками, чем жениться. Такому человеку, как он, жениться было нельзя. Ему нельзя было переступать порог.
Он приказал ей: окрестись перед свадьбой. Зачем, робко и тихо спросила она, ведь мы же все равно будем жениться по китайскому обряду? Затем, поглядел он на нее ненавидяще и дико. Затем, чтобы ты была Еленой Павловной. Ты же сама хочешь быть Еленой Павловной.
И она согласилась. Он покорно наклонила голову, воткнутые в ее черный тяжелый пучок шпильки дрогнули, как крылья стрекоз.
Она была маньчжурской принцессой, дочерью сановника династической крови. Ее отец принадлежал к древнему роду беспредельно разветвленной императорской фамилии, что после революции в страхе удирала из Пекина в Маньчжурию и нашла приют при дворе властительного Чжан Цзолина.
Да, она согласилась креститься, хоть и боялась; и ей понравился обряд крещения, понравилось, как ее голову трижды окунали в большую серебряную чашу в православной церкви Харбина, а потом поливали на затылок из чаши водой; как босиком она стояла на коврике, с голой шеей, и ей мазали лоб, щеки, руки и колени пахучим маслом, а потом, бормоча таинственные древние славянские слова, надевали на шею медный крестик на золотой цепочке. Унгерн настоял, чтобы крест был именно медный. «А что ж цепочка золотая?» – наивно спросила она его. «Ты принцесса, тебе положено. А крест должен быть простой. Как у всех русских», – жестко ответил он, глядя в сторону. Ей остригли прядь волос и бросили волосы в чан с крестильной водой, а потом, после завершения обряда, подошли, низко кланяясь, русские старухи и куда-то унесли огромную серебряную чашу. Куда, спросила она? «Эту воду молящиеся выпьют потом», – шепнула ей, крестясь, церковная девочка, зажигавшая в храме свечи, вся, до подбородка, закутанная в черное. Она содрогнулась от отвращения.
Он взял ее под локоть и сухо сказал ей: Елена Павловна, поедемте домой, вас ждут, вы должны одеваться к свадьбе. Китайского венчания она не помнила. Пелена сна и видений, пелена грядущего ужаса, теперь испытанного ею, заволокла все – так дым костра заволакивает людей и горы вдали. И уже не рассмотришь.
Тихий звон… Длинные шелковые одежды, струящиеся по полу, за спиной… Гудение, визги дудок… Алый, белый, ярко-розовый шелк… Благовонный дым, медленно, сонно поднимающийся к потолку… Зачем они надели на нее европейскую фату?!.. Она же не хотела… Жених стоял рядом с ней, и их обоих обволакивал синий, сизый, призрачный дым, и у нее в ушах, на тоненьких серебряных ниточках, качались под дуновениями храмового сквозняка две жемчужины, две розовых жемчужины. Откуда вынули их, из какого водоема?.. Из Желтого моря?.. Из Хуанхэ?.. Из Селенги?.. Она любила жемчуг. Отец всегда дарил ей жемчуг, как богатые и бедные отцы семейств всегда дарят дочерям в Китае. Жених обернулся и, о ужас, взял пальцами – она подумала: мочку схватит!.. – нет, жемчужину. «Сейчас дернет, оборвет», – подумала она мгновенно. Отчего он казался ей сумасшедшим? Он поднял жемчужину за серебряную ниточку и поднес пальцами, пахнущими табаком, к ее губам. Ткнул жемчуг ей в губы. Ждал. Глядел круглыми безумными глазами. Она раздвинула губы. Он положил жемчужину на нижнюю ее губу. Она прижала ее верхней. Он погладил ей пальцем подбородок. Усмехнулся. Так и стояла – с жемчугом в губах, – и это было странно, унизительно и страшно. А китайские свадебные дудки визжали радостно, потом тихо плакали. И он отступил на шаг, отвернулся от нее и снова воззрился на ламу, совершающего обряд.
Ярко-огненные шелковые одежды того ламы… Лама-огонь… Одежды-огонь… Жизнь, вся жизнь – огонь… Пусть все сгорит, вся ее жизнь… Лучше был он бросил ее в огонь… чем вот так… вот здесь…
В Урге думают: она убита. Поэтому – не ищут.
Она лежит здесь… под каменной плитой… под железной коркой… и ее кормят, просовывая в отверстие ложку с медом… опять с медом… она плевала мед, ругалась страшно, по-китайски и по-русски – так, как ругался иной раз ее минутный муж, – потом, изголодавшись, умирая от голода, ловила эту сладкую, медовую ложку, всасывала, чуть ли не откусывала от позолоченного черенка… Кричала: дай еще!.. еще… Над ней раздавался смех… снова смех… смех, вечный как мир…
А разве мир вечный? Ты же знаешь, Ли Вэй, что он не вечный. Зачем ты обманываешь себя?
Иногда она видела огонь. Он горел высоко над ней. Прижатая тяжелым камнем, в пробитое в камне отверстие она видела рвущееся пламя. Тот, кто кормил ее медом, держал над нею, высоко вздымал горящий факел. Связка сандаловых прутьев. Она так бешено горела. Томяще, опьяняюще пахло сандалом. Она слышала треск горящих во мраке ветвей. Увидеть бы лицо! Он видит в отверстии ее лицо. Она – его – не видит. Она видит только ложку. Позолоченную ложку с медом, которую суют ей в рот, – с витой ручкой, с клеймом на серебре. Ложку с медом протягивают ей все реже. Сначала это было каждый день. Потом – через день. Потом – раз в три дня. Потом…
Потом она потеряла счет времени. Она умоляла Невидимого: убей! Она плакала: освободи… буду твоя… все, что хочешь… Она слышала высоко над собой смех. Ей казалось – это смеется птица.
* * *
…Он потер рукой, кулаком впалую, поросшую седыми волосами грудь под расстегнутой рубахой. От рубахи отлетали пуговицы, некому было пришить. У офицерья тут, в лагере, жены, у иных солдатиков тоже, кто местный, кто поближе живет, с Селенги, с Байкала ли, с Уды, с Амура, – а он?.. Заброшенный он, кинутый… отрезанный ломоть, одинокий кочет…
– Э-э-эх… житуха, житуха… Пропасть ты одна, а не житуха…
Да ведь и не старик вроде, а силенок уже маловато. Какие ему сраженья, походы! Зря он к этой бешеной тарашке, к безумному барону-то, прибился… Да ведь мыслил так: с супостатством надо кончать, русских людей охмурила немчура, подбила на революцию, на то, чтоб брат брата порешил… и сделались люди не люди, а черти натуральные. Так вот просто, проще чем лапоть сплести: всех бесов перебить – и рай пресветлый настанет! Э-э-эх… если б все оно так было…
– Да, Николка, штой-то мало от тебя толку… Пойти, што ль, иголку с ниткой у Мишки Еремина спросить?.. чай, дрыхнет небось… а у Федьки там, у Федьки-то наверняка в сундучке чекушка припрятана… он меня завсегда угостит… а то сердце не стучит, не тянет мотор…
Казак Николай Рыбаков потерял в Ужуре, большом селе на границе Красноярской губернии и Хакасии, где стоял у него крепкий казацкий дом и бегало по дому шестеро детишек («Эх, Маланья, давай седьмого-то заделаем, семь – счастливое число!» – смеялся он, накрывая всем телом, как ястреб цыпленка, балующихся ребятишек), в одночасье – все. Жену. Старую мать. Всех – до единого – детей: и подросших, и малых. Его семью, так же, как и другие семьи в Ужуре, в Копьево, в Туиме, в других селах и уездных городках Хакасии, перебил красный офицер, налетавший на мирные селенья с винтовками и пулеметами – косил всех подряд, сгонял на площадь, поливал пулеметным огнем, врывался в дома, приставлял маузер с вискам орущих, как резаные поросята, детей, ко лбам онемелых старух, палил – со товарищи – в мечущихся по избе баб. Офицера того, мать его за ногу, звали Аркадий Голиков. Ежели его убил кто – пусть в аду он горит, в смоляном красном пламени!
Рыбаков, прихрамывая – у него нога была глубоко ранена в бою под Улясутаем, – подковылял, щурясь на яркое зимнее солнце, к палатке, где жили трое солдат: старик Михайло Еремин, бравый молодец Осип Фуфачев и иркутский казак Федор Крюков. Федора Крюкова Николай в особенности уважал. За то, что Федор был шибко грамоте учен и все писал, корпел в свободную минуточку над листами бумаги; он записывал в них, корявым языком, на дикой смеси церковнославянских словес и грубо-казацкого, староверского сибирского наречия, свою собственную Библию. «Я, Николка, желаю записать письменами все приключения нашего большого похода, как мы с бароном нашим через леса-степи шли… как красных воевали, как Ургу воевали… как бились под Читой… Ведь, разумею, всяк человек свою Библию пишет…» Рыбаков возражал: да ведь уж есть одна, большая да боговдохновенная, куда ж еще одну плодить! Федор Крюков возражал: «Это ты брось, в каждом времячке, знаешь, свои Даниилы-пророки, свои евангелисты должны быть… Вон, у нас на Руси летописцы были, так плохо, что ли?..» А ты што ль, у нас тоже летописец аль пророк, шутил Рыбаков – и закручивал ловко «козью ножку» с крепкой, дерущей ноздри и рот маньчжурской махрой.
У палатки, щурясь, греясь на обманчивом зимнем солнышке, сидел в расстегнутой кацавейке старик Еремин, штопал гимнастерку, медленно вонзая сапожную длинную толстую иглу в потертую болотную ткань и медленно выдергивая нитку.
– Здорово живешь, Михал Палыч! Фуфачев-то тута?..
– Да ить давеча был тута, убег куды-то, пес разберет… Пошто он тебе сдался?.. Со мной побалакай…
– С тобой об этом несподручно, – Рыбаков помял загрубелыми пальцами бородатую щеку – засеребрилась бородка-то, он в осколке зеркала себя давеча увидал – да испугался: ну седой как лунь стал! – вздохнул тяжело. – У нас с Фуфачевым делишки завязались совместные. Он мне нужон. Слышь, Михал Палыч, – смущенно потупился казак, просительно, как-то по-собачьи вскинул глаза, – ты вот штопаешь… мне к рубахе пуговицы не пришпандоришь?.. да локотки бы подштопать…
– Ну, Микола Евграфыч, – сощурился старик Еремин, лобастый, малорослый старик с лицом голым, безбородым, как у монгола, с редкими седенькими волосиками посредине подбородка, продолжая тянуть из материи иглу, высоко вздевая руку, – я ж тебе не баба, штобы твои просьбишки исполнять. Сам давай-ка потрудись! А ить зачем тебе Фуфачев? коль не секрет, конешно…
– Не секрет, – вздохнул Рыбаков. – Он похитителя людей ловит. И меня подрядил помогнуть ему. Они с Иудой Михалычем, атамановым братом, этим делом занялись.
– Опасное энто дело, – выдохнул старик Еремин, разглаживая на коленях штопку и придирчиво рассматривая ее. Солнце вызолотило его огромный шишкастый лоб.
– Да ведь не опасней, чем ежели вот тебя следующего возьмут да умыкнут. А слухи ходят, – Рыбаков наклонился поближе к старику Еремину, – слухи ходят такие… что тут гдей-то, поблизости лагеря, монгольское капище в скалах… и там, вот те крест православный, все мертвяки лежат!.. и наши вроде бы, пропавшие, тоже там…
Старик Еремин ничего не ответил, перегрыз штопальную нить зубами. Из-за палатки вывернулся мальчонка, десятилетний Васька Хлыбов. Мальчонка прибился к войску Унгерна случайно, после взятия Урги, когда тьму народу переколошматили, а этого казачонка подобрал сердобольный Еремин из сожженной казачьей избы на окраине Урги. «Своя своих не познаша, – вздыхал старик Еремин, – зачем же своих-то, к лешему, бить?» Парнишка оказался понятливый. Солдаты называли его так же, как друг друга в дивизии, – «паря». «Эй, паря, подсоби!.. Эй, паря, ну-ка живо скачи за хлебом на Захадыр!.. Паря, эй, почисть коня мово, гостинец получишь!..» – «А каков гостинец-то?..» – «Да суслик жареный, ха-ха-а-а-а-а!..»
– Васька, а ну брысь отседа! – У Васьки были ушки на макушке. – Что подслушиваешь?
– Я все слыхал, дядь Коля, ну все-все…
Рыбакова осенило.
– А ежели все слыхал – давай помогни тоже! Ты ночами ничего тут не замечаешь в лагере подозрительного? Дрыхнешь спокойно?..
– Не очень, дядь Коля. – Васька Хлыбов засунул в нос палец, поковырял в ноздре, сплюнул на подталый снег. Пошевелил пальцем ноги в дырке сапога. – Кто-то на конях все время куда-то снаряжается. Ночью-то у нас ведь кто спит, а кто и нет. К командиру вон из Урги все время шастают, шастают… разные людишки, так и прут… Важный у нас командир-то, знаменитый. Лучше царя! – Васька свистнул в дыру от зуба. – Да он будет царем, еще как будет!
– Какой царь, что озоруешь, – одернул его Рыбаков. – На лошадях, говоришь, гарцуют?.. Так это в порядке вещей. А так, чтоб подозрительное што… ну, крики там, стоны… вроде как убивают кого… не слыхал?.. Или силком тащат кого… такого не слыхивал?..
– Силком?.. – Васька хитро воззрился на Рыбакова. Хохотнул. – Из Машкиной юрты вопли доносятся иной раз ночью, ага… ее ктой-то – точно, силком… а может, и по доброй воле…
– Цыть! Сгинь, – велел Рыбаков и сделал страшные глаза. – Щас как размажу в лепешку…
Васька убежал со всех ног. Рыбаков пригнулся и зашел в палатку. На полу палатки, в жестяной миске, горела темно-желтая восковая свеча. Федор Крюков сидел, как китайский богдыханский писец, скрестив ноги, на коленях у него лежала толстая доска, на доске – листы бумаги, перед ним на разложенных шкурах стояла чернильница. Федор, морща лоб, тихо, с подхрипами, прерывисто дыша, иной раз всхрапывая, как конь, в забытьи, сосредоточенно писал, не видя и не слыша никого и ничего кругом. Рыбаков, чтоб не испугать его, вежливо покашлял. Федор вздрогнул и оторвал глаза от рукописи.
– Ну што, с чем пожаловал? – мрачно спросил он. – Не мешай. Важное пишу. Библия моя сама вперед катится. А ты с чепухой какой приволокся, Николка, али с чем?..
– Да ни с чем эдаким, – Рыбаков снова смущенно крякнул, – а это… для поднятия моих казацких сил… помнится, у тебя чекушка была, ты ж приберег… сказал: до первых холодов… вот они и пришли…
Крюков сердито глянул на казака. Искушение было слишком велико. Он отложил доску с исчерканным листом, пошарил в котомке, приткнутой к стенке палатки. Извлек ртутно-прозрачную чекушку.
– Совратил, змей. Из горла аль нальем во что?..
– Давай из горла. По-быстрому. Штоб не увидал никто. Ежели кто заметит, барону донесет – не миновать нам китайской палки. Ташур их сам вытачивает, с желобками… умелец…
Федор отодрал затычку, глотнул, протянул бутылку Рыбакову. Казак выпил, утер усы, блаженно прижмурился.
– Полегчало. Благодарствую. На, спрячь. Храни как зеницу ока. Еще приложимся.
– Приложимся. – Федор запрятал чекушку в котому. – С чем пожаловал?
– Осип мне нужон. Пока поджидаю его – дай почитать, што корябаешь. Любопытство меня берет.
Федор с сомнением поглядел на казака, потом сжалился. Взял лист, протянул:
– На… читай.
«Унгернъ же и мужи его, солдаты славные, собрашася, и ополчишася во удоли синяго озера Байкалъ, а опосля и реки Селенги, а опосля во удоли Улясутая, а опосля того и во удоли самого славного града, Урга называемого, и устрояхуся набрань противу иноплеменником. Азияты сражахуся крепко, множество людей Унгерна побиваху. И иноплеменники стояху на горе отсюду особь, Унгернъ же стояше на горе отонуду, и удоль между ними бяше. И изыде мужъ силенъ изъ полка иноплеменнича, имя ему Богдо-гэгэн…»
Рыбаков оторвал взгляд от листа. Желваки под скулами заходили, седая борода и усы возмущенно зашевелились.
– Это как же – Богдо наш враг? Богдо ж под нами! Он же союзник барона! Они ж вместе! Они ж… Неправду пишешь, Федюшка! Надо написать – Чен И, китаеза проклятый!
– Как же неправду? Правду, – невозмутимо пожал плечами Федор. – Мы брали Ургу? Брали, хоть и неудача нас постигла. Сражались с косоглазыми? Сражались. Унгерн над Богдо теперь? Над Богдо. Унгерн Ургу возьмет? Возьмет беспременно. Я-то ить тут могучую битву описываю, как мы Ургу воюем, а ты…
– Ну хорошо, Господь с тобой. – От водки щеки и нос Рыбакова порозовели. Он снова углубился в чтение. Его губы шевелились, он повторял чуть слышным шепотом:
«И шлемъ медянъ на главе его, и въ броню кольчату той оболченъ бяше… и поножы медяны верху голеней его…»
Голоса казаков. Никола Рыбаков
Тогда тоже была зима. Ну, суровая зимушка была в том году, и вроде б недавнее времячко то было, а кажись, век уж прошумел.
Канун Рождественского Сочельника стоял, да… Если рельсов рукой коснуться – руку к железу приваривало на морозе. От паровозов дымина валил черный, тяжелый, навроде как жирная вакса в каменном от мороза воздухе растекалась. Все паровозы на Транссибирке были чехословаками захвачены. Наши уж и не плясали.
Сыпнотифозных на санках везли, связанных, будто дрова. Они ж и лежали, как дрова – бездвижно, мертво. Кто и умер, однако, а его все еще везли, везли – мать сына везет, а он уж не дышит, дочка – отца-старика… Потом как рухнет на колени в снег перед санями, обхватывает, плачет… Головою о ледяную грудь колотится… А тот уж не слыхает… Эх, человеки, человеки, и каво мы все колготимся…
Кто мог молиться – молился. Я тогда не мог. Мои все убитые у меня перед глазами так и стояли…
Я-то был в каппелевской армии тогда. К Унгерну я уж опосля прибился. А тогда, в январе, перед Рождеством, армия Каппеля приказала долго жить. Шесть десятков тысяч, бают, потеряли бойцов у нас, у Каппеля Владимира Оскаровича то исть. Кого убили, кого ранили, кто пропал без вести, кого в плен взяли… разве сочтешь, а однако, кто-то ведь и счел… Я-то оказался, слава тебе Господи, в той части армии, что пробивалась к селу Есаульскому, и там Каппель отдал приказ – повернуть на север… И железная дорога осталась у нас за спиной… И мы пошли, пошли вдоль Енисея… Зеленый лед, на сибирских реках лед завсегда зеленый… Изумрудный дак… А Енисей в тот год, как назло, не везде стал, льдом не все крепко схватило, где и пошумливал быстрым потоком, ой быстрая река, и вся норовистая, игривая, ну чисто рысь таежная… До Кана дошли – думаем: инда по льду надоть брести?!.. Побрели. Ночами тяжеленько было. Не увидишь, где лед подточен – со дна горячие ключи бьют, полыньи сплошняком, сколь раз – слышу крик впереди: «А-а!» – и только солдатика и видели, под лед сиганул, сердешный, и – поминай как звали… Лошадок жалко, лошадки напропалую гибли… Во тьме пробирались с каким угодно светом: с фонарями масляными, со свечами, что в церкви в Красноярске стащили у попа… кто лучину перед собою нес, жег… ну чисто крестный ход по льду, жуть, оторопь меня брала… а все ж идти надо было…
Мы тогда не знали, что Колчака расстреляют в Иркутске. По слухам, на льду это тоже случилось, на льду Ангары… на реку их вывели с Пепеляевым, их благородий, вдвоем… Последняя минута, в сознании ведь пулю-то грудью встречаешь, да без завязанных глаз… Каждый солдат готов к тому, чтоб на тот свет переселиться с Богом. И каждый офицер. Адмирала расстреляли… а генерал наш, Владимир Оскарович, под лед на Кане провалился, легкие у него воспалились… Мы его сами на коня сажали, коня тихим шагом пускали… к седлу генерала привязывали… вечером – сымали… Да не спасли мы его, мученика, нет, не спасли. Под Канском, у железной дороги, на разъезде Утай, что близко от станции Зима, скончался наш отченька, наш Каппель. Тяжело умирал… не дай Бог так-то умереть, лучше уж пускай расстреляют к чертовой мамушке. Воздух ртом хватал, выгибался, инда при столбняке… кричал, мать все призывал… Человек помирает – а все мать зовет, будто бы робеночек он, человечек, и ему опять на ручки хочется, ко груди теплой, к утешению… Одиноким ты рождаешься на свет; и одиноким уходишь отсюдова. Полкового священника намедни мы похоронили, некому было отпевать, молитвы, какие знали, пролепетали… В гроб мы его положили и, крестясь, плача, сани с гробом потянули за собой – морозы все одно стояли крепкие, место можно было не спеша выбрать, где закопать… Не вышло у них, у Каппеля, у Колчака. Не получилось. Ну да Бог им судья.
Все мыслю так: а у нас, у нашего-то барона – получится ль?..
Вышли к Байкалу. Лед трещал так громко, что нам казалось – канонада… Лодки вмерзали в ледяные забереги. Всюду валялись конские трупы. Мы шли и шли, мы стремились попасть в Забайкалье, нас вел уже Войцеховский… а когда мы к Чите подобрались, голодные-холодные, обтрепанные хуже нищих на паперти, отощавшие – пропитайся-ка одной мерзлой кониной да еще заварухой – варевом из муки да растопленного снега!.. – мы узнали: Колчак незадолго до ареста произвел Семенова в генерал-лейтенанты и назначил его походным атаманом всех Российских окраин… Адмирала не было – а приказ-то был! И приказу надо было подчиняться, ибо военные люди мы все!
Подчинились.
Все мы поближе к Чите подтянулись-подползли… а уж весна стояла, март!.. эх, много, много нас скопилось в Забайкалье, все мы, недобитые, да гордые, все мы, истинные россияне, там оказались… Восток – братцы вы мои, не задворки. Восток лежал перед нами, как спрятанный в шкуре рыси китайский драгоценный зеленый камень нефрит… кажись, так его кличут?.. Думал – доченьки вырастут в Ужуре, нефритовые колечки им подарю…
Семенова ругали все почем зря. И распутный-то, до водки охочий, и расхристанный, и жестокий, чуть что – секир башка; и амуры любит, то исть, с бабенками баловство; и чуть ли не на руку нечист… Грязь лили ведрами. Семенову икалось, и таких шаек ни в одной сибирской бане не было, чтоб ему от той грязи отмыться. К весне он Дальневосточную Русскую армию сколотил. И я там очутился, ну, как же иначе. Врангель подминал Семенова под себя – Семенов не подчинился. Нравный дак наш атаман. Вот уперся в Унгерна, и лучше вождя, понимаешь ты, нету. Нету, и все! И я так раздумываю теперича: должно, нету. Кто б это еще такой сумасшедший на Ургу войска повел?! А вот он повел. Кто все неудачи так стойко, сцепив зубы, пережил?! Кто нам глазыньки распахнул, открыл, что Азия – матерь миров всех, что она, Азия, грудью все остальные миры вскармливает?! Опять же Унгерн. И за это, братцы, я готов идти за ним, за бароном, и за атаманом нашим славным Семеновым в огонь и в воду, вот вам истинный крест. Зябнуть в штопанной шинелишке, в гимнастерке, из мешковины пошитой. Из мешка, стало быть, из-под картошки… А он, атаман, дай-то Бог ему здоровьичка, выдал нам и валенки, и полушубки, и ушанки, и шапки меховые, и деньгу положил хорошую… а что бьет – значит, по-нашему, по-русски – любит!.. дисциплину блюдет… Солдата ежели распустить – он, братцы, хуже бабы станет…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































