Текст книги "Сотворение мира"
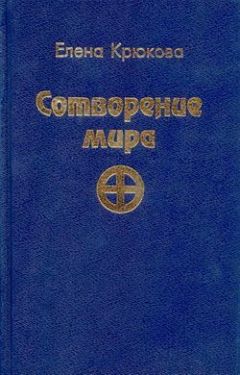
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Фавор
Воздымалась гора над Волгой горбом медведя мохнатого.
Гроза клубилась. Молния изо чрева, мглой объятого,
Ударяла во реки блюдо серебряное.
Звезды закручивались в зените браслетами тяжелыми, древними…
Ночь пахла ягодой безумной, первым золотом
В листве дубов, первым – от звезд идущим – холодом,
Молоком из крынки, из погреба вынутой,
Соленой слезою души скитальческой, всеми покинутой…
Я стояла на горе, в рубахе, голорукая, босая,
Под ветром, рыбой пахнущим, худая, простоволосая,
По любови – страждущая, без любови – одинокая,
Обочь любови плещущая Волга глубокая…
И молилась я так, руки лодчонкой смоленой складывая:
«Господи! Твой шаг в грозовых лучах угадываю —
Пошли мне любовь, Господи, не израненную-избитую,
А счастливую, красивую, давно мною позабытую…
Чтобы я любимого ласкала-лелеяла-холила,
Чтобы я ему в мире подлунном пропасть-загинуть не позволила —
В братоубийствах, в речах из глоток кровавых на площадях завьюженных,
На земле нашей загубленной, выжженной, выпитой, отравленной, остуженной…
Дай, дай мне, Господи!… И меня-то любовь злая до капли выпила.
Дай – счастливую!… чтоб я из груди ей в дар
теплое сердце вынула!…»
И внезапно тучи заходили черными полотнищами.
И проклюнулся огонь из туч серными сполохами.
И в дегте неба надо мною воссияли три фигуры слепящие.
Одежды их радужные развевались, по ветру летящие.
Моисей слева – розовый лебедь!
Илия справа – синие крыла хитона распахнуты…
А посередине Господь – руки Его пылающие на всю полночную твердь
размахнуты,
Огненные власы Его поджигают радостными свечьми Вселенную,
Звездные очи молча кричат: Земля, будь благословенною…
Я упала на землю грязную, приникла к ней худым распятием,
Шептала: «Господи, только не посылай мне Твое проклятие —
Ведь я Тебе служила верою и правдою,
Жертвуя нищим Твоим хлебом, сном и иною отрадою!…»
И рек Господь с небес:
«Не плачь, моя доченька.
Грозовая, страшная нынче выдалась ноченька.
Одесную меня стоит Илия в ризе индиговой,
Ошую – Моисей в хитоне заревом, багряном, архистратиговом,
А мои одежды белы как снег, как августовские звезды лучистые:
Целуй их, доченька моя, ангелица, голубица чистая!…
Много грешила – все грехи с тебя снимаются.
Над твоею головушкой – зри!… – Марс с Венерою обнимаются,
И тебе дам любовь твою единственную последнюю,
облегчу тебе твое изнеможение,
Ибо ты увидела нынче в небе черного августа
Христово Преображение!…»
И протянула я руки к яркому свету: Отче!… Вот милость Божия!…
А лучи радужные скользили по грязи, целовали наше бездорожие,
Целовали наши овраги, буераки, бурьяны, буреломы, протоки, излучины,
Сиротку-пристань внизу под горой, ржавые лодочные уключины,
И в свете небесном – Господи!… молясь, шатаясь свечою пьяною,
Я увидела ее… ее, любовь мою окаянную…
Его… худого как жердь-слега… патлатого мальчишку…
богомаза, деревенского художника…
Что привязала к одиночеству своему заместо подорожника…
Думала – подлечу… а рана разъелась рваная…
Ох, Господи… Благодарю Тебя!…
…за любовь окаянную,
За любовь воздыханную, за портрет ее сияющий,
Что намалевал звездами по черной холстине возлюбленный,
по мне рыдающий,
За любовь великую, идущую маленькой нищенкой
меж людьми жестокосердными,
За любовь, сотворяющую нас однажды в ночи – бессмертными,
За гору Фавор над черною Волгой, за молитвы светлое напряжение,
За летящие в небесах самоцветные крылья Господня Преображения!…
И у ног Христа в небе я узрела мальчишку тощего, рваного,
Что сидел, скрючившись, близ мольберта старого, деревянного,
Он сидел у холста, он брызгал с небес на землю краскою,
Он писал Христа и улыбался мне ласково.
И вскипела во мне кровь! И вскочила я рысьим прыжком на ноги!
Господи! Это ж моя любовь! Возьми меня тоже на небо!
Чтобы мы там вместе летели, славя любовь нашу последнюю,
окаянную,
Над любовной постелью,
Над младенческой колыбелью,
Обочь – над Волгой – креста деревянного,
Чтоб летели, сплетясь, сцепившись намертво!…
А людям бы на Земле казалося,
Что это Андромеда с Персеем крепко обнялась-обвязалася,
Что это Дева с Охотником-Орионом съединились в вечном
качании-скольжении,
Господи!… Ты ж все можешь…
Дай нам, двум бедным смертным, это… Преображение…
………………………………
И гром загремел. И все исчезло.
И одна я на горе Фавор, плачущая.
И со мною – только сердце мое, в груди летящее, скачущее.
И надо мною – только чайка в черном небе кричит незримая:
Не плачь, девочка моя одинокая,
доченька любимая.
Пророк Илия возносится на огненной колеснице
1.
С пожаром золотых волос-
Берез, со шрамами оврагов,
С кипением апрельских слез
Среди скуластых буераков,
С прищурами безрыбных рек,
С дерюгою-рваньем буранов —
О ты, мой бедный человек,
Илья-Пророк, от горя пьяный,
Слепой от ненависти, лжи, —
Скажи, Илья-Пророк, скажи,
Уста отверзни, молви слово
Нам, утонувшим во словах,
Что остается нам святого
Пред тем, как мы сойдем во прах!
Отечество тебя объемлет
Огромной ночью… Но стоишь
В ночи. И зришь Святую Землю:
Весь Глад и Мор. И Сушь. И Тишь…
И, прострелив очами Время,
Весь огненный, в ночной сурьме,
Летишь – и плачешь надо всеми,
Кто срок пожизненный в тюрьме
Мотает, кто хрипит в больнице,
Кто в поцелуе невесом…
И пламенная Колесница
Летит!
…И ты – под Колесом.
2.
Борода его билась тугим огнем
На упорном черном ветру.
И от глаз его было светло, как днем.
И пылали скулы в жару.
Ты, Илья-Пророк, ты два уволок… —
А и кто же нам их вернет?… —
Эх, старик, ведь наш прогнил потолок,
Наш порог обратился в лед.
В перекрестье таких проходных дворов,
Где секрет – остаться живым, —
Ты пророчил:
– Будет жива Любовь, —
И глотал сигаретный дым.
Во застольях таких золотых дворцов,
Где цианистый калий пьют,
Ты кричал:
– Да будет в конце концов
Над убийцами – Страшный Суд!
А сейчас ты стоишь, весь в пурге-снегу,
Тьму жжешь рыжею бородой,
И речешь:
– Прости своему врагу,
Старый царь и раб молодой!
Протяните руки друг другу – вы,
Убивающие в упор.
Возлюбите крепко друг друга вы —
Богомаз, офицер и вор!
Я пророчу так: лишь Любовь спасет.
Чтобы мир не пошел ко дну,
Чтобы не обратился в Потопный плот —
Возлюби, Единый, Одну!
Мы погибнем, чтобы родиться вновь.
Мы себя под топор кладем,
Чтобы так засверкала в ночи – Любовь:
Проливным, грозовым огнем!
О, заплачьте вы надо мной навзрыд.
Я – Пророк. Мой недолог век.
А сейчас – Колесница моя горит,
Кони бьют копытами снег.
И, доколе не взмыл от вас в небеса,
Под серебряный вой пурги,
Говорю: распахните настежь глаза,
Хоть глаз выколи, хоть – ни зги.
И прозрите – все. И прозрейте – все.
И прощайте… – мой вышел срок… —
Спица огненная в живом Колесе,
Рыжеусый Илья-Пророк.
Иов
Ты все забрал.
И дом и скот.
Детей любимых.
Жен полночных.
О, я забыл, что все пройдет,
Что нет великих царств бессрочных.
Но Ты напомнил!
И рыдал
Я на узлах, над коркой хлеба:
Вот скальпель рельса, и вокзал,
Молочно-ледяное небо.
Все умерли…
Меня возьми!
И голос грянул ниоткуда:
– Скитайся, плачь, ложись костьми,
Но веруй в чудо,
Веруй в чудо.
Аз есмь!…
И ты, мой Иов, днесь
Живи. В своей России. Здесь.
Скрипи – на милостыню старцев,
Молясь… Все можно перенесть.
Безо всего – в миру остаться.
Но веруй!
Ты без веры – прах.
Нет на земле твоих любимых.
Так, наша встреча – в небесах,
И за спиною – два незримых
Крыла!…
Вокзал. Немая мгла.
Путь на табло?… – никто не знает.
Звеня монистами, прошла
Цыганка. Хохот отлетает
Прочь от буфетного стола,
Где на стаканах грязь играет.
И волчья песня из угла:
Старик
О Будущем рыдает.
Пир Валтасара
Содвинулись медные круглые чаши
Над бедным, в газетах, столом.
Вот гулкое, куцее счастие наше —
Общага, наш временный дом.
Общага, и кружево пены, бутыли,
Селедка на рвани бумаг —
И, юные, мы среди песни застыли,
Друг друга почуяв впотьмах.
Какие там юные!… – Грудь моя сыном
В те годы отпита была…
И двум сыновьям во квартирных теснинах
Мерцали твои зеркала…
Какие там свежие!… – Галочьи лапы
Морщин, недоступных глазам,
И – вниз по годам, по соленому трапу,
Не ведая, что ахнет там…
Подобно то было небесному свету.
Тугое мужское лицо
Катилось в меня искрометной планетой,
Огнями сжималось кольцо.
А то, что златое колечко блестело
Меж черных мозолей и вен… —
Вот тело мужское.
Вот женское тело.
И жизнь– за секунду – взамен.
И как мы над жирной лазурной селедкой,
Над звоном стакана в пиру
Друг к другу рванулись!
Эх, век наш короткий!
Эх, вечное наше: «Умру!…»
Но ясная песня цвела и кричала
И в щеки нам била, как снег:
«Любите друг друга, начните сначала
Бровей ваших нежность… и век…»
И под общежитскую злую гитару
Мы друг через друга текли —
И маслом кухонным,
и детским пожаром,
И кровью небес и Земли,
И шепотом писем, похожих на воздух,
Что – из кислородных резин, —
И слезы всходили, как кратные звезды,
Над нитями наших седин!…
Улыбкой, дыханьем смыкались, впивались,
Сливая затылки, ступни…
Мы только глядели. Мы не целовались.
Мы были в застолье одни.
И замер гогочущий пир Валтасара.
И буквы вкруг лампы зажглись
Табачные, дымные…
Я прочитала.
И солью глаза налились.
Ты тоже те буквы прочел… Содрогнулся…
Но все! Пропитались насквозь
Друг другом! Дотла!… И ты мне улыбнулся,
И остро коснулся волос…
А кто-то селедку норвежскую резал!
А кто-то стаканы вздымал!
И, пьяный, безумный, больной и тверезый,
Всей песней – всю жизнь
обнимал.
Два урки, в поезде продающие библию за пятерку
Эх, тьма, и синий свет, и гарь, испанский перестук
Колес, и бисеринки слез, и банный запах рук!…
И тамбур куревом забит, и зубом золотым
Мерцает – мужики-медведи пьют тягучий дым…
А я сижу на боковой, как в бане на полке.
И чай в одной моей руке, сухарь – в другой руке.
И в завитсках табачных струй из тамбура идут
Два мужика бритоголовых – в сирый мой закут.
От их тяжелых бритых лбов идет острожный свет.
Мне страшно. Зажимаю я улыбку, как кастет.
Расческой сломанных зубов мне щерится один.
Другой – глазами зырк да зырк – вдоль связанных корзин.
Я с ними ем один сухарь. Родную речь делю.
Под ватниками я сердца их детские – люблю.
Как из-за пазухи один вдруг книжищу рванет!…
– Купи, не пожалеешь!… Крокодилий переплет!…
Отдам всего за пятерик!… С ней ни крестить, ни жить,
А позарез за воротник нам треба заложить!…
Обугленную книгу я раскрыла наугад.
И закричала жизнь моя, повторена стократ,
С листов, изъеденных жучком, – засохли кровь и воск!… —
С листов, усыпанных золой, сребром, горстями звезд…
Горели под рукой моей Адамовы глаза,
У Евы меж крутых грудей горела бирюза!
И льва растерзывал Самсон, и плыл в Потопе плот,
И шел на белый свет Исус головкою вперед!…
– Хиба то Библия, чи шо?… – кивнул другой, утер
Ладонью рот – и стал глядеть на снеговой костер.
Сучили ветки. Города мыл грязные – буран.
Глядели урки на меня, на мой пустой стакан.
И я дала им пять рублей за Библию мою,
За этот яркий снеговей у жизни на краю,
За то, что мы едим и пьем и любим – только здесь,
И что за здешним Бытием иное счастье есть.
Орган
Ночная репетиция. Из рам
Плывут портреты – медленные льдины.
Орган стоит. Он – первобытный храм,
Где камень, медь и дерево – едины.
Прочь туфли. Как в пустыне – босиком,
В коротком платье, чтобы видеть ноги,
Я подхожу. Слепящим языком
Огонь так лижет идолов убогих.
Мне здесь разрешено всю ночь сидеть.
Вахтерша протянула ключ от зала.
И мне возможно в полный голос спеть
То, что вчера я шепотом сказала.
На пульте – ноты. Как они темны
Для тех, кто шифра этого – не знает!…
Сажусь. Играть? Нет, плакать. Видеть сны —
О том лишь, как живут и умирают.
Я чувствовала холод звездных дыр.
Бредовая затея святотатца —
Сыграть любовь. И старая, как мир —
И суетно, и несподручно браться.
Я вырывала скользкие штифты.
Я мукой музыки, светясь и мучась
Вдруг обняла тебя, и то был ты,
Не дух, но плоть,
не случай был, но участь!
И чтоб слышней был этот крик любви,
Я ость ее, и кость ее, и пламя
Вгоняла в зубы-клавиши: живи
Регистром vox humana между нами!
А дерево ножной клавиатуры
Колодезным скрипело журавлем.
Я шла, как ходят в битву напролом,
Входила в них, как в землю входят буры,
Давила их, как черный виноград
По осени в гудящих давят чанах, —
Я шла по ним к рождению, назад,
И под ногами вся земля кричала!
Как будто Солнце, сердце поднялось.
Колени розовели в напряженье.
Горячих клавиш масло растеклось,
Познав свободу взрыва и движенья.
Я с ужасом почувствовала вдруг
Живую скользкость жаркой потной кожи
И под руками – плоть горячих рук,
Раскрывшихся в ответной острой дрожи…
Орган, раскрыв меня сухим стручком,
Сам, как земля, разверзшись до предела,
Вдруг обнажил – всем зевом, языком
И криком – человеческое тело.
Я четко различала голоса.
Вот вопль страданья – резко рот распялен —
О том, что и в любви сказать нельзя
В высоких тюрьмах человечьих спален.
Вот тяжкий стон глухого старика —
Над всеми i стоят кресты и точки,
А музыка, как никогда, близка —
Вот здесь, в морщине, в съежившейся мочке…
И – голос твой. Вот он – над головой.
Космически, чудовищно усилен,
Кричит он мне, что вечно он живой
И в самой смертной из земных давилен!
И не руками – лезвием локтей,
Щеками, чья в слезах, как в ливнях, мякоть,
Играю я – себя, тебя, детей,
Родителей, людей, что нам оплакать!
Играю я все реки и моря,
Тщету открытых заново Америк,
Все войны, где бросали якоря,
В крови не видя пограничный берег!
Играю я у мира на краю.
Конечен он. Но я так не хотела!
Играю, забирая в жизнь свою,
Как в самолет, твое худое тело!
Летит из труб серебряных огонь.
В окалине, как в изморози черной,
Звенит моя железная ладонь,
В ней – пальцев перемолотые зерна…
Но больше всех играю я тебя.
Я – без чулок. И на ногах – ожоги.
И кто еще вот так возьмет, любя,
До боли сжав, мои босые ноги?!
Какие-то аккорды я беру
Укутанной в холстину платья грудью —
Ее тянул младенец поутру,
Ухватываясь крепко, как за прутья.
Сын у меня! Но, клавиши рубя,
Вновь воскресая, снова умирая,
Я так хочу ребенка от тебя!
И я рожу играючи, играя!
Орган ревет. Орган свое сыграл.
Остался крик, бескрайний, как равнина.
Остался клавиш мертвенный оскал
Да по углам и в трубах – паутина.
Орган ревет! И больше нет меня.
Так вот, любовь, какая ты! Скукожит
В червя золы – безумием огня,
И не поймешь, что день последний прожит.
Ты смял меня, втянул, испепелил.
Вот музыки владетельная сила!
Когда бы так живую ты любил
Когда бы так живого я любила…
И будешь жить. Закроешь все штифты.
Пусть кузня отдохнет до новых зарев.
И ноты соберешь без суеты,
Прикрыв глаза тяжелыми слезами.
О, тихо… Лампа сыплет соль лучей.
Консерваторская крадется кошка
Дощатой сценой… В этот мир людей
Я возвращаюсь робко и сторожко.
Комком зверья, неряшливым теплом
Лежит на стуле зимняя одежда.
И снег летит беззвучно за стеклом —
Без права прозвучать… и без надежды.
Босые ноги мерзнут: холода.
Я нынче, милый, славно потрудилась.
Но так нельзя безмерно и всегда.
Должно быть, это Божеская милость.
А слово «милость» слаще, чем «любовь» —
В нем звуки на ветру не истрепались…
На клавише – осенним сгустком – кровь.
И в тишине болит разбитый палец.
И в этой напряженной тишине,
Где каждый скрип до глухоты доводит,
Еще твоя рука горит на мне,
Еще в моем дому живет и бродит…
Ботинки, шарф, ключи…
А там пурга,
Как исстари. И в ноздри крупка снега
Вонзается. Трамвайная дуга
Пылает, как горящая телега.
Все вечно на изменчивой земле.
Рентгеном снег, просвечивая, студит.
Но музыки в невыносимый мгле,
Такой, как нынче, никогда не будет.
Стою одна в круженье белых лент,
Одна в ночи и в этом мире белом.
И мой орган – всего лишь Инструмент,
Которым вечность зимнюю согрела.
Матерь мира
Дымы, пожарища, хрипение солдат,
И крики: «Пить!…» – из-под развалин…
И Время не закрутится назад,
В молочный сумрак детских спален.
Мир обнаженный в прорези окна.
Меж ребер пули плачут и хохочут.
Так вот какая ты, сужденная война,
Багряный Марс, полночный красный кочет!
Летят твои кровавые лучи
В ключицы и ложбины, в подреберья
Дворов и подворотен, и ключи
Лежат под ветром выбитою дверью…
В проеме – я.
В виду застрех и слег,
Охваченных полынным, черным дымом,
Еще не зверь, уже не человек,
Кричу: отдай! Отдай моих любимых!
Из чрева моего пошли они
В казенный мир, брезентом, порохом пропахший, —
Отдай их, Бог! Мои сыны они!
И бледный лейтенант, и зэк пропащий!
Я – баба. Этот свет я не спасла.
Любила мужика… детей рожала…
Дай, Бог, мне, дай широких два крыла,
Чтоб на крылах сынов я удержала!
Хоть двух спасти – а там прости-прощай.
Я улечу на Марс кроваво-красный.
Пусть рушится земной солдатский Рай.
Пусть далеко внизу собачий лай.
Еще восстанет жизнь… прекрасной…
Держитесь, мальчики! Среди планетных зим,
Средь астероидов, кометных копий
Заплачем мы над нищим и больным,
Океанийским, зверьим и степным,
Военным, княжеским, холопьим…
И, мать, рукою сыну укажу:
– Там – Родина:
Междуусобной розни…
И мелко, страшно, сердцем, кожей задрожу,
И лютый Космос в кулаках я еле удержу
Двумя колосьями – черно-искристый, грозный.
Ковчег
Затерян в копях снеговых, в ладонях мира ледяного,
Один – нет никого в живых, лишь ветер приговор суровый
Читает, – он плывет один, он срубовой, и бревна толсты,
И сам себе он господин, и шепчут на морозе звезды:
«Гляди-ка, дом!…» Земля мертва. Пуста, что ледяная плошка.
А в доме том свинья жива, собака лает, плачет кошка.
А в доме том седой старик, усатый, сморщенный и лысый,
Богатство зрит: вот белка – прыг, вот зайцы, овцы, гуси, крысы,
Вот волк с волчицею, павлин, чета волов, стрекозы, козы, —
А дом плывет в ночи, один, и на морозе звезды – слезы…
Старик по пальцам перечтет змей пестрых и жуков заморских;
У ног его, урча, уснет толпа седых котов ангорских…
Старик заохает, кряхтя и шерсть линючую сбивая
С фуфайки: сын Лисы – дитя, сын Кобры – хитрость огневая!…
А там, дай Господи, пойдут роды, и семьи возродятся,
И звезды новые сверкнут на пятках скачущего Зайца,
И род Оленя, род Совы, род Волка, род Орла Степного
Из мерзлой снеговой травы, горя глазами, вспыхнут снова!
И гладит, гладит их старик – своих, спасенных им, зверяток:
Эх, звери, мир вчера возник, а нынче весь застыл, до пяток,
А завтра стает мертвый лед, и забелеют камни-кости,
И я вас выпущу… вперед!… В моем дому вы были – гости…
Зверюшки… пума и кабан… и леопард, в мазутных пятнах…
Мир будет Солнцем осиян. Вы не воротитесь обратно.
Вы побежите есть и пить, по суходолам течь, как пламя,
Сплетаясь, яростно любить и высекать огонь рогами!…
Зверье мое… Когда-нибудь меня ты вспомнишь, серый заяц,
В полях полночных долгий путь, поземку, сутемь, горечь, замять…
И то, как пережили мы, внутри веселого Ковчега,
Ночь красных звезд,
чуму зимы,
сырой, дырявый саван снега.
Как я давал вам хлеб из рук, вас целовал в носы и уши,
Сердец собачьих чуял стук, любил медвежьи, волчьи души,
И знал, что этот час пробьет, взовьется небосвод горячий,
И я вас выпущу… вперед!… – и в корни рук лицо запрячу,
И близ распахнутых дверей, близ жизни новых поколений
Я упаду среди зверей перед Ковчегом на колени;
И по моей спине пройдут копыта, когти, зубы, жала,
И смерть пребудет как закут, где жизнь моя щенком дрожала.
Видение войска на небе
Войско вижу на небе красное…
Любимый, а жизнь все равно прекрасная.
Колышутся копья, стяги багряные…
Любимый, а жизнь наша – эх, окаянная…
Вздымают кулаки хоругви малиновые…
Любимый, а жизнь наша – долгая, длинная…
А впереди войска – человек бородатый, крылья алые…
Любимый, а жизнь-то наша – птаха зимняя, малая…
А войско грозно дышит, идет, и строй его тесней смыкается!…
Любимый, всяк человек со своей судьбою свыкается…
А войско красное – глянь! – уж полнеба заняло!…
Любимый, я боюсь, ох, страшное зарево…
А и все небо уж захлестнуло войско багровое!… —
Любимый, оберни ко мне лицо суровое,
И я обниму тебя яростно, и поцелую неистово, —
Не бойся, в поцелуй-то они не выстрелят!…
Вот она и вся жизнь наша, битая, гнутая, солганная, несчастная,
Любовная, разлучная, холодная, голодная, все равно прекрасная.
И мы с тобою стоим под пулями в красном объятии, —
Любимый, а жизнь-то наша, зри: и объятие, и Распятие.
Крик
Обвивает мне лоб мелкий пот.
Я в кольце гулких торжищ – жива.
И ребенок, кривя нежный рот,
Повторяет мои слова.
Я молчу, придвигая уста
То к посуде, то к мерзлым замкам,
То к ладони, где в форме креста —
Жизнь моя: плач по ветхим векам.
Я молчу. Грубо мясо рублю.
На доске – ледяные куски.
Накормлю! – это значит: люблю.
Чад венчает немые виски.
И, когда я на воздух бегу,
Чтоб в железных повозках – одной,
О, одной бы побыть!… – не могу
Говорить – и с самою собой.
Правда серых пальто, бедных лиц,
Ярких глаз, да несмахнутых слез!
В гуще бешенейшей из столиц
Я молюсь, чтобы ветер унес
Глотки спазм – а оставил мне крик,
Первородный, жестокий, живой,
Речь на площади, яростный рык
И надгробный отверженный вой,
И торжественный, словно закон,
И простой, будто хлеб с молоком,
Глас один – стоголосый мой хор —
Под ключицею,
Под языком.
Баянист под землей
Ветер-нож, разрежь лимон лица!
Слезный капнет сок…
До конца, до смертного венца –
Черный свод высок.
И когда спускаюсь в переход,
Под землей бреду,
Пулей посылает черный свод
Белую звезду
прямо под ребро…
* * *
Белые копья снегов в одичалую грудь
Навылет летят.
Льдом обрастает, как мохом, мой каторжный путь!
Стоит мой звенящий наряд
Колом во рдяных морозах! Хозяин собак
Не выгонит, пьян, —
Я же иду по ночам в лихолетье и мрак:
Туда, где баян.
Скользок и гадок украшенный кафелем мир
Подземных дворцов.
Вот сталактиты светильников выжгли до дыр
Газеты в руках у птенцов.
Вот закрывается локтем несчастная мать,
На грязном граните – кормя…
Мир, дорогой, я тебя престаю понимать, —
Поймешь ли ты мя?!
Тихо влачусь под землей по широким мостам —
Гранит режет взор,
Мрамор кроваво-мясной, кружевной, тут и там,
Мономах-лабрадор!
Господи, – то ли Карелия, то ли Урал,
А то ли Эдем, —
Только, Исусе, Ты не под землей умирал —
Где свет звездный: всем!…
Руки ковшами, долбленками тянут из тьмы
Мальцы, старики…
В шапках на мраморе – меди мальки… Это мы —
Наши щеки, зрачки!
Мы, это мы – это мой перекошенный рот
У чеченки с мешком…
Вдруг из-за царской скульптуры – как песня хлестнет
Крутым кипятком!
Баянист, гололобый, беззубый, кепчонку надвинь —
Сыграй мне, сыграй:
“На сопках Манчжурии” резкую, гордую синь,
Потерянный Рай.
“Зачем я на свет появился, зачем меня мать
Родила…” – и марш золотой,
“Прощанье славянки”, ту землю, что будет пылать
Под голой пятой!…
Мни в руках и терзай, растяни, обними свой баян,
Загуди, захрипи,
Как ямщик умирал, от мороза и звезд горько пьян,
Во широкой степи!
Как колечко венчальное друга неслышно просил
Жене передать, —
Баянист, пой еще, пока хватит и денег и сил
Близ тебя постоять…
О, сыграй мне, сыграй! Все, что мерзнет в карманах, – возьми!
То мусор и смерть.
Ты сыграй мне, как молния счастия бьет меж людьми —
Так, что больно глядеть.
Руки-крючья целуют, клюют и колотят баян,
Руки сходят с ума —
Роща отговорит золотая, и грянет буран,
Обнимет зима…
А вокруг – люди шьются-мелькают, как нить в челноке,
Пронзают иглой
Адский воздух подземки, наколку на тощей руке,
Свет над масляной мглой!
О, сыграй, пока море людское все бьет в берега
Небес и земли,
Пока дедов баян все цепляет худая рука,
Люстр плывут корабли!…
Играй, мой родной! Играй! Он пробьет, черный час.
Он скует нас, мороз.
Играй, пока нищая музыка плещет меж нас
Потоками слез.
Играй. Не кончайся. Стоять буду год или век
У шапки твоей, следя то прилив, то отлив
Людской, отвернувшись к морозному мрамору,
тающий снег – из-под век —
Ладонью закрыв.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































