Текст книги "Любовный секрет Елисаветы. Неотразимая Императрица"
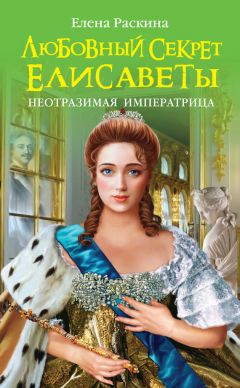
Автор книги: Елена Раскина
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава третья
Визит Барятинского
Александр Барятинский стоял на коленях перед цесаревной Елисаветой Петровной. В комнате было темно, холодно, горела одна-единственная свеча, то и дело потрескивая от усталости – так ей не хотелось освещать эту тягостную сцену. Свечи, дрова и соль Елизавета вынуждена была экономить, столь скудным оказалось отпущенное ей содержание.
Цесаревна сидела в кресле, ее неподвижный, рассеянный взгляд был устремлен куда-то в сторону и никак не мог встретиться с отчаянными, вопрошающими глазами Барятинского. Пухленькое личико цесаревны покраснело от слез, руки были бессильно скрещены на коленях, и Барятинский не узнавал в сидящей перед ним до смерти испуганной женщине ту восхитительную, победоносную красавицу, которая еще недавно, во Всесвятском, белой лебедью проплывала перед их полком.
– Ваше императорское высочество, – снова и снова твердил князь, – надобно Шубина из крепости спасать. А уж мы за вами идти готовы. Скажете – государыню с трона скинем. Вас на престол возведем. Допрашивают его сейчас, на дыбе висит. А потом, если жив останется, сгниет в Сибири. После заплечных дел мастеров никто не жилец. И ему не выжить.
– Знаю… – тихо, бессильно прошептала Елизавета. – Муки его во сне вижу. Но сделать ничего не могу.
– Да почему же, матушка? – в отчаянии закричал Барятинский.
Сейчас ему хотелось не валяться у цесаревны в ногах, а взять ее за плечи да встряхнуть хорошенько, чтобы реветь перестала и взялась за ум.
– Битый час перед вами на коленях стою. Пол вон весь в ваших покоях вытер. Товарищи меня в казарме дожидаются. Алешка на дыбе висит. А вы…
– А я, Александр Иванович, сделать ничего не могу. – Елизавета поднялась, подошла к Барятинскому и опустила на его дрожащие от волнения богатырские плечи свои слабые руки. – Знаю наверняка, ежели сейчас выступим, удачи нам не будет. И Алешу не спасем. Подождать надобно.
– Да откуда вы это знать можете? – изумился прапорщик.
– Батюшка ко мне приходил, – тихо, буднично сказала Елизавета. – Пришел и сказал: «Не время, Лиза. Поберечься надо».
Барятинский испуганно перекрестился. «Правы старики, – подумал прапорщик, вспомнив недавний, случайно услышанный им разговор солдат, ходивших в петровские походы. – Не ушел Петр Алексеевич из этого мира. Тень его за дочкой следом ходит. Да предостерегает, видно».
И, словно в ответ на его слова, лицо Елизаветы исказилось, а голубые глаза наполнились угрожающей чернотой.
– Рано еще выступать, – закричала она, быстро, нервно расхаживая по комнате широкими отцовскими шагами. – Меня в монастырь дальний сошлют, Алешу казнят, а тебя, дурака, с товарищами твоими – в Сибирь, да подале. От цинги гнить да лес валить. Сидите себе по казармам тихо да меня не тревожьте.
Елизавета снова села в кресло и добавила тихим, нежным, дрожащим голосом:
– А я за Алешеньку молиться буду. Даст Бог, отмолю его у государыни нашей.
– Благослови меня, матушка, – сказал Барятинский, поднимаясь с колен. – На страдание благослови. Потому как молчать я не буду и вслед за Алешкой на каторгу пойду.
Елизавета подняла было руку, но потом резко, решительно опустила ее.
– Не будет тебе моего благословения, Александр Иванович, – тихо, но твердо сказала она. – Не тебе эту чашу испить. Алешина она и моя. Иди себе с Богом да часа жди. Когда пора наступит, я сама вас на дело позову. Или ждать не умеешь?
– Умею, ваше императорское высочество, – вздохнул Барятинский и направился к дверям. Потом пулей вылетел в ночную темень и холод, а вслед ему понесся отчаянный елизаветин вой: «Где же ты, Але-е-шенька ми-и-лый?»
И долго еще прапорщику казалось, что плач этот летит вслед за ним, кружит над замерзшим городом и заставляет редких прохожих плотнее кутаться в свою жалкую одежонку… Так и дошел до казарм вместе с летевшим за ним воплем, а потом все не мог опомниться и ставил свечи в церквях за здравие рабов Божиих Елизаветы и Алексея и упокой души раба Божьего Петра…
Глава четвертая
Приезд Настеньки
«Ангел мой Настенька! Жизнь наша течет по-прежнему – легко и неспешно. Фрейлина моя Мавра Шепелева написала пьесу из древних времен – о прекрасной палестинской царице Диане, жене царя Географа, и ее жестокой свекрови. Свекровь эта Диану в пустыню изгнала, перед мужем оклеветала и погибели ее ищет. Хотели мы поставить пьесу сию на домашней сцене, в Смольном доме, где государыня велела мне поселиться. Да только вот не нашли никого на роль царя Географа, в коем царица Диана души не чает. Прежде заглавные мужские роли в театре нашем твой брат исполнял, да, видно, придется другого актера найти. Может, посоветуешь кого, Настенька, или сама к нам приедешь? Приезжай, душа моя, в Петербург, ждем тебя не дождемся.
Друг твой Елисавета».
Настя Шубина несколько раз прочитала это невразумительное письмо, потом поднесла его к глазам, как будто хотела прочесть между строк, но от этого оно не стало ни на йоту понятнее. К чему этот бессвязный рассказ о пьесе, сочиненной Маврой Шепелевой, история несчастной красавицы Дианы, над которой издевается безобразная свекровь? Но потом Настя вспомнила, что новая императрица Анна Иоанновна, как поговаривали видевшие ее люди, собой некрасива и цесаревну не жалует. Стало быть, рассказывая о страданиях прекрасной царицы Дианы, Елизавета имеет в виду себя и свою нынешнюю опалу. А если никого не нашлось на роль царя Географа, значит, с Алешей – первым актером домашнего театра Елизаветы – стряслась беда, и нужно немедля ехать в Петербург.
Объяснять отцу Настя ничего не стала и спешно покинула Шубино.
Настя вспоминала, как Алеша впервые привел ее к Елизавете, как она с восхищением вглядывалась в пухленькое, обольстительное личико цесаревны, без тени огорчения или зависти любовалась пленительным изгибом ее губ, чувственной и царственной улыбкой, манерой говорить, слегка растягивая гласные, и легко, еле заметно, словно играючи, касаться ладонью щеки брата. Боже мой, как она ловила каждое слово этой красавицы, как мечтала быть такой же беззаботной и страстной, уверенной в своем нерушимом праве на чужие судьбы и сердца! Как потом, вернувшись домой, с тенью недоумения и неудовольствия разглядывала себя в зеркале и видела серые, грустные глаза и усталую тихую улыбку, которой никогда не было на лице Елизаветы. И как мечтала быть хоть сколько-нибудь похожей на цесаревну, и однажды, словно травинку, мять в руках чье-то страстно бьющееся сердце. Но этого Настеньке было не дано – она лишь пыталась погасить зажженный Елизаветой огонь.
– Приехала, приехала! Велик Господь! Только брата твоего нет с нами… – горячо, быстро шептала Елизавета, обнимая едва ступившую на порог Смольного дома Настеньку. А та с удивлением смотрела на скромное тафтяное платьице цесаревны, на стянутые в узел волосы, которые раньше были уложены в замысловатую высокую прическу, на заплаканное, померкшее лицо и бессильно опущенные руки. Настя не узнавала стоявшую перед ней женщину, отчаянно, в голос рыдавшую.
– Что с Алешей? – спросила она.
– Арестовали его, Настенька, – прошептала Елизавета, – на дыбе висел…
Цесаревна прижала к глазам горячие ладони, как будто хотела отогнать страшное воспоминание. А потом договорила сквозь слезы:
– На Камчатку его сослали. От меня и от тебя подале. Я к государыне новой в ноги кинуться хотела, да поняла – она не в Алешу, она в меня метит. Меня уязвить хочет. И не спасти его никак.
– Как не спасти? – возмутилась Настя. – Гвардию подымать надо. Полк, где Алеша служил. Отцовский трон отвоюете и брата моего спасете.
– Не время еще, Настенька, видит Бог – не время! – оправдывалась Елизавета, рыдая на плече у любимой фрейлины. – В монастырь меня дальний сошлют или в Сибирь, а там и умереть недолго. Затаиться пока надо, терпеть. А потом я у власти буду и Алешеньку нашего освобожу. Ты только не покидай меня, Настенька милая. Не смогу я одна, никак не смогу.
Настенька глубоко вздохнула, обняла Елизавету и нежно, медленно провела рукой по ее спутанным волосам. В это мгновение сестре сосланного на Камчатку ординарца цесаревны показалось, что утешает она не любимую дочь грозного императора, а испуганную девчушку, которой приснился кошмарный сон. Настя терпеливо, по-матерински, шептала Елизавете слова утешения, и постепенно отчаянные рыдания стихали, и в глазах российской Венеры появлялся прежний, капризный, как петербургское солнце, блеск…
Настенька увела Елизавету в ее покои, а потом долго еще сидела одна в отведенной ей комнате, медленно раскачиваясь на постели и повторяя вслух: «Алеша жив, он вернется…»
Так она просидела всю ночь, а наутро сон накрыл ее с головой, как волны никогда не виденного моря. Во сне Настя увидела, как Алеша, словно ребенка, нежно и бережно ведет Елизавету за руку, но глаза у цесаревны почему-то закрыты, а на лице порхает легкая, победоносная улыбка. «Ей ангел-хранитель в человеческом облике положен», – подумала Настенька и поняла, что в отсутствие брата ей самой придется вести Елизавету за руку. А потом, когда придет срок, напомнить цесаревне о страшной Алешиной участи.
Часть IV
Певчий из Лемешей
Глава первая
Юность Олексы
Олексу Розума Бог одарил необыкновенным голосом. Громоподобный бас Олексы трубой звучал в деревянной церкви украинского села Чемеры, где красавец Розум числился в певчих. Но чемерский дьячок, слыхавший знаменитых на всю Украину певчих из Киева и Глухова, морщился, как от кислого яблока или зубной боли, когда Олекса доходил до совсем уж непомерного рева. В простоте сердечной Розум не отличал форте от пиано и валил таким грохочущим звуком, что дьяк приберегал его для тех мест литургии, в которых нужно было возопить или воззвать.
– В Киев тебе надо, Алешка! – говорил дьяк, учивший Олексу грамоте. – Голос тебе дан силы и красоты великой, а пользоваться им не умеешь. Не всегда ведь, чадо, грохотать надобно. Ангелы на небесах поют тихо и сладко, а ты только глотку рвешь…
Отец Розума, реестровый казак и горький пьяница, с завидным упорством пропивал все, что было в доме, а когда Олекса, не стерпев семейного разорения, выволок его из шинка, чуть было не разнес сыну топором голову.
Пасти лемешевское стадо Розуму было скучно, еще скучнее по вечерам унимать пьяного отца, поэтому всерьез Олекса привязался только к чемерской церкви да к дьячку, с которым беседовал о глуховских певчих и ветхозаветном пастухе Давиде.
Бог одарил Олексу не только голосом, но и красотой. Красив Розум был необыкновенно, с правильными, хотя и несколько крупными, чертами лица, карими очами, дугообразными и изящными, как у женщины, ниточками бровей, красиво очерченными губами, но при этом широкоплеч и силен, без тени женственности и хрупкости, обычно присущей подобной красоте.
Для тех, кто мог слышать Олексу в чемерской церкви, красота Розума ничего не добавляла к его голосу. Будь он хоть вдвое красивей, это не заставило бы прихожан растрогаться больше, когда Олекса выводил «Покаяния отверзи ми двери» и глухим рокотом вторил ему хор. Красота Розума принадлежала миру, а голос – храму, и даже дьяк, ругавший Олексу за ор и рев, иногда, в особенно волнующих местах «Верую» или «Ныне отпущаеши», закрывал глаза и протяжно вздыхал.
Дорога от родных Лемешей до соседних Чемер поначалу казалась Олексе легкой и сладкой. Розум ежедневно покидал тяжелый лемешевский быт, семейные дрязги, отцовское неуемное буйство ради Чемерской церкви, где голос его был скромным подношением храму, и бесед со словоохотливым дьяком.
Глубоко в душу Олексе запала история о царе Сауле и пастухе Давиде, излечившем его. Лемешевский пастух искренне верил, что и ему достанется какой-нибудь больной духом царь, которого он излечит своим пением. Был Олекса в своих желаниях искренним и почестей не ждал, а хотел лишь излечить больную и грешную душу и сделать это посредством своего голоса. Чудесная власть пения – вот что томило и волновало Олексу!
Иногда по ночам приходило к Олексе видение – рыжеволосая красавица со щеками в ямочках, с грустным, заплаканным лицом, и думал тогда Розум, что вот он – этот самый больной духом. Но кто она и какое отношение имеет к его мечтам – Розум не знал.
Когда Олекса рассказал о своих фантазиях дьяку, тот сначала перекрестился, а потом выругал Розума на чем свет стоит.
– Давид был посланник Божий! – орал дьяк, и даже брови на его полном, благообразном лице тряслись от негодования. – Ты что, Алешка, в посланники Божьи себя рядишь?! Не рано ли? Лучше петь научись, честной отрок!
– А я научусь, видит Бог, научусь! – оправдывался Олекса и клял себя за непомерную гордыню. – Вот в Глухов поеду и научусь… А то еще в Киев можно, в хор митрополичий…
– Можно и в Киев, – соглашался дьяк. – А мысли эти брось, слышишь… Ишь ты, в Давиды лезет!
Глава вторая
Полковник Вишневский
Зима 1730 года выдалась дождливая и рыхлая, окрестные села тонули в грязно-белой хляби, и приевшаяся дорога от Лемешей до Чемер уже не казалась Розуму легкой и сладкой. Он увязал в снеговой каше, мок под дождем и что было сил прислушивался к странному ожиданию природы.
Природа, как и Олекса, ждала изменения своей участи, скорого и близкого, и так же жадно прислушивалась и приглядывалась. Розуму чудилось, что небо набухло Господней волей, что скоро, очень скоро, его судьба, как корабль, застоявшийся на мели, сдвинется с насиженного места и уплывет неизвестно куда.
Меж тем все было по-прежнему – отец пил, бросался с топором на мать и братьев, а в церкви Олекса смущал односельчан своим разросшимся громовым пением.
В ту зиму у России, а, значит, и у Украины, появилась новая государыня. Розум почти ничего не знал о новой императрице, но, как и многие его соотечественники, жалел, что ее место не заняла цесаревна Елисавет Петровна. Не в пример батюшке, Елизавета почитала малороссов – благо в духовниках у нее был малоросс Дубянский. Однако Елизавета, упустившая отцовский трон, была не в чести у новой государыни – а вместе с ней и отец Федор. Опальная цесаревна окружала себя малороссийскими певцами и бандуристами, и многие олексины соотечественники мечтали попасть в узкий круг ее приближенных. Чемерский дьяк уже подумывал о том, как бы пристроить Олексу к отцу Федору Дубянскому, но провидение предупредило его намерения. Летом 1730 года в Чемерах оказался придворный императрицы Анны полковник Вишневский.
* * *
Как только Федор Степанович Вишневский выбрался из-под колпака великого петербургского страха, его перестали терзать болезни и подозрения. Федор Степанович – в недавнем прошлом бравый полковник – стал ныне робким поставщиком императорских удовольствий. Он ездил в Венгрию за винами и в Малороссию за певчими. Вишневский слыл при дворе ценителем прекрасного, тонким знатоком вин и музыки, благо он воротил нос от голландской водки и в церкви ретиво подпевал хору.
Новая императрица терпеть не могла «шкиперского пойла», должно быть, в пику дядюшке Петру, и предпочитала вина – французские и венгерские. К церковному пению она была неравнодушна, но певчих подбирала высоких и статных, как солдат. При дворе Анна живо устроила солдатчину – поминутно палила в цель, муштровала шутов и женила придворных. Великий страх по пятам преследовал ее приближенных, и даже король петербургских щеголей гофмаршал Рейнгольд Левенвольде сгибался перед матушкой-государыней в три погибели, подметая пол брюссельскими кружевами.
Страх крепко держал полковника Вишневского за горло, но в Венгрии, слава Богу, полегчало. Эта милая страна располагала к бесстрашию, и Вишневский дышал легко, как юноша, и спал сладко, как младенец. В первые дни путешествия Федор Степанович, правда, еще пребывал во власти императрицы Анны, и воспоминания о придворной муштре омрачали радость недолгой свободы. Но потом страна маленьких, словно игрушечных, замков на дунайских кручах, токайского и марципанов настроила полковника на безмятежный лад. Он распустил живот и мысли и поминутно тянул – напополам с токайским – фривольные амурные куплетцы.
В Венгрии Федор Степанович так разошелся, что в Малороссию въехал этаким краснорожим Бахусом.
Новая государыня успела внушить украинцам отвращение – говорили, что она дожидается только смерти гетмана, Данилы Апостола, чтобы положить конец гетманскому правлению. Апостола и без того держали за горло воспоминания о Петропавловской крепости, из которой он, к счастью, вышел живым – предыдущий гетман, Павло Полуботок, скончался в крепости во время следствия.
Больше всего полковника Вишневского растрогала уверенность украинцев в том, что цесаревна Елисавет Петровна непременно исправит отцовскую жестокость по отношению к Малороссии.
Цесаревна действительно, не в пример батюшке, почитала украинцев, благо на Украине у нее были поместья. Но Елисавет Петровна выпустила власть из своих рук и ныне жила тихо и убого, в Смольном доме, на окраине Петербурга.
«Хороша заступница… – думал Вишневский. – Сама не сегодня-завтра в монастыре или того хуже – в Сибири окажется, а они от нее помощи ждут. Знала бы об этом государыня – быстро бы на Елисавету клобук надела… А ежели донесли уже? Доносы в пути не мешкают, не то что добрые вести…»
Певчих Федор Степанович набрал немало – статных и кареглазых, как велели, и к концу своего путешествия оказался в селе Чемеры. Малороссийские пейзажи всегда располагали Вишневского к сентиментальности, и порой ему казалось, что в этом жасминно-облепиховом раю расчувствовалась бы и сама императрица. Проезжая вечером обычной сельской дорогой, мимо лугов с благоуханными травами и деревянной с зелеными куполами церкви, он как будто понимал, почему невзлюбил этот край покойный Петр I.
Здесь было слишком покойно, слишком медленным казалось течение времени, а Петр говорил и действовал на диво быстро, ходил семимильными шагами, как ветряная мельница размахивая руками-лопастями. Покойный император не мог ужиться с обычным течением отпущенного человеку бытия, его раздражал черепаший ход событий, слишком длинные промежутки между желанием и свершением и жалкие, словно из милости отпущенные сроки.
В Малороссии жили, не торопясь, истово и по старинке, как староверы в поморских лесах. И Вишневскому захотелось остановиться, оттянуть возвращение в Петербург, забыться сладким сном в лоне новообретенной смелости. Там, на Севере, за эту смелость нужно было платить, а здесь она давалась даром, вдыхалась вместе с дурманящим ароматом лугов. Но Вишневский знал, что даровая смелость может быть сметена первым враждебным вихрем, тогда как выстраданное бесстрашие намертво прирастает к коже. «Труслив я, – с безмерной жалостью к самому себе подумал Федор Степанович. – Есть грех…»
Зазвонили к вечерне, и Вишневский, оставив своих людей и груз на попечение еврея-шинкаря, решил подняться к стоявшей на холме зеленокупольной церкви Архангела Михаила. Шел он медленно, быстро не позволял изрядный вес, и потому опоздал к началу службы. В дверях побагровевшего, задыхающегося Федора Степановича настиг трубный глас, обернувшийся низким, громоподобным басом певчего. Чудесный голос увлекал за собой хор, и прослезившийся Вишневский чувствовал, как его попранная великим страхом душа устремляется к высотам незнакомой доселе смелости.
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения мои, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и неведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: вся ми прости, яко Благ и Человеколюбец», – шептал Вишневский, слегка изменив молитву. «Трусость мою прости и бесстыдство», – добавил Федор Степанович и с мучительной судорогой душевного отвращения вспомнил, как перед отъездом в Венгрию угодливо смеялся площадным шуткам Анны.
Пока на клиросе рокотал хор, полковник не решался взглянуть на диковинного певчего. Федор Степанович не хотел знать, красив или уродлив, молод или стар тот, кто так смутил его душу. Но когда хор смолк, Вишневский нагляделся на певчего всласть, и красота юноши смутила его не меньше, чем голос.
«В Петербург бы сего певчего, на государынины очи…» – решил Вишневский, и незнакомый красавец показался ему спасительной нитью, нечаянным источником царского милосердия. «С таким голосом и не умилостивить государыню! Быть того не может…» – Расчувствовавшийся Вишневский уже мечтал о смягчении нравов и прекращении казней, но оборвал свои мечты на самой высокой ноте.
Малороссийский певчий был не во вкусе государыни, предпочитавшей топорность и силу изяществу и красоте. Впрочем, с таким голосом можно было рассчитывать на чудеса, и Вишневский решил уговорить юношу ехать с ним в Петербург.
Уговаривать Олексу не пришлось. Розум как заранее знал все, что собирался ему посулить этот невесть откуда взявшийся вестник. С письмом чемерского батюшки к отцу Федору Дубянскому и материнским благословением Олекса покинул Лемеши.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































