Текст книги "Солдаты последней войны"
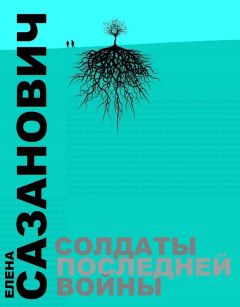
Автор книги: Елена Сазанович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В ее хорошеньких пустых глазенках мелькнул неприкрытый испуг.
– Друг? Извините, за любопытство…
– Извиняю. Мой друг Павел Ледогоров.
– Паша! – воскликнула она и тут же покраснела. И тут же в ее глазках испуг пропал. И она облегченно улыбнулась. И пришла моя очередь удивляться. Паша! Как трогательно. И явно неспроста.
– Надеюсь, не ему понадобилась валерьянка, – уже дружелюбно, почти фамильярно спросила она. И хихикнула.
– Правильно надеетесь, – я не сбавлял темпы. Удача плыла мне в руки. И я надеялся вскоре что-то узнать. – У Пашки крепкие нервы.
– Что не скажешь о его милой женушке, – она мне подмигнула.
Упоминание о Майе, да еще таким тоном, мне не понравилось. Но пришлось подыграть.
– Да уж, не скажешь.
– Бедненький, как он с ней мучается, – вздохнула притворно аптекарша. – И позор-то какой… При его положении…
– Ну, милая, я не знаю подробности. Мы с Павлом друзья детства. А поскольку я лишь вчера вернулся из Швейцарии, где жил долгие годы…
Она вновь недоверчиво оглядела меня с ног до головы, не понимая, почему такое носят в Швейцарии.
– И как приятно вновь оказаться на родине, – перебил я ее взгляд. – И вновь, вот так просто, с самого раннего утра отправиться по грибы… Какие здесь чудесные места!
Чудесные места ее явно меньше всего волновали. Но она облегченно вздохнула, сообразив, что по швейцариям я в таком виде не разгуливал.
– Так вы, говорите, вам нужна валерьянка? – уже более почтительно спросила аптекарша. – Уж не для Майи ли?
– Неужели она нуждается в валерьянке? – я вновь решил направить разговор в нужное русло.
– Нет, думаю в валерьянке она не нуждается, – язвительно ответила продавщица. – Ей, наверняка, нужны успокоительные посильнее.
– Неужели ее дела так плохи? – в моем голосе послышались нотки тревоги.
– Ну, когда молодая женщина три раза пытается покончить с собой…
Покончить с собой! Неожиданно! И я вспомнил Котика, бросающегося под автомобиль. Нет, таких совпадений не бывает.
– Покончить с собой, – задумчиво протянул я. – И вы, милая, безусловно, знаете причину столь неординарных поступков?
– Причину? Какую причину! Ясно, что она сумасшедшая. Тут все говорят об этом. Какой дурак наложит на себя руки при таком богатстве.
Я внимательно посмотрел на аптекаршу. Глупая, пустая кукла. Уж она точно на себя никогда не наложит руки. Скорее вопьется другому в горло, чтобы не упустить свое. Но высказать вслух столь лестные для нее мысли я не мог, поскольку во что бы то ни стало хотел добыть информацию.
– Ну, она надеюсь, хотя бы лечилась…
– Лечилась? Может быть… Но они все держат в такой тайне…
– А я то думал, что у Паши от вас нет никаких тайн.
– А от вас? – усмехнулась она. – Кстати, не думаю, что ему понравится, когда он узнает, что вы тут все вынюхиваете про его милую женушку.
– Но еще менее ему понравится, милая, когда он узнает, что все сплетни о его семье распускаете именно вы, – я премило улыбнулся ей в ответ.
– Но ведь он никогда ничего не узнает? – она настороженно впилась в меня своими пустыми глазками.
– Умница вы моя, – и я даже позволил себе привольный жест и потрепал ее по румяной щечке. И она резко отпрянула. И скривилась.
– Кстати, девушка, – я не выдержал и уже в дверях задержался. – Часто ли в вашем благополучном поселке болеют?
– А вам зачем? – удивленно спросила аптекарша.
– Да так… Просто хотелось узнать, насколько быстро разоряются обитатели столь престижных коттеджей. От всей души вам желаю хорошего бизнеса.
Громко хлопнуть дверью на прощание мне так и не удалось. Двери нынче везде одинаково тяжелые и трудно открываемые…
В город я приехал в прескверном настроении. То, что удалось узнать, вселяло тревогу и опасение. Я много думал об Майе. Мне много приходилось видеть на своем веку людей с отклонениями психики. И я практически всегда безошибочно мог определить диагноз. Но Майя… Нет, тут что-то было не так. Я вспоминал ее холодный, отрешенный взгляд. Ее ироничные фразы, ее желание все время защищаться, как правильно заметил Котик. Да, именно защищаться. От внешнего мира, от встречных людей, пожалуй, и от себя. Но нарушений… Явных нарушений здесь не было. Конечно, депрессивное состояние вполне можно допустить. Но я в жизни бы не сказал, что эта женщина готова наложить на себя руки. Подобных больных я изучил, и с суицидальным синдромом сталкивался не один раз, когда еще практиковал в клинике. Впрочем, я уже давно не практикую, и начал уже терять профессиональные навыки. Может, этим и объяснялось то, что я не определил характерные признаки нарушения психики. Черт побери! Ведь не один же раз она собиралась наложить на себя руки. Если бы один-то вполне могла быть определенная причина. Но три раза… Это уже очень серьезно. И, если она где-то лечилась, то только в самой престижной клинике. А самой престижной и дорогой на сегодняшний день была моя бывшая. И я не раз шутил по этому поводу. Едва я ее покинул – там сразу же дела пошли на лад. Хотя, все было, конечно, гораздо проще. Ее просто купили с потрохами, как и моего давнего приятеля-главврача, любителя симпатичных девушек и симпатичной музыки… Пожалуй, пришло время обратиться к нему.
С этими обнадеживающими, хоть и невеселыми мыслями я решительно шел по направлению к своему подъезду и даже поначалу не услышал, как меня окликнули.
– Ну же! Кира! Ты что – глухой! – наконец услышал я позади себя капризный писклявый голосок. И оглянулся.
И увидел высокую, здоровую девицу, развязно облокотившуюся о крыло новенького спортивного Альфа-Ромео. Яркая блондинка, вызывающе накрашенная, в коротком ярко-красном блестящем платье, явно надетом под цвет такого же ярко-красного автомобиля. Естественно я ее не узнал.
– Ну же, Кира, – протянула она с каким-то неопределенным акцентом. – Ты что, старых подружек не узнаешь.
Ну, если мои старые подружки такие, куда я вообще тогда качусь, с тоской подумал я. И нехотя приблизился к девушке. Вблизи, несмотря на дорогое оперение и вызывающий окрас, я наконец-то ее узнал. И мне оставалось разве что громко присвистнуть.
– Ты что ли, Санька?!
Она в ответ обиженно надула свои накрашенные полные губы.
– Не Санька, а Сандра, пора бы тебе знать.
Ого! Уже Сандра! И этот дорогущий автомобиль, и этот лоск, конечно, чертовски вульгарный, но тем не менее… Да, денежным купюрам все-таки пора поставить памятник. Что они вытворяют! Если из такого чучела, такой дурнушки что-то удалось слепить.
Сколько я жил, столько я знал Саньку. Она выросла с нами в одном дворе. И все ее ужасно жалели. Пожалуй, она была самая некрасивая девчонка в нашем доме. Толстая, высоченная, неуклюжая и к тому же самая глупая. Только из жалости учителя переводили ее из класса в класс, и она с горем пополам закончила восьмилетку. Потом долго работала на швейной фабрике и наконец, когда ее мать с гордостью сообщила о том что она выходит замуж, все облегченно вздохнули. Этого никто не ожидал. Насколько я помню, он был поваром какого-то захудаленького кафе. Куда она иногда забегала с девчонками после работы. Видели мы его один раз на свадьбе. Одного с ней роста, мордоворот с ужасно тупым взглядом, он все время что-то жевал и в перерывах что-то бессмысленно мычал. В общем, все тут же решили что они будут счастливы. После свадьбы они съехали на какую-то квартиру, и о них практически ничего не было слышно. Иногда Санькиной маме, одинокой и нелюдимой Анне Гавриловне, соседи задавали вежливые вопросы, но вразумительного ответа так и не получали. И про Саньку как-то потихоньку стали забывать. Пока однажды, то есть сегодня, она не появилась на красном новеньком лимузине, перекрашенной блондинкой. Даже похудевшая и похорошевшая. И я мысленно в очередной раз пропел дифирамбы зеленым бумажкам. Они на сей раз и впрямь сделали невозможное.
– Значит ты уже Сандра! – с явным сарказмом переспросил я. Но Санька как всегда ничего не поняла.
– Ну! – она с гордость встряхнула крашеными волосами. – Именно, Сандра!
И она даже умудрилась покрутиться на месте, чтобы я оценил ее вид по достоинству.
– Неужели бросила своего повара? – я не унимался язвить.
– Ха! Как бы не так! Напротив, я теперь его ни за что не выпущу.
И она показала свои по-прежнему здоровенные кулаки. И я понял, что бедный повар попался.
– И с каких пор жены кулинаров так хорошо живут.
– Кулинаров! – Санька презрительно скорчила свою мину. – Как бы не так! Тоже мне – кулинаров! Да если хочешь знать, он теперь ресторанный маг… маг… маграт! Вот!
И она облегченно выдохнула, справившись с непонятным иностранным словом.
– Ты хочешь сказать – магнат?
– Именно! Он теперь хозяин целой сети самых модных столичных ресторанов! Может, слышал – «Пицца-хват»?
– Вот так-так! – с притворным восхищением я округлил глаза. – И как это удается выпускникам кулинарного техникума?!
– А вы у нас ума наберитесь, интеллигентики, – она презрительно оглядела меня с ног до головы. – То же мне, щеголяли своими знаниями. Я то помню, все передо мной умников корчили, стишки читали, музычку сочиняли! Ну и где ваши стишки и музычка! Я вижу на тебе джинсы, которые ты еще в своем дурацком институте носил!
Пожалуй, если бы я услышал такое от кого-то другого, то обиделся и въехал по уху. Но Санька… Чучело и тупица… Она была настолько ничтожна, что серьезно относиться к ней я просто не мог.
– Ну ничего, Санька, теперь-то ты нам отомстила, – почти дружественно ответил я ей.
Если Бог и хотел для наглядности создать пример совершенного идиотизма, то с Санькой у него все получилось на славу. И я огляделся, чтобы придумать какой-нибудь предлог. И заметил Василия Николаевича, соседа по подъезду, старенького учителя-пенсионера. Он в который раз прогуливался вдоль мусорных баков взад-вперед, смущенно оглядываясь по сторонам. Я знал, что ему ужасно стыдно копаться в мусоре, но иначе на свою – честно заработанную – пенсию ему просто-напросто не прожить. Что ж, плата за добродетель, ум и талант оказалсь слишком высокой… И я повернулся спиной к учителю, сделав вид, что ничего не заметил. И вновь столкнулся нос к носу с женой кулинара, разодетой тупоголовой идиоткой, развязно опирающейся своей мускулистой рукой на шикарный автомобиль. А ведь Василий Петрович был ее учителем долгие годы. Именно он хлопотал за нее, чтобы с горем пополам переводить ее из класса в класс. Санька перехватила мой взгляд и наконец удостоила вниманием своего учителя.
– Получил свое, старый придурок, – удовлетворенно хмыкнула она. – Представляешь, он мне не раз при всем классе заявлял, что я сильная и здоровая, поэтому смогу стать достойным представителем рабочего класса. И свое будущее смогу обеспечить, ежегодно по бесплатным путевкам отдыхая в какой-нибудь захудалом Крыму, а лет через пять получу жалкую однокомнатную квартирку. Ну и будущее же он мне нарисовал! Как бы не так!.. Вот пусть и копается в мусорных баках. А я только вчера вернулась из Лос-Анжелеса! Ха! И он еще мне постоянно указывал, что я никак не могла отличить Америку от Азии! А я между прочим полсвета объездила и до сих пор не могу отличить! И мне глубоко наплевать! А он, прекрасно разбираясь в своей географии, пусть сейчас покопается в дерьме. Может, подойти, поздороваться к нему, а?
Я схватил ее за руку и до боли сжал ее. Так, что Санька вскрикнула.
– Не смей к нему подходить! Тебе говорю – не смей!
– Фу, дурак, отпусти! Не пойду я к нему, больно нужно! Еще помрет от зависти!
– Допускаю, что он может умереть, увидев тебя. Особенно ему горько будет за годы, потраченные на таких, как ты. И откуда вы такие взялись, ответь мне, Санька?
– Мы просто, в отличие от вас, прекрасно разбираемся в жизни. А вы всего лишь разбирались в искусстве и науках. А жизнь и без искусства, и без наук может запросто идти своим ходом. А вот науки без жизни… Вот вы теперь и прозябаете, а мы просто живем. И, кстати, неплохо. Можешь сам убедиться. Приглашаю в гости! По-настоящему тогда поймешь, чего я стою! Мы новый домище отгрохали! Полмира объездили, чтобы мебель себе выбрать! Кстати, оформили в английском стиле! Представляешь, я сама придумала – золотая люстра, ну как у Людовика, и черные в золотые цветы занавески. Правда, красиво! А мне какая-то дура сказала, что не соответствует! Завидует!
– Поэтому у тебя такой акцент? Английский стиль требует?
– А ты что, хочешь, чтобы я с волжским болтала! Дудки! Я вращаюсь в высших кругах общества!.. Все завидуют!
– Ну, конечно! Завидуют, точно! Только я не пойму при чем тут Людовик? Насколько я помню, он был королем в Париже?
– Ну так правильно! Я же тебе и объясняю уже битый час – дом в английском стиле! А как тебе мое платье?
Она вновь покружила перед моим носом.
– Шик! От Кристиан Диор. Я только от нее одеваюсь, – похвасталась она.
От него, мысленно поправил я Саньку. Но промолчал.
– Так у меня еще и беби есть! – Санька так вдохновилась своими достижениями, что по-братски толкнула меня и я чуть не упал. – Какой чудный малыш! Ходит в самую престижную гимназию. Обещали – через год стишата и рассказики научится писать. Вот так! Утрет нос Петуху!
– А что, уже за деньги и стихи, и рассказы учат писать? – искренне удивился я.
– В-ау, – по-рекламному воскликнула Санька. – А ты не знал? И музыку сочинять тоже учат. Правда, подпортила мне наша горничная, дура! Из рук вон плохо с моим беби занималась.
– Кто?! – это было уже выше моих сил.
– Как кто? Горничная! Взяли на свою голову с высшим образованием, так она еще и кривилась. Ужасные эти русские! Просто дикость какая-то! По сравнению с иностранцами. У нас еще не привыкли оказывать друг другу услуги за деньги и получать от этого удовольствие. Во всем мире самой модной и лучшей прислугой признаны уругвайцы. Так я теперь взяла уругвайку. Класс, да?! С естественным почтением и уважением ко мне относится!
– С естественным, говоришь, – я в упор смотрел на эту дуру. И в моих глазах было столько презрения и ненависти. Что даже дошло до ее куриных мозгов. – С естественным…
Я невольно сжал кулаки.
– Ну да, – промямлила она. И тут же ее испуг вновь улетучился, едва она провела пальцами, унизанными бриллиантовыми кольцами по лакированной машине. Она уже знала свою цену.
– Кстати, – пропищала она, уже не глядя в мои глаза. И открывая дверцу машины. – Кстати, я ведь в тебя была влюблена. Но ты же меня считал круглой дурочкой. И уродиной. Вот как в жизни бывает. А я боготворила твой ум и красоту. И что теперь? Где ты и где я?
Признание в прошлой любви слегка охладило мой пыл. Я все же не привык колотить девушек, когда-то влюбленных в меня, даже если они полные идиотки.
– Остается поздравить тебя, Санька, что ты все же не вышла за меня замуж. С поварами оно – надежнее.
– Я и сама каждый день благодарю Бога, – пискнула она, уже выглядывая из окошка автомобиля. – И тем не менее… Я жду тебя у себя в гостях. Скоро международный кулинарный симпозиум в Париже. Я туда вряд ли поеду.
И она мне сальненько подмигнула на прощание.
– Я жду.
Лучше повеситься, подумал я. Мне почему-то захотелось принять поскорее прохладный душ. На сей раз я с неописуемым счастьем закрылся у себя в четырех стенах, насквозь пропитанных жаренной яичницей, аромат которой казался самым родным и приятным. Прогорклый, бедный, ненавязчивый и скромный запах моего дома.
С Майей мы договорились о трех занятиях в неделю. Все остальные дни были в моем полном распоряжении. Но, если честно, я понятия не имел как распорядиться вдруг свалившимся на мою голову свободным временем, да еще хорошо оплачиваемым. Спешить с поисками работы было необязательно, поскольку денег, которые мне щедрое семейство Ледогоровых намеревалось платить за учительство, я бы не заработал ни в каком дешевом клубе или ресторане. И поскольку ни на какой другой серьезной и по душе работы на сегодняшний день мне не светило, я решил попусту не транжирить время на поиски жалкой подработки в этих омерзительных заведениях. Кроме неприязни, озлобленности и ощущения никчемности всей жизни я в этих местах ничего не находил.
В конце концов я пришел к мудрому заключению, что Бог мне послал время для сочинительства. И пускай сегодня оно никому не нужно, пускай исписанные нотные листы надолго поселятся в моей комнате, пускай моя музыка пока никем не будет услышана кроме моих друзей, я не имел права сидеть сложа руки, предаваясь депрессии. Я не имел права не сочинять свою музыку, потому что прекрасно знал, что кроме семейки новоиспеченных буржуа, кроме врача, торгующего человеческими жизнями, кроме тупоголовой миллионерши-поварихи, плюющих на серьезную музыку, есть еще очень много других людей. Которые обязательно дождутся своего часа. Как дождется его и моя музыка. И тогда они обязательно встретятся. И услышат друг друга. Только ради этого стоило жить и сочинять. И Бог дал мне такой шанс.
Я уже давно не садился за инструмент. Кисти моих рук ослабли, пальцы задеревенели, кровь в капиллярах застоялась. Это проявилось совсем недавно, за роялем Ледогоровых, когда я фальшивым аккордом оскорбил Черни. Но дело было даже не в технике. У меня хватит сил заставить руки снова быть послушными и легко скользить по клавишам, заставить кисти плавно опускаться на клавиши и резко отрываться от инструмента. Я мог вновь заставить пальцы рук физически чувствовать музыку. Я давно понял, что для сочинения музыки способность ее физически ощущать не менее важно. И все же на сегодняшний день я чувствовал, что проблема в другом. Проблема – в моих мыслях, моих чувствах, во всем том, что зовется душой. И я вспомнил отчаянные слова своего товарища Петьки о том, что он уже не может писать стихи, что у него силы остались только на истошный крик. И лишь теперь, в эту минуту я по-настоящему ощутил его боль, его потерянность, его беспомощность перед чистым листом бумаги. И с этим мне предстояло совсем скоро сразиться. И во что бы то ни стало выиграть. Чтобы моя музыка не превратилась лишь в истеричный, истошный, звериный рев. Который способен вызвать либо страх, либо непонимание. Нужно чтобы моя музыка тихо кричала. Голосом всех униженных моих соотечественников, раздавленных сегодняшним днем. И тогда, возможно, моя музыка будет по-настоящему услышана. И нужно собрать в кулак не только всю свою волю. Но – главное – разобраться в клубке путанных мыслей, отыскав начало основной нити. Или хотя бы ее конец. Потому что с конца тоже можно начинать. И иногда это даже правильнее…
Уже вечерело. И я понимал, что сегодня у меня вряд ли хватит сил сесть за рояль. Побывав в уютном, дорогом, утопающем в пышном саду доме Ледогоровых, побеседовав с пустой аптекаршей и ничтожной Санькой, я был просто опустошен. Словно бессмысленность и никчемность их существования, их животная тяга к деньгам передались и мне. А бессмысленность существования и материальный мир были главными врагами музыки. Она нуждалась в людях настоящих, людях с большой буквы, с распахнутыми душами и открытыми сердцами. В людях, умеющих сострадать и плакать.
И я сразу же подумал о Юрьеве. Геннадий Юрьевич жил в моем подъезде, на последнем, пятом этаже. Но сказать, что он был просто моим соседом, значит не сказать ничего. Юрьев был гордостью не только нашего дома, а всего нашего большого микрорайона. А еще точнее – гордостью нашей огромной страны. Потому что благодаря именно таким людям на планете еще не засохли сады, превратившись в пепел и перегной. Благодаря именно таким людям небеса еще не затянулись гарью и порохом. Благодаря именно таким людям навечно еще не наступило солнечное затмение во всем мире, и в человеке не умерла душа. Потому что Земле нужны именно такие люди. Именно на них и держится наша планета. Но, к сожалению, зачастую не удерживает на себе подолгу.
Юрьев был не только настоящей звездой советского кинематографа, но еще и Человеком с большой буквы. Он никогда, даже в самые трудные периоды жизни, не прятался за чужие спины. Напротив. Никогда не думая о своей жизни, он смело спасал жизни других. Уже известным киноартистом, плюнув на всякие брони, ушел на фронт, был четырежды ранен и прошел всю войну до победного конца. Вслед за ним всегда неслась пуля, но так и не догнала его. И до, и после он никогда не прибегал к помощи каскадеров. И, как на войне, проживал на экране сотни чужих жизней, как свою собственную. По-настоящему проживал. Падая с лошади, тонув в болоте или прыгая с парашютом. Он ничего не делал понарошку. Он всегда жил настоящей жизнью и ничего не боялся. Как настоящий русский мужик, которых в нашей стране когда-то было большинство. Красивые, плечистые, высокие, увешенные орденами. Юрьев был один из миллионов. И он один воплощал в себе идеал миллионов… И у каждого времени – свое лицо. У нашего времени было лицо открытое, мужественное, благородное. Лицо великого актера Юрьева…
И сейчас я стремглав бросился вверх по лестнице, к своему соседу, большому артисту и великому человек. Геннадию Юрьеву. Слава Богу, что нам есть еще куда пойти. Значит мы еще живы.
Он сразу же открыл дверь. Такой же красивый, высокий, скуластый, широкоплечий, как в старых своих лентах. Только совсем-совсем седой. И, как всегда, сказал мне с порога.
– Зачем звонишь? Дверь открыта.
И я как всегда ответил.
– Не те времена, Геннадий Юрьевич, чтобы держать дверь открытой.
И он в который раз махнул рукой.
– Меня эти времена не касаются, я их не принял. Значит они вне меня. И я волен поступать по своим законам. К тому же вряд ли кто позарится на мое «богатство».
Вот это уже было правдой. Богатством здесь и не пахло. Однокомнатная, запущенная квартира старого холостяка. Фактически никакой мебели. Разве что старая кровать и маленький шкафчик. А на малюсенькой кухоньке – пошарпанный кривоногий столик возле плиты. И много-много пустых бутылок. И мне в который раз захотелось затопать ногами и заорать на весь мир: «Какого черта! Кто посмел так поступить с большим артистом, которого обожал весь народ! Заметьте, народ, а не ваши убогие, бездарные и лживые тусовки. И какое право вы имеете так издеваться над талантом! И какая бы, по-вашему, „цивилизованная“ страна себе такое позволила!..» И в который раз я кричал беззвучно, стиснув кулаки…
Юрьев переехал в наш дом не очень давно, около двух лет назад. От безысходности, от безработицы, от невостребованности. из-за нищеты он продал свою огромную квартиру в центре столицы, обменяв ее на однокомнатную хрущевку. Он продал квартиру, которую ему подарило государство в знак величайшего уважения и признания.
В нашем дворе он быстро нашел общий язык со всеми, хотя и в нашем доме, и во всех остальных домах округи жили самые обычные люди. Но Геннадий Юрьевич был из того поколения, которое ни в грош не ставило чванство и высокомерие, справедливо полагая, что это – удел бездарных и никчемных людишек. Юрьев был высок во всем. И звания народного артиста ни разу не замарал. Что, собственно, ему и не простили. Отомстив за это жестоко и беспощадно, попытавшись растоптать и унизить. Но таких людей унизить нельзя. Юрьев просто не обращал внимания на быт. И в который раз говорил со свойственной русской душе простотой:
– А, черт с ними! Я даже рад. Именно знаешь, здесь живут настоящие люди. А мой бывший дом сейчас переполнен либо всякой швалью, либо какими-то неживыми, кукольными персонажами. Такой ощущение, что их все время дергают за ниточки. Ты бы видел, как они выходят из своих лимузинов! Как тут же хватаются за «сотовый», хотя до квартиры два шага. Как небрежно кивают шоферу. Знаешь, не столько противно, сколько смешно. Чем человек ничтожнее, тем отчаяннее он пытается спрятаться за внешними проявлениями.
Однако я находил мало смешного, когда смотрел на его красивое лицо, исполосованное морщинами, на его густые, уже покрытые сединой пряди волос, на его светлые глаза, в которых застыла глубокая печаль. И, конечно, на пустые бутылки, в которых он эту печаль пытался утопить. И от этого ему становилось не легче. И кто бы посмел его упрекнуть?
– Да, Геннадий Юрьевич, – только и оставалось мне отвечать. – Вы правы хотя бы в том, что здесь безопаснее. А там, в этих крутых домах, они наверняка скоро перестреляют друг друга. И «сотовый» им не понадобится, поскольку с Богом принято разговаривать с глазу на глаз.
Он горько усмехался в ответ.
– Знаешь, Кирилл, войну мы выиграли не потому, что фашисты постреляли друг друга. Хотя всякое бывало. Войну мы выиграли потому, что с ними сражались. И в лицо знали своего врага. Здесь же… У врага нет лица. Он безлик, неуловим. А невидимку победить трудно… Невидимые враги, невидимые жертвы, невидимые герои…
Сегодня, глядя в грустные светлые глаза Юрьева, мне вновь захотелось сказать ему что-нибудь в утешение. Хотя он, старый солдат в утешении не нуждался.
– Ну что, Кирилл? – сказал он сам. – Пойдем, выпьем по рюмочке. Сегодня есть повод.
И я с тоской подумал, что у Юрьева этих поводов с каждым днем становилось все больше и больше. Когда невидимые враги с готовностью подсовывают эти «поводы», являющиеся лишь изощренными способами убийства.
Он прошел широкими, тяжелыми шагами на кухню. Чуть сгорбленный и совсем седой человек. И я подумал, как быстро в нем убывают силы. Он вынул из шкафчика бутылку хорошей водки. И с шумом и злостью поставил ее на стол.
– Я же знаю, о чем ты подумал, Кирилл. Но повод действительно есть. К сожалению. Сегодня умер мой очень хороший товарищ и очень хороший человек. Он был гораздо моложе меня и войну не помнил. Но получается – умер на той войне.
Юрьев тяжело оперся локтями о стол и посмотрел за окно, в ночь. Уже прохладная, кое-где затянутая плывущими облаками, пытающими проглотить редкие звезды, которые никак не хотели исчезать и вновь упрямо появлялись, так же ярко, вызывающе сверкая на черном небосклоне.
Я откупорил бутылку и разлил водку по рюмкам. Мне не хотелось расспрашивать про его погибшего товарища. Я чувствовал, что он должен рассказать все сам.
– Ну что, Кирюша, выпьем стоя. За моего товарищ, за моего друга, коллегу… А… – он махнул рукой. – Слова здесь излишни. В общем, за Ваньку Кораблева.
Мы выпили. Фамилия его друга мне показалась до боли знакомой, но я все не решался уточнить. Иван Кораблев… Черт, ну конечно! Какой же я дурак! Это же герой знаменитого кинофильма, некогда покорившего весь мир. Неужели Юрьев пьет за погибший киношный образ? На моем лице появилось нескрываемое изумление. И Юрьев понял.
– Нет, Кирилл, я поминаю настоящего человека. И настоящего артиста – Васю Соколова. И первый тост я умышленно произнес за персонаж. Именно потому, что считаю – мой друг умер не просто от болезни сердца, а именно погиб. Погиб, Кирилл, понимаешь? Как на войне погиб его киногерой, которого даже увековечили, поставив ему памятник. И на памятник которого не раз покушались. Васька Соколов погиб, как настоящий солдат. Ведь сердце, Кирюша, сам понимаешь – такая штука… Просто так оно не останавливается. Либо изнашивается от старости, либо в него стреляют. И не обязательно пулями. Другого тут не дано…
Глаза Юрьева налились слезами. И он не стал прятать их, а просто грубовато, по-мужски смахнул рукавом. Настоящие мужчины слез своих не стыдятся.
Мы налили еще. И я решился спросить, что же случилось с одним из любимых моих актеров, на фильмы которого мы, мальчишки, бегали по десять раз. И тоже плакали, скрывая в темноте кинозала свои слезы, над его героями-солдатами. Вместе со всей страной.
– Так вы сказали сердце, Геннадий Юрьевич… Как все случилось?
– Как, говоришь? – глаза Юрьева сузились. – Как… Конечно же не по пьяни. И, конечно же, не от счастья по поводу вручения очередной премии. Все гораздо страшнее… Его попросту вышвырнули из театра! Понимаешь! Актера, которым гордилась вся страна и которой он отдал всю свою жизнь!.. Кучка негодяев оставила его без работы. И даже «спасибо» не сказала. Хотя плевал он на их «спасибо». Знаешь, благодарность от подлецов – плевок в душу. Они ему в душу плюнуть не посмели, а просто отвели глаза. Потому что до сих пор боялись! До сих пор завидовали и ненавидели!..
– И его сердце не выдержало, – тут не выдержал я и разлил еще.
– Да нет, Кира, Васька и тогда выдержал. И тогда его сердце еще билось. Еще боролось! Хотя, наверное, уже стало уставать. Он умер сегодня… На стройке… Простым рабочим.
– На стройке?!
– Именно… Оставшись без работы, он не стал искать утешения в вине. В отличие от меня…
– Ну, что вы… Что вы говорите, – мне стало неловко.
– Я знаю. Он не стал искать утешения в вине, а пошел работать. У него ведь к тому же – семья. И не раз мне говорил, что не жалеет об этом. Нисколечко! Среди рабочих людей он чувствовал себя гораздо чище и естественнее… А сегодня взял и умер… Вот так, браток… Вот так мы сегодня уходим. Ладно бы Васька погиб на какой-нибудь большой и нужной стране стройке. А то ведь строили они какой-то мерзейший супермаркет… Хотя разве сегодня стране нужны такие великие стройки?.. Вот так они его и уничтожили. И даже слово не сказали о его смерти.
– Да, сегодня противостоять злу хотя бы тем, что не принимать его и не быть с ним – уже поступок. И как больно, что продается большинство тех великих, в которых мы когда-то так верили. И которых носили на руках.
– А ты думаешь они свое не получают? Каждодневно и ежечасно. Снимаясь в убогих рекламах или играя в задрипанных киношках? Думаешь, они не понимают, что о них, которых, как ты говоришь, когда-то носили на руках, теперь вытирают ноги? Пойми меня, Кира, продажа души никогда не проходит бесследно. Заканчиваясь в лучшем случае бесславием. Не только бесславием в искусстве. Но и бесславной, никчемной, раздавленной в итоге жизнью… Знаешь, коль мы вспомнили Ваську… Я бы тоже пошел работать. Но куда? Что строить? И ради кого? Да и долго бы на работе не протянул. А вино меня убивает медленно. Хоть и верно… Счастливы мои товарищи, погибшие на войне. Они этого не видят. И по-прежнему , получается, что они погибли за светлое будущее.
– А вот здесь вы ошибаетесь, Геннадий Юрьевич! Они видят это, – тихо сказал я и посмотрел за окно, на ночное небо. Облака растворились в нем, как в чернилах, и теперь ничто не мешало звездам ярко светить. – Они видят это… И их души неспокойны…
– Ладно… Сегодня к ним в строй встала еще одна мечущаяся, неспокойная душа, – так же тихо добавил Юрьев. И тоже посмотрел за окно.
И нам показалось, что там появилась новая маленькая звездочка, неспокойно и тревожно мигающая во тьме.
Время до моих занятий пролетело незаметно, поскольку я вновь сел за свой старенький рояль и принялся за работу. После печальной встречи с Юрьевым я уже отчетливо понимал, какой должна быть моя музыка. Гимн добру и торжеству света может рождаться из скорби и боли. И чем они глубже, тем добрее и светлее должна звучать музыка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































