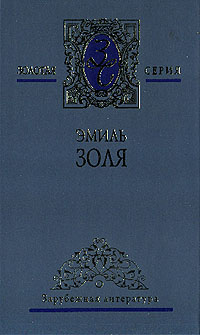Читать книгу "Добыча"
Эмиль Золя
ДОБЫЧА
I
На обратном пути ехали шагом: коляску задерживало скопление экипажей, возвращавшихся домой вдоль берега озера; наконец она попала в такой затор, что пришлось даже остановиться.
Солнце заходило в светло-сером октябрьском небе, прочерченном на горизонте узкими облаками. Последний луч пробрался сквозь дальние массивы у каскада и скользил по мостовой, обливая красноватым светом длинную вереницу остановившихся экипажей. Золотые молнии сверкали на спицах колес, горели на желтой кайме коляски, а в темносиней лакированной обшивке отражались клочки пейзажа. Закатный свет, падая сзади, играл на медных пуговицах сложенных вдвое, свисавших с козел шинелей кучера и выездного лакея, придавал яркие тона их синим ливреям, рыжим рейтузам и жилетам в черную и желтую полоску; как подобает слугам из хорошего дома, оба держались прямо, важно и терпеливо, невозмутимо взирали на сутолоку скопившихся экипажей. Даже их шляпы, украшенные черной кокардой, были преисполнены достоинства. Только лошади – пара великолепных гнедых – нетерпеливо фыркали.
– Ага! Лаура д'Ориньи, – воскликнул Максим. – Вон там, в карете!.. Да посмотри же, Рене.
Рене чуть приподнялась и с пленительной гримаской прищурила близорукие глаза.
– Я думала, она сбежала, – проговорила Рене. – Послушай, она, кажется, перекрасила волосы?
– Да, – ответил, смеясь, Максим, – ее новый любовник терпеть не может рыжих.
Наклонясь вперед, Рене оперлась рукой на низкую дверцу экипажа и смотрела вдаль; она очнулась от грустных мыслей, в которые была погружена целый час, полулежа в коляске, точно выздоравливающая на кушетке. На Рене было сиреневое шелковое платье с подбором и тюником, отделанное широкими плиссированными воланами, и короткое суконное пальто, белое, с сиреневыми бархатными отворотами; маленькая шляпка с букетиком бенгальских роз едва прикрывала ее странные рыжеватые волосы, цвета сливочного масла; вид у нее в этом наряде был вызывающий. Она продолжала щурить глаза и с присущим ей мальчишеским задором оттопырила приподнятую верхнюю губу, точно капризный ребенок, а ее чистый лоб прорезала глубокая морщина. У нее было плохое зрение; она взяла лорнет, настоящий мужской лорнет в черепаховой оправе, и, едва приблизив его к глазам, стала спокойно, без всякого стеснения разглядывать толстую Лауру д'Ориньи.
Экипажи все еще стояли на месте. Среди темных пятен длинного ряда карет, которых в этот осенний день было много в Булонском лесу, кое-где вдруг поблескивало стекло, уздечка, серебристая рукоятка фонаря, позумент на ливрее высоко восседавшего лакея. То тут, то там в открытом ландо ярким бликом вспыхивала бархатная или шелковая ткань женского туалета. Шум улегся, его сменила полная тишина. Сидевшие в экипажах слышали разговоры пешеходов; некоторые молча обменивались взглядами, и никто больше не говорил; тишину ожидания нарушало лишь поскрипывание сбруи или нетерпеливый стук копыт. Вдали замирали неясные голоса Булонского леса.
Несмотря на позднюю осень, здесь был весь Париж: герцогиня де Стерних – в восьмирессорном экипаже; г-жа де Лоуренс – в виктории с безукоризненной упряжью; баронесса де Мейнгольд – в очаровательном светлокоричневом кэбе; графиня Ванская – на буланых пони; г-жа Даст – на своих знаменитых вороных, г-жа де Ганд и г-жа Тессьер – в карете, хорошенькая Сильвия – в темносинем ландо. И еще дон Карлос в неизменном торжественном траурном одеянии, Селим-паша в феске и без наставника, герцогиня де Розан – в двухместной карете, с пудреными лакеями; граф де Шибре – в догкарте, г-н Симпсон – в изящнейшей плетеной коляске, вся американская колония и, наконец, два академика в наемных фиакрах.
Передние экипажи двинулись, за ними медленно тронулись остальные, словно их разбудили от сна. Заплясали тысячи огней, быстрые молнии скрещивались в колесах; заискрилась встряхнувшаяся сбруя; по земле, по деревьям побежали отражения стекол. Сверкание сбруи и колес, лакированной обшивки карет, отражавшей зарево заката, яркие тона ливрей на лакеях, чьи фигуры вырисовывались на фоне неба, и богатых туалетов, в изобилии наполнявших экипажи, – все это уносилось в мерном движении с глухим, неумолчным рокотом. И вся вереница с одинаковым шумом и с одинаковыми отблесками катилась непрерывно, как будто первые экипажи тянули за собой остальные.
Рене, слегка качнувшись от толчка, когда тронулась коляска, выпустила из рук лорнет и откинулась на подушки. Она зябко натянула на колени шелковисто белоснежную медвежью полость, заполнявшую коляску. Ее руки в перчатках утопали в длинной волнистой шерсти. Подул ветер. Теплый октябрьский день, по-весеннему разукрасивший Булонский лес и позволивший всем этим светским дамам выехать в открытых экипажах, грозил закончиться к вечеру резким холодом. На миг молодая женщина, забившись в свой теплый уголок, отдалась полному неги укачиванию колес, катившихся перед нею. Потом, повернув голову к Максиму, спокойно раздевавшем взглядом женщин в соседних каретах и ландо, она спросила:
– Неужели ты действительно находишь, что эта Лаура д'Ориньи очень уж хороша? Вы так ее расхваливали в день распродажи ее бриллиантов!.. Кстати, ты еще не видел, какое ожерелье и эгрет твой отец купил для меня на этой распродаже?
Рене слегка повела плечами.
– Слов нет, папаша ловко устраивает свои дела, – не отвечая, проговорил Максим и криво усмехнулся. – Ухитряется заплатить долги Лауры и заодно преподнести бриллианты жене.
– Негодный мальчишка! – пробормотала Рене с улыбкой.
Максим наклонился, его внимание привлекла дама в зеленом.
Рене откинула голову и, полузакрыв глаза, лениво смотрела по сторонам невидящими глазами. Справа медленно проплывали кустарники, низенькие деревья с пожелтевшими листьями на редких ветвях; иногда по дорожке, предназначенной для верховой езды, проезжали всадники с тонкой талией; изпод копыт лошадей, проносившихся галопом, вились клубы мелкой пыли; слева, в конце сбегающих вниз узких лужаек, пересеченных клумбами и массивами деревьев, дремало озеро кристальной чистоты, без малейших признаков пены; казалось, его берега аккуратно срезаны лопатой садовника; по другую сторону этого зеркала, на обоих островах, соединенных серой полосой моста, возвышались причудливые скалы, а на бледном небе, точно театральная декорация, вырисовывались сосны, и их темная хвоя, отражавшаяся в воде, казалась бахромой искусно задрапированного на краю горизонта занавеса. Этот уголок природы, похожий на свеженаписанную декорацию, тонул в легкой дымке, в синеватой мгле, придававшей исчезающим далям особое очарование искусственности. На противоположном берегу беседка, будто заново покрытая лаком, сияла как новенькая игрушка; а полоски желтого песка, узкие садовые аллейки, вьющиеся среди лужаек вокруг озера и окаймленные чугунной решеткой, изображавшей деревенскую изгородь, своеобразно выделялись в этот поздний час на фоне воды и газона мягкого зеленого цвета.
Привыкшая к затейливой прелести пейзажа, Рене вновь устало опустила веки и разглядывала свои пальцы, навивая на них длинную шерсть медвежьей шкуры. Вдруг равномерное движение экипажей нарушилось. Подняв голову, Рене поклонилась двум молодым женщинам; с влюбленной томностью они сидели рядом, откинувшись на спинку восьмирессорного экипажа, который с шумом отъехал от берега и свернул в боковую аллею. Маркиза д'Эспане, муж которой, адъютант императора, демонстративно примкнул к новой власти, вызвав этим величайшее негодование брюзжащей старой знати, слыла одной из самых блестящих светских женщин времен Второй империи; ее подруга, г-жа Гафнер, была замужем за известным кольмарским фабрикантом, архимиллионером, которого империя выдвинула в ряды политических деятелей. Рене, еще в пансионе знавшая двух «неразлучных», как их называли с тонкой иронией, звала подруг уменьшительными именами – Аделина и Сюзанна. Улыбнувшись им, она хотела снова забиться в свой уголок, но смех Максима заставил ее обернуться.
– Нет, не смейся, право, мне грустно, это совершенно серьезно, – проговорила она, видя, что молодой человек насмешливо смотрит на нее, издеваясь над ее поникшим видом.
– Мы, кажется, очень огорчены, мы, кажется, ревнуем! – проговорил Максим странным тоном.
Она удивилась.
– Я? Зачем мне ревновать?
Потом добавила с презрительной гримасой, как бы припоминая:
– Ах да, толстая Лаура? Что ты, я и не думаю о ней. Если Аристид, как вы все стараетесь мне внушить, заплатил долги этой девицы и тем избавил ее от заграничного путешествия, то это лишь доказывает, что он любит деньги меньше, нежели я предполагала. Это вернет ему благосклонность наших дам… Я даю полную свободу милейшему супругу.
Рене улыбалась. Слова «милейшему супругу» она произнесла тоном дружеского равнодушия. И вдруг, снова опечалившись, бросив вокруг безнадежный взгляд женщины, не знающей, чем ей развлечься, прошептала:
– О, я бы очень хотела… Но… нет, я не ревную, я вовсе не ревную.
Она нерешительно умолкла.
– Мне скучно, понимаешь? – сказала она вдруг резким тоном и опять замолчала, сжав губы.
Экипажи все так же, с шумом отдаленного водопада, катились вереницей по берегу озера. Теперь слева, в промежутке между озером и шоссе, поднимались рощицы с зелеными деревьями, стройными и прямыми, точно какие-то необычайные группы колонок. Направо молодая поросль и низкорослый лесок окончились; открылись широкие лужайки Булонского леса, беспредельные ковры зелени с разбросанными то тут, то там купами деревьев; эти зеленые, чуть холмистые просторы тянулись до ворот Мюэтты, – издали видна была их низенькая чугунная решетка, точно черное кружево, протянутое над самой землей, а в ложбинах трава отливала синевой. Рене пристально вглядывалась вдаль; казалось, расширившийся горизонт, росистые в вечернем воздухе луга вызывали в ней более острое ощущение собственной пустоты.
Помолчав, она повторила с глухим гневом:
– Ох, как мне скучно, я умираю от тоски.
– Знаешь, с тобой не очень-то весело, – спокойно проговорил Максим. – У тебя разошлись нервы.
Рене снова откинулась в коляске.
– Да, разошлись нервы, – сухо ответила она. Потом заговорила наставительным тоном: – Видишь ли, дитя мое, я старею, мне скоро тридцать. Это ужасно. Ничто меня не радует… В двадцать лет тебе не понять…
– Уж не для того ли ты взяла меня с собой, чтобы исповедаться? – перебил Максим. – Боюсь, что это будет чертовски длинная история.
Она отнеслась к этой дерзости, как к выходке избалованного ребенка, которому все дозволено, и усмехнулась.
– Что и говорить, тебе есть на что жаловаться, – продолжал Максим. – Ты тратишь больше ста тысяч франков в год на наряды, живешь в роскошном особняке, у тебя превосходные лошади, твои желания для всех закон, о каждом твоем новом платье газеты говорят, как о выдающемся событии; женщины тебе завидуют, мужчины готовы отдать десять лет жизни, чтобы только поцеловать кончики твоих пальцев… Разве не правда?
Рене, не отвечая, кивнула голевой, Она опустила глаза и снова стала навивать на пальцы медвежью шерсть.
– Полно, не скромничай, – продолжал Максим, – сознайся откровенно, что ты один из столпов Второй империи. С глазу на глаз мы ведь можем, не стесняясь, говорить об этом. Всюду – в Тюильри, у министров, в салонах миллионеров, в низах и в верхах – ты царишь безраздельно. Нет такого удовольствия, которого бы ты не изведала, и если бы я осмелился, если бы не обязан был к тебе относиться с почтением, я сказал бы… – на мгновение он остановился, потом засмеялся, и храбро закончил: – Я сказал бы, что ты вкусила от всех плодов.
Она и глазом не моргнула.
– И ты скучаешь! – продолжал юноша с комическим оживлением. – Но ведь это безумие… Чего же тебе нужно? О чем ты мечтаешь?
Рене недоумевающе пожала плечами, – она и сама не знала, чего ей хочется. Хотя она наклонила голову, Максим увидел на ее лице такое серьезное, такое мрачное выражение, что замолчал. Он глядел на вереницу экипажей; достигнув озера, она растекалась, заполнив широкий перекресток. Экипажи, вырвавшись из тесноты, делали изящный поворот; лошади бежали быстрей, стук копыт звонче отдавался на твердой земле. Коляска описала большой круг и снова двинулась с приятным покачиванием за остальными экипажами. Тогда у Максима явилось злое желание подразнить Рене:
– Ты, право, заслужила, чтобы тебя посадили в фиакр. Вот было бы здорово!.. Посмотри-ка на всех этих людей, возвращающихся в Париж, – все они у твоих ног. Тебя приветствуют, точно королеву, а твой друг господин де Мюсси чуть ли не посылает тебе поцелуи.
Действительно, один из всадников поклонился Рене. Максим говорил притворно-насмешливым тоном. Но Рене едва обернулась, пожала плечами. Молодой человек безнадежно махнул рукой.
– Неужели до этого дошло?.. Бог мой, ведь у тебя все есть. Чего тебе еще надо?
Рене подняла голову. Глаза ее горели неутоленным, пытливым желанием.
– Я хочу чего-то другого, – ответила она вполголоса.
– Но раз у тебя все есть, – возразил, смеясь, Максим, – значит, другое – это ничто… Чего же другого?..
– Чего?.. – повторила Рене и умолкла.
Повернувшись, она глядела на странную картину, постепенно таявшую за ее спиной. Уже почти стемнело; медленно спускались пепельно-серые сумерки. В бледном свете, еще не угасшем над водой, озеро казалось издали огромным оловянным блюдом; зеленые деревья с тонкими прямыми стволами как будто вырастали из уснувшей водной глади и, словно лиловатые колоннады, обрисовывали своими правильными архитектурными формами причудливые изгибы берегов; а в глубине поднимались лесные массивы, неясные очертания чащи, черные пятна, закрывавшие горизонт. Позади этих пятен пламенело угасавшее зарево заката, охватывая только краешек необъятного серого пространства. Глубже и шире казался беспредельный небесный свод, раскинувшийся над неподвижным озером, над низкими перелесками, над своеобразным, плоским ландшафтом. И от широкого неба, простершегося над этим уголком, веяло трепетом и какой-то неопределенной печалью: с бледных высот нисходило столько осенней грусти, спускалась такая тихая, скорбная ночь, что Булонский лес, закутанный сумерками в темный саван, утратил весь свой светский вид и словно вырос, полный могучего очарования. Шум экипажей, яркие краски которых померкли в темноте, казался отдаленным шелестом листьев, рокотом ручьев. Все замирало. В смутных сумерках посреди озера четко вырисовывался парус большого катера для прогулок, освещенный последними отблесками заката, и ничего, кроме этого паруса, треугольника из желтой парусины, непомерно раздавшегося вширь, не было видно.
Рене не узнавала пейзажа; трепетная ночь превратила эту искусственную, светскую природу в священный лес с таинственными прогалинами, где древние боги скрывали свою исполинскую любовь, свои прелюбодеяния, свои олимпийские кровосмешения; и у пресыщенной Рене все это вызывало необычное ощущение, постыдные желания. По мере того как удалялась от леса коляска, ей казалось, что сумерки в своих серых зыбких покровах уносят землю, позорный, нечеловеческий альков, являвшийся ей в грезах, где она, наконец, утолит жажду своей больной души, своей усталой плоти. Когда озеро и рощицы слились с темнотой, выделяясь на горизонте лишь черной полоской, Рене вдруг обернулась и голосом, в котором слышались слезы досады, договорила прерванную фразу:
– Чего?.. Другого, черт возьми! Я хочу другого… Почем я знаю, чего!.. рели б я знала… Только, знаешь ли, хватит с меня балов, ужинов, кутежей. Всегда одно и то же. Это смертельно скучно… Мужчины надоели, да, да, надоели…
Максим засмеялся. В аристократических чертах светской дамы промелькнула страсть. Она больше не щурилась; морщина на лбу стала глубже и резче; горячие губы капризного ребенка как бы тянулись навстречу наслаждениям – которых она жаждала и не могла назвать. Рене видела, что спутник ее смеется, но была слишком возбуждена, чтобы остановиться; полулежа, отдаваясь мерному укачиванию коляски, она продолжала отрывисто и сухо:
– Конечно, вы, мужчины, несносны… Я говорю не о тебе, Максим, ты слишком молод… Но как невыносим был вначале Аристид, я и сказать не могу! А другие! Те, кто любил меня… Ты ведь знаешь, мы с тобой приятели, я тебя не стесняюсь, ну, вот: бывают дни, когда я так устаю от жизни богатой женщины, любимой, окруженной поклонением, что, право, хотела бы стать какой-нибудь Лаурой д'Ориньи, одной из тех дам, которые живут по-холостяцки.
Видя, что Максим смеется громче прежнего, Рене упрямо повторила:
– Да, Лаурой д'Ориньи. Это, должно быть, не так пресно, не так однообразно.
На мгновение она умолкла, как бы представляя себе жизнь, которую вела бы на месте Лауры.
– Впрочем, – продолжала она, – у этих дам, должно быть, свои заботы. Да, в жизни положительно мало забавного. Смертельная тоска… Я уже сказала, нужно что-то другое, понимаешь? Я не могу придумать, но такое, что ни с кем не случалось, что бывает не каждый день, какое-нибудь неизведанное, редкостное наслаждение…
Последние слова она проговорила медленно, с расстановкой, в глубоком раздумье. Коляска катилась теперь по аллее, которая ведет к выходу из Булонского леса. Еще больше стемнело; перелески вставали по сторонам, точно сероватые стены; чугунные стулья, выкрашенные желтой краской, на которых в погожие вечера восседают разодетые буржуа, стояли вдоль тротуаров, пустые, унылые, наводя тоску, какую всегда навевает садовая мебель зимой; а мерный и глухой стук колес возвращавшихся домой экипажей отдавался в пустынной аллее печальной жалобой.
Очевидно, находить жизнь забавной Максим считал признаком дурного тона. Правда, он был достаточно молод, чтобы с юношеским пылом отдаваться порой восхищению, но вместе с тем в нем было столько эгоизма, столько иронического безразличия, его одолевала такая усталость от жизни, что он не мог скрыть отвращения, пресыщенности и считал себя конченным человеком. Обычно он даже с известного рода гордостью признавался в этом.
Он развалился в коляске, как Рене, и томно произнес:
– А ты, пожалуй, права! Скука смертельная. Я не больше твоего развлекаюсь и тоже часто мечтал о другом… Что может быть глупее путешествий! Зарабатывать деньги? Я предпочитаю их тратить, хотя это тоже не так забавно, как думаешь вначале. Любить, быть любимым – скоро надоест, не правда ли? О да, все это быстро приедается!
Рене не отвечала. Он продолжал, желая поразить ее величайшим неверием:
– Я хотел бы, чтобы меня полюбила монахиня. Забавно было бы, а? Скажи, ты никогда не мечтала полюбить человека, одна мысль о котором была бы греховной?
Но Рене оставалась мрачной, и Максим, видя, что она попрежнему молчит, решил, что она его не слушает. Откинув голову на мягкую спинку коляски, она, казалось, спала с открытыми глазами, безвольно отдаваясь неотвязной мечте; по временам ее губы нервно подергивались. Мягкий сумрак, таивший в себе печаль, несказанную негу, сокровенные надежды, проникал ее насквозь, окутывал какой-то болезненно-истомной атмосферой. Устремив пристальный взгляд на круглую спину лакея, сидевшего на козлах, она, вероятно, думала о минувших радостях, о прошлом веселье, которого больше не хотела; перед ней проходила ее прошлая жизнь, немедленное исполнение всех ее желаний, отвращение к роскоши, подавляющее однообразие одних и тех же привязанностей, одних и тех же измен. И вдруг смутное желание пробуждало надежду на то, «другое», чего не могла подсказать ей напряженная мысль. Здесь ее грезы начинали расплываться. Она делала усилие, но нужное слово ускользало в надвигавшейся темноте, терялось в неумолчном грохоте колес. Мягкое укачивание коляски усиливало нерешительность, мешавшую ей точно выразить свое желание. Огромное искушение исходило от расплывчатых очертаний рощиц, дремавших по краям дороги, от стука колес, от упругих колыханий коляски; и Рене охватывало сладкое оцепенение, тысячи легких веяний пробегали по ее телу: прерванные грезы, запретные наслаждения, смутные желания – все то изысканное и чудовищное, что пробуждается в усталом сердце женщины, возвращающейся из Булонского леса в сумеречный час, когда бледнеет небо. Рене зарылась обеими руками в медвежью шкуру; ей было жарко в белом суконном пальто с сиреневыми бархатными отворотами. Она вытянула ногу, чтобы расположиться поудобнее, и нечаянно слегка коснулась лодыжкой ноги Максима, который даже не заметил этого. Рене вздрогнула, очнувшись от оцепенения. Она подняла голову, ее серые глаза остановились на изящно раскинувшейся фигуре Максима, и она посмотрела на него каким-то странным взглядом.
Коляска выехала из Булонского леса. Прямая аллея проспекта Императрицы тянулась в сумерках, по обе стороны ее окаймляли зеленые деревянные ограды, сходившиеся на горизонте. На боковой дорожке для верховой езды, вдали, в сером сумраке выделялась светлым пятном белая лошадь. По другую сторону, вдоль шоссе, запоздалые пешеходы, точно группы черных точек, медленно двигались к Парижу. А вверху, в конце шумливой, терявшейся в темноте вереницы экипажей, на фоне широкой черной полосы неба светлела Триумфальная арка, стоявшая наискось.
Коляска покатилась быстрее; Максим, очарованный необычным пейзажем, залюбовался затейливой архитектурой особняков и лужайками, спускавшимися до боковых аллей по обе стороны проспекта.
Рене мечтательно наблюдала, как зажигались на горизонте один за другим газовые рожки на площади Этуаль. По мере того как яркие светящиеся точки пронизывали сумрак, ей слышались звавшие ее тайные голоса; и Париж, сверкавший огнями осенней ночи, казалось, сиял только для нее, готовя неведомые наслаждения, о каких она мечтала в своем пресыщении.
Коляска выехала на проспект королевы Гортензии и остановилась на улице Монсо, в двух шагах от бульвара Мальзерб, перед большим особняком с садом позади двора. С каждой стороны золоченых ворот было по два фонаря в виде урны, также покрытых позолотой; в них широким пламенем горел газ. У ворот, в изящном павильоне, слегка напоминавшем греческий храм, жил сторож. Когда коляска въезжала во двор, Максим ловко спрыгнул на землю.
– Ты ведь знаешь, – сказала Рене, задерживая его руку, – мы садимся за стол в половине восьмого. У тебя больше часа на переодевание. Не заставляй себя ждать, – и с улыбкой добавила: – У нас будут Марейли… Отец просит тебя быть полюбезнее с Луизой.
Максим пожал плечами.
– Вот тоска! – пробормотал он ворчливо. – Я не прочь жениться, но ухаживать за ней – это уж слишком глупо… Рене, дорогая, избавь меня на сегодня от Луизы, – он скорчил смешную рожу, подражая ужимкам и голосу актера Ласуша, как делал всякий раз, когда изрекал одну из своих обычных шуток: – Хорошо? Мамочка, душечка!..
Рене по-товарищески тряхнула его руку. И нервно проговорила с насмешливой дерзостью:
– Э, если бы я не была женой твоего отца, ты, пожалуй, стал бы за мной ухаживать.
Повидимому, это показалось Максиму чрезвычайно комичным, – повернув уже за угол бульвара Мальзерб, он все еще продолжал смеяться.
Коляска въехала во двор и остановилась у крыльца. Над входом с широкими и низкими ступеньками был застекленный навес, украшенный наличником с резьбой в виде бахромы и золотых кистей. В подвале двухэтажного дома помещались людские и буфетная с тусклыми квадратными оконцами почти вровень с землей. На крыльцо выходила парадная дверь, по бокам ее были вделаны в стену узенькие колонны, образующие на каждом этаже выступ с округленными пролетами, который заканчивался под крышей треугольником. По фасаду, на обоих этажах, тянулся ряд окон по пяти с каждой стороны выступа; окна были скромно обрамлены камнем; крыша с мансардами была плоская и широкая. Но со стороны сада дом имел более пышный вид. Величественное крыльцо вело на узкую террасу, которая тянулась вдоль всего нижнего этажа; на перилах террасы, в стиле решеток парка Монсо, было еще больше позолоты, чем на застекленном навесе подъезда и на фонарях у ворот. По углам дома высились две пристройки, нечто вроде башен, вделанных до половины в корпус здания; внутри каждой башни находились круглые комнаты. Посредине фасада слегка выдавалась вперед третья башенка, еще более вдавленная в стену. Окна, высокие и узкие в пристройках, широкие, почти квадратные по фасаду, окружала в нижнем этаже каменная балюстрада, а в верхних – чугунные перила с позолотой. Здесь была выставка, изобилие, нагромождение богатства. Стены особняка исчезали под лепными украшениями. Вокруг окон, вдоль карнизов переплетались завитки из веток и цветов; балконы в виде корзин с растениями поддерживались огромными фигурами нагих женщин с изогнутыми бедрами и остроконечными грудями; там и сям лепились фантастические щиты, виноградные кисти, розы, самые разнообразные цветения из мрамора и камня. И чем выше, тем больше расцветал особняк. Крыша увенчивалась балюстрадой, а на ней симметрично были расположены урны, в которых пылало каменное пламя. Здесь, между круглыми окнами мансард, украшенными самым диковинным сплетением фруктов и листьев, сосредоточилась основная орнаментика этого необыкновенного зодчества: на фронтонах пристроек снова появились нагие женщины в различных позах – они играли яблоками среди тростника. Крыша со всеми этими украшениями, с узорчатыми металлическими галереями, двумя громоотводами и четырьмя огромными, симметрично расставленными трубами, как и все остальное покрытыми лепными орнаментами, была как бы финальным букетом этого архитектурного фейерверка.
Справа примыкала к дому огромная оранжерея, сообщавшаяся через стеклянную дверь с одной из гостиных нижнего этажа. Сад, отделенный от парка Монсо низеньким забором, скрытым живой изгородью, спускался по довольно крутому откосу. Слишком маленький по сравнению с домом, такой тесный, что в нем умещалась только одна клумба да несколько куп зеленых деревьев, он как бы служил пьедесталом из зелени, на котором гордо возвышался нарядный особняк. Если смотреть на особняк из парка, то над чистеньким газоном, над деревцами с лоснящейся глянцевитой листвой это большое здание под тяжелой шапкой черепицы, с золотыми перилами и обилием лепных украшений, новое и бесцветное, напоминало важный и глупый лик разбогатевшего выскочки. То был новый Лувр в миниатюре, один из характерных образцов стиля Наполеона III, пышной помеси всех стилей. Летними вечерами, когда косые лучи заходившего солнца зажигали позолоту перил на белом фасаде, гуляющие в парке любовались красными шелковыми драпировками на окнах первого этажа; сквозь стекла, широкие и прозрачные, как витрины модных магазинов, и, казалось, предназначенные для выставки роскошного убранства комнат, все эти мелкие буржуа видели уголки гостиных, портьеры, плафоны, ослеплявшие их своим богатством и вызывавшие восхищение и зависть; они останавливались среди аллеи, точно пригвожденные, не в силах отвести глаз от окон.
Но в этот час с деревьев спускалась тень, сон окутывал фасад. По другую сторону дома, во дворе, лакей почтительно помог Рене выйти из экипажа. Справа стояли красные кирпичные конюшни; их широкие двери из потемневшего дуба открывались в глубине застекленного сарая. Налево, как бы для симметрии, к соседнему дому прилепилась разукрашенная ниша, а в ней из раковины, которую на вытянутых руках поддерживали два амура, лилась непрерывная струя воды. Рене на минуту остановилась у крыльца, стараясь примять руками вздернувшееся платье. Во дворе шум экипажа умолк, снова воцарилась спокойная, аристократическая тишина, нарушаемая лишь неумолчной песней струящейся воды.
В темном особняке, где скоро должны были зажечься люстры для первого в сезоне большого званого обеда, пламенели пока только окна подвального этажа, и на вымощенный мелкими правильными квадратами двор падали отблески, как от пожара.
Когда Рене открыла дверь вестибюля, она встретилась лицом к лицу с камердинером своего мужа, спускавшимся в буфетную с серебряным чайником в руках. Это был представительный человек в черном фраке, высокий, полный, белолицый, с аккуратно подстриженными, как у английского дипломата, бакенбардами; строгим, важным видом он напоминал чиновника.
– Батист, барин вернулся?
– Точно так, сударыня, они одеваются, – ответил лакей и чуть наклонил голову движением, которому позавидовал бы принц, раскланивающийся с толпой.
Рене, снимая перчатки, медленно поднялась по лестнице.
Вестибюль отличался необычайной роскошью. В первую минуту входивший испытывал легкое ощущение удушья. Пушистые ковры на полу и на лестнице, широкие красные бархатные драпировки, скрывавшие стены и двери, скрадывали звуки, а в воздухе стоял тяжелый тепловатый запах часовни. Драпировки ниспадали от самого потолка, который украшали выпуклые розетки, наложенные на переплет из золоченого багета. Лестница с белой мраморной балюстрадой и перилами из красного бархата разветвлялась изогнутой линией; в глубине, между двумя ее крыльями, была дверь в большую гостиную. На первой площадке всю стену занимало огромное зеркало. Внизу, у основания лестницы, на мраморных подставках две обнаженные по пояс женские фигуры из золоченой бронзы держали большие канделябры с пятью газовыми рожками, яркий свет которых смягчался шарами из матового стекла. А по обе стороны лестницы стояли прелестные майоликовые вазы с цветущими редкими растениями.
Рене поднималась, и с каждой ступенькой росло ее отражение в зеркале; она спрашивала себя с тем сомнением, какое обуревает иногда актрис, пользующихся большим успехом, действительно ли она так очаровательна, как ей говорили.
Поднявшись на свою половину во втором этаже, с окнами, выходившими в парк Монсо, она позвонила горничной Селестине и стала одеваться к обеду. Это продолжалось больше часу. Когда была вколота последняя булавка, Рене открыла окно, облокотилась на подоконник и задумалась. В комнате было очень жарко. За ее спиной Селестина неслышно убирала одну за другой принадлежности туалета.
Внизу, в парке, колыхалось море тьмы. Черные ветви высоких деревьев качались от внезапно налетавшего ветра, и их широкие колебания напоминали прилив и отлив, а шелест сухих листьев казался рокотом волн, разбивавшихся о каменистый берег. Только изредка эту пучину мрака прорезали два желтых глаза проносившейся коляски, исчезавшей между деревьями большой аллеи, которая идет от проспекта королевы Гортензии до бульвара Мальзерб. Меланхолическая осенняя картина снова навеяла на Рене грусть. Она вспомнила свое детство в доме отца, в молчаливом особняке на острове Сен-Луи, где в течение двух веков укрывалась мрачная чиновничья важность семьи Беро дю Шатель. Потом ей вспомнился ее брак, свершившийся точно по мановению волшебного жезла; она подумала с своем муже-вдовце, который продался, женившись на ней, и сменил свое имя Ругон на Саккар; эти два сухих слога звенели в ее ушах первое время замужества, как звон двух лопаток банкомета, загребающих золото. Саккар бросил ее в эту жизнь; полную излишеств, где она с каждым днем все больше теряла голову. И вот она с детской радостью стала вспоминать, как играла когда-то с младшей сестрой Христиной в волан. А в одно прекрасное утро, думалось ей, она очнется от мечты о наслаждении, которой жила десять лет, очнется обезумевшая, загрязненная одной из спекуляций своего мужа, которая и его потянет на дно. То было как бы промелькнувшее предчувствие. Деревья застонали громче. Рене, взволнованная мыслями о позоре и наказании, уступила дремавшим в ней инстинктам старой, честной буржуазии: она дала темной ночи обет исправиться, меньше тратить денег на наряды, найти невинную забаву, которая могла бы развлечь ее, как в счастливые дни жизни в пансионе, когда она вместе с подругами тихонько прогуливалась под платанами и пела «Нет, мы не пойдем в леса».