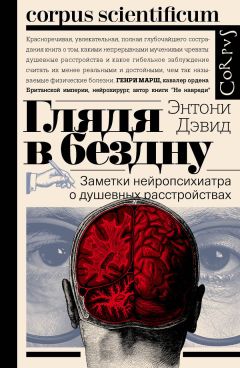
Автор книги: Энтони Дэвид
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Дженнифер считала себя подопытным кроликом, и не безосновательно. Мы то чуть-чуть повышали дозу клозапина, то снижали дозу леводопы, колдовали над лекарствами, но на самом деле не были уверены, что облегчаем ее состояние. Дженнифер начала избегать нас. Иногда она появлялась в дневном стационаре с рюкзаком и камерой, неопрятная и изможденная, и исчезала, не дав нам времени даже составить план помощи. Патронажная сестра навещала ее дома, но зачастую Дженнифер даже не открывала ей, а если открывала, ее приходилось долго уговаривать встать с постели. Движения у нее стали мучительно-замедленными, как будто она плавала в патоке. Она отвечала на вопросы, но голос у нее постепенно слабел и в конце концов превратился в шепот. Недели через две такой жизни она практически перестала есть, что неудивительно: у нее уходила целая вечность, чтобы дотянуться до куска хлеба и поднести его к губам. Непрожеванная пища скапливалась во рту.
Потом патронажная сестра не дождалась ответа из-за двери. У порога лежала стопка газет. Нас беспокоило, что Дженнифер не получает никаких лекарств от болезни Паркинсона, отчего она рисковала утратить способность ухаживать за собой, не говоря уже о разных мыслях, которые могли взбрести ей в голову. Где она? Может быть, плохо спит по ночам и днем отсыпается?
Попытки связаться с родственниками ничего не дали. В психиатрической службе начали волноваться. Вдруг Дженнифер дома, но не может подойти к двери? Было решено, что мы должны прибегнуть к последнему средству и взломать дверь, это допускает одна статья закона об охране психического здоровья, ведь было вполне вероятно, что здоровье Дженнифер ухудшилось настолько, что ее жизнь в опасности.
Работники психиатрической службы обнаружили Дженнифер на полу, в испачканной одежде; она была в сознании, не спала, но не могла говорить. Ее руки и ноги были согнуты и застыли в этом положении. Пульс был нитевидный, во рту пересохло. Вызвали скорую помощь, и Дженнифер тут же доставили в больницу. В больнице ее осмотрели, выкупали и переодели в чистое. Ей поставили капельницу и дали антибиотики от легочной инфекции. Врачи вызвали для консультации неврологов и нейропсихиатров. Рабочий диагноз в медкарте был сформулирован на медицинском жаргоне – с вопросительным знаком в начале: “?Кататония”.
* * *
“Кататония” – широкий термин, охватывающий целый спектр странных особенностей моторного поведения, для которых в целом характерно отсутствие движений (или речи) и сохранение ненормальной позы. В старых учебниках рассказывается, как врачи пытались шевелить конечности таких больных, и ощущение было как от манекена (восковая гибкость): руки и ноги оставались в любом положении, которое им придавали. Больной зачастую смотрит прямо перед собой отрешенным взглядом и редко моргает. Иногда словом “кататония” называют краткие периоды подобного оцепенения, но я предпочитаю гораздо более узкий смысл: кататонией следует называть преобладающую особенность поведения и внешнего вида пациента в течение нескольких минут, часов или даже дней. Описаны и другие формы кататонии – когда пациент в целом молчит, но повторяет то, что ему говорят (эхолалия), или то же самое, но в движениях – когда он неподвижен, но подражает действиям, совершаемым перед ним (эхопраксия). Кататония – не самостоятельный диагноз, ее наблюдают и при шизофрении, а также при тяжелых аффективных расстройствах, когда настроение у больного предельно снижено (как при ступоре) или, наоборот, предельно повышено (как при мании). Кроме того, она проявляется как реакция на сильнейший стресс или межличностный конфликт.
Когда кататония проходит, человек иногда рассказывает о своих ощущениях. Один больной говорил мне, что думал, будто у него в теле ядерная бомба и стоит ему шевельнуть хотя бы мускулом, как весь мир будет уничтожен. Другая пациентка ощутила единство с Богом и пребывала в экстазе. Но у многих больных после кататонии не остается почти никаких воспоминаний. Более того, весьма вероятно, что многие такие случаи на самом деле не “психиатрические”, а объясняются аномальным состоянием мозга, которое, безусловно, отличается от комы или частичной комы (они дают отклонения на стандартной энцефалограмме, поэтому их легко исключить) и возникает вследствие тонких изменений в химии мозга или, вероятно, даже редкой формы энцефалита5. Одна нейрохимическая причина кататонии носит довольно зловещее название “злокачественный нейролептический синдром”. Это следствие непредсказуемых идиосинкразических реакций на нейролептические препараты (так изначально назывались антипсихотические лекарства). Старые антипсихотические препараты провоцировали этот синдром у 3 из 100 пациентов, что очень много, однако современные препараты действуют несколько мягче, поэтому расстройство поражает примерно каждого десятитысячного больного. Считают, что это объясняется избыточной чувствительностью к блокировке дофамина, которую вызывают лекарства: у таких больных они почти полностью отключают дофаминергическую активность, а это смертельно опасно. Еще такой синдром бывает при болезни Паркинсона, если резко перестать принимать лекарства.
* * *
Только тогда, в больнице, я впервые увидел Дженнифер своими глазами. Да, у нее действительно была кататония. Дженнифер словно окаменела. Я задернул занавески вокруг ее койки и присел на край постели. Представился, стараясь говорить ласково и успокаивающе. И стал ждать, что будет. Дженнифер совсем исхудала и была в испарине. Лицо лишилось всякого выражения и словно бы покрылось тонкой пленкой жира. Та самая “маска”, о которой пишут в учебниках.
– Как вы себя чувствуете? – спросил я.
Никакого ответа. Дженнифер смотрела в потолок и почти не мигала.
– Похоже, вам очень страшно, – сказал я.
Она медленно закрыла глаза. В глубокой ямке между ключиц набежала лужица пота. Я промокнул ее салфеткой и осторожно положил руку на запястье Дженнифер.
– Сейчас вы в безопасности. Я думаю, с вами это случилось потому, что вы перестали принимать лекарства. Как только снова начнете, вам сразу станет лучше. Честное слово.
Только сейчас ее губы еле заметно дрогнули. Неужели она хочет что-то сказать? Я нагнулся к ней.
– Дженнифер, повторите, пожалуйста.
Шепоток – на сей раз чуть увереннее.
– Извините, мне никак не расслышать. Повторите, пожалуйста, – попросил я и нагнулся еще ближе.
Она открыла глаза и, похоже, собрала все силы, чтобы наладить со мной контакт.
– Еще раз, уже почти получилось. – Я нагнулся совсем низко, ухом к самым ее губам.
– Отпустите… руку…
Это было трудно назвать даже шепотом. Я отпрянул.
– Ох, простите, я не хотел…
Пришлось мне вспомнить, что Дженнифер – не простая пациентка, ставшая жертвой тяжелой болезни, и нельзя ожидать, что теперь она будет пассивно принимать лечение и благодарить нас. Эта женщина жила по своим собственным правилам. Она была неповторимой личностью – подозрительной, крайне недоверчивой, – ценила независимость и в поисках истины полагалась на собственные источники. Дженнифер страдала физически, поскольку оказалась среди тех несчастных, кто тяжело реагирует на медикаментозное лечение, и при этом стала жертвой недуга, обычно поражающего стариков. Кроме того, она страдала душевно, поскольку ее постигла болезнь – возможно, наследственная, – при которой человека мучают беспощадные голоса, и они преследовали ее повсеместно, пробирались в заповедные уголки ее тела, проникали в самую ее суть, в ее “Я”, в ее сокровенные мысли.
* * *
Можно ли мужчине-психиатру прикасаться к пациентам? На этот вопрос я в большинстве случаев отвечаю “нет” – но все же не всегда. Случается, что психиатрическая консультация оборачивается вопиющими нарушениями отношений врача и больного. Обстановка таких консультаций интимна, контакты обычно продолжительны, эмоции бурлят, а дисбаланс сил очевиден. Я не верю в полную беспристрастность консультаций, как бывает при ультраформализованном психоанализе, когда аналитик более или менее невидим и уж точно неосязаем. Иногда я обмениваюсь рукопожатием с пациентом на первой встрече, но только если он сам того пожелает. При бреде преследования больному может показаться, будто на него нападают или хотят поставить в безвыходное положение, при обсессивном расстройстве или страхе заражения он испугается, как бы контакт не причинил ему вреда, и начнет тревожиться и размышлять об этом, не успеем мы приступить к работе. Но как быть, если больной расстроен и плачет, вспоминая, например, утрату близкого человека или другую потерю? Вряд ли мы что-то испортим, если протянем руку и прикоснемся к нему или коротко обнимем на прощание. Интуитивно кажется, что именно так и надо поступить. Никто не требует, чтобы мы были холодны и отстраненны; объективны – да, надменны – нет. Мне часто доводится наблюдать, как неопытные коллеги, когда их пациент плачет, начинают суетиться, ищут коробку с салфетками, бросаются его утешать, боясь, что их сочтут черствыми, а потом заводят стереотипный дуэт: пациент, пытаясь взять себя в руки, произносит “Извините, что это я…”, а коллега выдает шаблонный ответ “Ну что вы, ничего страшного”.
Конечно, я не люблю смотреть, как люди плачут или впадают в истерику – и никто не любит. Просто я научился подавлять потребность – собственную потребность – немедленно это прекратить. Обычно я наклоняюсь поближе, внимательно смотрю на пациента и изо всех сил стараюсь подобрать полезные слова, которые не были бы клише. Иногда в этот момент мне представляется, что вполне можно протянуть собеседнику руку. Но не стоит обманываться: если бы для того, чтобы утешить в горе, достаточно было прикосновения, скорее всего, больной уже давно утешился бы и ему не понадобился бы психиатр. Когда у человека тяжелейшая депрессия, он обычно не плачет. Этот период у него давно позади.
Эпизод с Дженнифер заставил меня задуматься об этом и отметить, какие неочевидные перемены происходят со мной, когда я как нейропсихиатр перехожу из психиатрической больницы в больницу общего профиля, на чужую территорию. Вот в больнице общего профиля к пациентам прикасаются постоянно. Больного окружают ритуалами: ему щупают пульс, слушают сердце, промокают лоб, а в неврологическом отделении – сгибают руки и ноги и проверяют рефлексы молоточком, и все это облегчает человеческий контакт. Даже странно, почему другие медики иногда обвиняют психиатрию в том, что там сплошные “телячьи нежности”.
Раньше маститых врачей-клиницистов в больницах было видно издалека. Только мужчины, исключительно в белых халатах поверх элегантных костюмов с галстуками-бабочками – настоящие доктора. То ли дело психиатры, “психи” – мятые вельветовые штаны или мешковатые платья и практичная обувь на низком каблуке. Потом на первое место вышла борьба с госпитальными инфекциями, на смену белым халатам пришла больничная униформа – никаких пиджаков, рубашки с короткими рукавами, одноразовые фартуки и резиновые перчатки. Психиатры за этими новшествами не поспевали, и некоторое время – впрочем, недолгое – мы в своих пиджаках и галстуках или брючных костюмах выглядели элегантнее своих коллег хирургов и терапевтов. Лично меня карающая длань настигла, когда сестра-хозяйка, любительница делать замечания, сузила глаза, нацелилась в меня пальцем и изрекла: “Вот это — смертельное оружие”. Я посмотрел вниз, испугавшись, что не застегнул брюки. Она имела в виду мой галстук.
* * *
Дженнифер провела в больнице несколько месяцев. Прошло очень много времени, прежде чем она смогла хотя бы самостоятельно глотать пищу, поэтому кормили ее через зонд. Ее швыряло из тяжелого психоза и двигательного перевозбуждения в паркинсоническое торможение с такой силой, что подбирать лекарства было несказанно трудно. Я наблюдал, как другие врачи, в том числе мои коллеги неврологи, проверяли тонус ее мышц, чтобы оценить паркинсоническое оцепенение. Она не отстранялась, но было видно, что физический контакт ей неприятен.
Постепенно я узнал ее ближе. Говорить с ней было нелегко. Зачастую она просто отворачивалась. Иногда я настаивал, но вскоре понял, что это неправильный подход. Лучше просто посидеть рядом, и рано или поздно она произнесет несколько слов. Она была остра на язык (“Опять вы! Что, больные кончились и осматривать некого?”). Иногда она передавала мне сплетни, подслушанные у медсестер, которые были приставлены к ней для “личной гигиены” – у медсестер, которые забывали, что она в полном сознании и все слышит. А иногда впадала в отчаяние, и на немигающие глаза набегали слезы.
– Опять голоса? – спрашивал я тогда.
– Да, – отвечала Дженнифер, но больше ничего. Лишь один раз она после долгого молчания добавила: – За что они меня так замучили?
По крайней мере, я думаю, что она сказала именно это. Ведь на самом деле, возможно, она сказала: “За что вы меня так замучили?”
После долгого процесса физического восстановления Дженнифер была переведена в нейропсихиатрическое отделение. Благодаря усилиям Национальной службы здравоохранения, показавшей себя с наилучшей стороны, Дженнифер получила помощь специалистов по неврологии, гастроэнтерологии и общей терапии, постоянное внимание и заботу медсестер, врачей, физиотерапевтов и многих других. Практически из могилы ее вытащили в состояние, позволявшее перейти к более полной реабилитации. В частности, она постепенно окрепла и стала более мобильной – настолько, что ходила почти нормально, лишь еле заметно подволакивала ноги. Тонко подобранные медикаменты позволяли ей с легкостью есть и разговаривать. Она была подвержена феномену “включения-выключения”, характерному при болезни Паркинсона. Когда последняя доза лекарств перестает действовать, симптомы нарастают не плавно, а резко: вот только что руки и ноги двигались свободно и гибко – и вдруг оказываются совершенно скованными. Это снимается дробным приемом малых доз лекарств – каждые три часа, – хотя такой режим утомителен и для больного, и для тех, кто за ним ухаживает. Это могло осложнить жизнь Дженнифер после выписки, но в остальном она была готова уйти домой. Перед нами была уже не изможденная, всеми брошенная замарашка, прикованная к больничной койке и не способная без посторонней помощи ни поесть, ни помыться, с неизбежностью впавшая в инфантилизм под властью врачей и медсестер. Теперь Дженнифер стала нормальной молодой женщиной, вполне владеющей своим телом, и получила возможность выражать свои желания и надежды и искать общества либо уединения тогда и в том виде, в каком ей было угодно.
Что касается психотических симптомов, их удалось приостановить благодаря клозапину. Голоса, в том числе и знакомый ей голос киноактера, никуда не делись, и Дженнифер время от времени ощущала, какие они злобные, но чувствовала себя достаточно сильной, чтобы не вслушиваться в слова. Кроме того, она говорила, что хотя двигаться ей стало значительно легче, иногда у нее возникает ощущение, что она не вполне контролирует свои движения. По ее словам, она была словно камера, которую настраивают для съемки под открытым небом – то приближают изображение, то делают панораму влево, то наклоняют вправо… Она подозревала, что за этим стоит “он”, но наверняка сказать не могла. Психиатры называют такие жалобы “автоматизм” – и это классический симптом шизофрении: человек считает свое тело (и разум) пассивной жертвой внешних воздействий, сопротивляться которым он не в состоянии6.
Главным для Дженнифер было самовыражение в творчестве. При нормальном финансировании центры психиатрической реабилитации приглашают эрготерапевтов, а иногда и арт-терапевтов. В отделении, где я работал, нам посчастливилось привлекать самых разных высококвалифицированных специалистов, которые были полны свежих идей и постоянно придумывали новые способы увлечь больных и сотрудничать с ними. Дженнифер радовалась долгожданной возможности самовыражения, поэтому относилась к арт-терапии с большим энтузиазмом, тем более что у нас был прекрасно оборудованный класс для занятий изобразительным искусством. Сотрудники привлекли всех больных, а также местные организации и волонтеров, чтобы устроить выставку. Дженнифер оказалась в своей стихии. Она не только создала несколько новых работ – портретов других больных и автопортретов, – но и обрамила и принесла несколько старых картин и фотографий. Я гордился ею.
Выставка открылась солнечным летним днем в отделении эрготерапии. Пришло много народу – пациенты, их друзья и родственники, сотрудники клиники, просто любопытствующие зрители. Многие экспонаты предназначались для продажи. Мне бросилась в глаза одна работа. Это была фотография Дженнифер с длительной экспозицией. Разобрать, что именно на ней изображено, было трудно, но Дженнифер сняла вечернюю панораму парка развлечений. Передо мной было живое, яркое, но размытое изображение – машинки на картинге или карусели, обмотанные размазанными линиями электрического света. Камера дрожала. Паркинсонизм. Как кстати оказался тремор. Я спросил, сколько стоит снимок. Восемьдесят фунтов. Многовато, подумал я. Наверняка после всего, что мы прошли вместе, после долгих месяцев тщательного ухода и кропотливого лечения, после долгих часов, которые я провел у постели Дженнифер, после того, как мы вместе радовались ее постепенному выздоровлению, она сделает мне скидку… Дженнифер уставилась на меня немигающим взглядом, непроницаемым и ни чуточки не сентиментальным.
Я вручил ей деньги.
Глава 2
Strawberry Fields Forever
Патрик был приверженец здорового образа жизни и спортсмен-энтузиаст. Он недавно женился и успешно строил журналистскую карьеру – но жизнь его в один миг полетела в тартарары: в его велосипед сзади врезался грузовик на скорости пятьдесят миль в час. Возможно, Патрик хотел свернуть вправо. То ли водитель не заметил его сигнала, то ли решил обогнать его, положившись на удачу. В результате Патрик полетел кувырком через капот и разбил лобовое стекло. Его срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию. Он был без сознания. На снимке были видны множественные гематомы мозга (проще говоря, синяки), у него была сломана рука. Все говорили, что при таких травмах он чудом остался в живых.
Примерно через неделю Патрик начал приходить в себя. Воспоминаний об аварии у него не сохранилось. Он мог говорить и двигать руками и ногами, но левая сторона тела у него ослабела, и сказывались последствия сотрясения: он не помнил, какой сегодня день, где он и как сюда попал. Прошло около месяца, и он начал участвовать в реабилитации. Снаружи казалось, будто он возвращается в норму очень быстро, и во многих отношениях он был идеальным пациентом: ему было тридцать два, он находился в прекрасной физической форме, спортивный, умный, во всех отношениях славный молодой человек, отнюдь не любитель острых ощущений, никогда не злоупотреблявший ни алкоголем, ни наркотиками – и никакой психиатрической истории. Патрик никогда не отлынивал от упражнений и во всем слушался реабилитологов.
Не всегда все шло гладко. Иногда Патрика подводила память, и он по многу раз подряд спрашивал, где он. Ему было трудно придерживаться сложных инструкций (сделай это, а когда доделаешь, сделай то). Он сбивался с мысли, сердился и иногда замыкался в себе. Шли месяцы, и физически он вернул себе способность делать почти все, что раньше: ходить, бегать, даже ездить на велосипеде. Но ментально все так и не наладилось. Патрик был какой-то потерянный. Он мог назвать дату и время, сказать, где он, как называется больничное отделение, кто он такой и как зовут его врачей. Но время от времени он озадаченно озирался и говорил: “Неужели это взаправду? Какое-то тут все нереальное”. Врачи обычно старались его успокоить. Ведь он пережил страшную аварию. Он мог погибнуть. Конечно, это потрясение. На месте Патрика кто угодно стал бы задавать врачам вопросы о реальности и даже о смысле жизни!
Со временем Патрик достаточно оправился, чтобы вернуться домой, а в реабилитационный центр должен был ходить два раза в неделю. Его жена Викки очень старалась ему помочь. Все считали, что они очаровательная пара. Викки работала на телевидении. Она обладала искрометным нравом и изо всех сил старалась держаться бодро и оптимистично, но ей становилось все труднее. Патрика было не узнать. Он стал мрачным, вспыльчивым и раздражительным, не видел смысла чем-то заниматься. Плохо ел и спал, запустил себя, нерегулярно мылся и не выказывал интереса ни к своему внешнему виду, ни к их новому дому. Викки решила дать ему больше личного пространства, они перестали спать в одной постели. Сотрудники больницы предупреждали супругов, что всего этого следовало ожидать после такой серьезной черепномозговой травмы. Однако, несомненно, были и другие причины, и Викки твердо решила докопаться до истины.
Как-то раз она достала их свадебные фотографии и принесла в реабилитационный центр. Она хотела, чтобы все поняли, что человек, с которым они имеют дело каждый день, – не настоящий Патрик: фотографии не лгут. На снимках Патрик был красив, оживлен, обаятелен и – судя по выражениям лиц окружающих – остроумен и забавен. Вот этого мужчину Викки и полюбила. Сотрудники собрались вокруг и ахали: какая все-таки очаровательная пара! Все наладится. Надо просто набраться терпения. Исцеление – это процесс, на него нужно время.
Патрика это ничуть не подбодрило – напротив, он еще глубже погрузился в отчаяние. В тот вечер он напустился на Викки: зачем она притащила в реабилитационный центр эти дурацкие фотографии? Что она хотела доказать? А потом прогремел взрыв: “Ты ведь даже не моя жена. Ты не настоящая Виктория”. Патрика прорвало. После аварии у него постоянно было ощущение, будто что-то идет неправильно. Все вокруг было какое-то странное, словно бы неуловимо иное. И сам он стал другим. Дело не в том, что после аварии остались шрамы, – все было гораздо глубже. Патрик даже не был уверен, что жив. Возможно, он погиб в аварии – много ли на свете велосипедистов, которые остались живы, когда их сбил грузовик на скорости пятьдесят миль в час? Впору прийти к выводу, что все это такая загробная жизнь, своего рода чистилище. Всех, кого он знал, подменили, и самозванцы пользуются их телами, будто “ракушками”. Понятно, что он не может спать с этой женщиной: ведь это была бы супружеская измена. Он любит настоящую Викки, и она где-то есть, и он ее не предаст.
Викки была потрясена. Какая жестокая шутка судьбы – ведь она принесла свадебные фотографии, чтобы показать всем “настоящего” Патрика! Естественно, камера не в состоянии передать человека как он есть, это всего лишь приглаженная моментальная картинка. Оказывается, их обоих тревожило, что же произошло с “настоящим” Патриком, но по разным причинам. Патрик и правда изменился – на самом глубоком уровне. И не только из-за реальных последствий аварии: он стал фундаментально иным в собственном сознании, он отрицал собственное существование. Патрик стал ненастоящим, а вместе с ним стал ненастоящим весь его мир.
Последовавшие несколько недель были ужасны. Викки пыталась урезонить Патрика, но это не приводило ни к чему, кроме ссор. С точки зрения Патрика, любые новые доводы лишь доказывали: все, что он знал и ценил, стало другим. Ему было невероятно одиноко, он понимал, что все, что с ним происходит, выходит за рамки нормального человеческого опыта. Он не мог так жить. Как-то ночью он забаррикадировался в гостевой комнате.
Когда Викки удалось взломать дверь, она обнаружила, что Патрик обмяк в кресле. Он набрызгал в чашку жидкости от мух из баллончика и попытался выпить. Викки вызвала службу спасения.
Патрика отправили в ближайшую психиатрическую больницу. У него диагностировали тяжелую депрессию. Все признаки были налицо, в первую очередь – крайне сниженное настроение на грани отчаяния, попытка самоубийства, отсутствие мотивации, а также плохой сон и аппетит. Полный набор. Психиатры называют это “психотической депрессией”, что предполагает также наличие бреда и галлюцинаций. Патрик утратил связь с реальностью.
* * *
Галлюцинации определяют просто как “восприятие без объекта”, которое нельзя свести к сновидениям или про-соночным состояниям при засыпании и пробуждении, и считается, что человек не в силах их контролировать. Бред же можно определить как ложные убеждения, но стоит об этом задуматься (чем философы и психиатры занимаются уже сотни лет), как окажется, что такое определение отнюдь не достаточно1. Во-первых, вдруг твое убеждение окажется истинным? Начинаешь подозревать, что у твоего спутника жизни интрижка на стороне, признаешь, что для этого нет ни малейших оснований, и считаешь это бредом. А впоследствии выясняется, что интрижка и вправду имела место, а значит, у тебя был не бред. Тогда можно, пожалуй, назвать бред необоснованным убеждением. Казалось бы, выход найден. Ну а если я убежден, что когда-нибудь стану капитаном сборной Англии на чемпионате мира? Мечта, фантазия, пустые надежды – пожалуй, но бред? Нет, это чересчур. Если меня спросят, действительно ли я в это верю, я признаюсь, что подобное вряд ли произойдет – хотя логически вполне возможно2. А как тогда быть с теми, кто утверждает, что верит в сверхъестественное существо, создавшее вселенную? Они что, бредят, раз это заявление невозможно подкрепить надежными данными? Пожалуй, называть подобные утверждения бредом не слишком целесообразно. Как прекрасно знает эволюционный биолог Ричард Докинз, это отличный повод для увлекательной дискуссии, но все же не стоит вешать ярлык патологии на огромное количество людей, в остальном здоровых.
Нет, определение бреда должно содержать оговорку, что это убеждение, как бы твердо ни придерживался его конкретный человек, не распространено широко и не объясняется общими культурными ценностями. Но как тогда быть с убеждениями, которые мало кто разделяет и которые по природе своей таковы, что их нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть? Если кто-то говорит, что мир обречен, чем это доказать? Положим, мы знаем кое-какие факты о нашей планете, и из них можно сделать вывод, что подобные утверждения истинны или – на основании не менее солидных данных – ложны, а можно заключить, что трудно сказать наверняка. А некоторые убеждения принадлежат к числу оценочных суждений и потому субъективны.
Если кто-то считает самого себя дурным человеком, бред ли это? В психиатрии подобное убеждение рассматривают как симптом депрессии, для которой характерна низкая самооценка, и в крайних проявлениях его можно назвать и бредом. Здесь придется учесть другие факторы, строго говоря не имеющие отношения к эпистемологии, то есть к истинности самого утверждения, – вторичные эффекты, накапливающиеся вокруг убеждения. Если убеждение, что вы дурной человек, непоколебимо, занимает все ваши мысли, накрывает вас с головой, лишает присутствия духа и вызывает желание наложить на себя руки, оно, несомненно, “аномально” и “патологично”.
Какое же определение нам остается вывести? Бред – фиксированное необоснованное убеждение, не разделяемое культурной средой человека и оказывающее отрицательное воздействие на него самого и, возможно, на кого-то еще. Оно может быть нелогичным, а может и не быть. Оно может относиться к ценностям, а не к фактам, но и это не обязательно. Пожалуй, ничего лучше мы не сформулируем.
Иногда тот или иной бред приобретает особый статус – обычно потому, что накапливается. Дайте бреду броское название – и ему обеспечена долгая жизнь. В 1923 году выдающийся психиатр Жозеф Капгра, работавший тогда в Париже, совместно с коллегой опубликовал подробное описание случая женщины, у которой был детализированный бред, будто некоторые люди в ее окружении, в частности ее муж, – не те, за кого себя выдают. Это назвали Villusion des sosies, “иллюзия двойников” – отсылка к античному мифу, в котором бог Гермес принимает облик слуги по имени Сосия, чтобы помочь Зевсу, царю богов, соблазнить смертную женщину Алкмену. Такая иллюзия двойников вскоре получила название синдрома или бреда Капгра.
Последовало множество описаний аналогичных случаев, одно эффектнее другого. Самым жутким, пожалуй, был эпизод, когда мнимого двойника обезглавили, чтобы явить его нечеловеческую природу. Несколько описаний объединялись общими темами, например близкими отношениями между больным и предполагаемым самозванцем; кроме того, оказалось, что подменить или подделать можно все что угодно, от очков до домашних животных. Был выявлен и другой клинический фактор: во многих случаях (правда, не во всех) у больного было то или иное повреждение мозга или дегенеративное заболевание. Патрик, безусловно, относился к этой категории.
Похоже, одной разновидности бреда с туманным французским названием было мало – свое имя есть и у бреда, когда человек считает себя мертвым. Это 1е delire des negations, что обычно переводят как “нигилистический бред” или называют синдромом Котара в честь Жюля Котара, другого парижского врача. Он был скорее неврологом, нежели психиатром, и описал первые случаи подобного рода в восьмидесятые годы XIX века. Суть этого бреда – убеждение, что человек мертв или превратился в нежить, но есть и другие варианты: скажем, больной считает, что у него нет внутренних органов или они сгнили либо что мир вокруг выжжен и безлюден. Кроме того, Котар сразу отметил, что больной стремится это прекратить любыми средствами и зачастую считает, что его надо не просто убить, а уничтожить или даже принести в жертву. Пребывать в этом состоянии наверняка невыносимо, и похоже, именно в его власти находился Патрик.
* * *
К этому времени Патрик пришел к убеждению, что умер и находится в каком-то промежуточном состоянии между жизнью и смертью, в параллельном мире, где все настоящее заменено подделками. Здесь прослеживаются некоторые культурные мотивы – вспомните зомби, ходячих мертвецов, всякого рода доппельгангеров, “Стенфордских жен”, “Шоу Трумэна”, “Нью-Йорк, Нью-Йорк”. Но это не распространенные верования в религиозном смысле. Никто в культурном окружении Патрика не разделял его убеждений, особенно жена. Говорить, что ты умер, – откровенное противоречие, а если вдобавок ты еще и стремишься убить себя, логика настолько извращается, что от нее одной впору спятить.
Местная психиатрическая служба занималась Патриком не покладая рук. Врачи часами ломали голову над его страхами и опасениями. С ним работали не только психологи: ему предлагали мощные антидепрессанты и антипсихотические средства. Настроение у Патрика понемногу улучшилось, суицидальные мысли отступили. Сотрудники центра деятельно помогали ему вернуться к нормальному распорядку дня, вовремя мыться, одеваться, есть и даже работать. Патрик и Викки ходили к семейному консультанту и пытались по-новому наладить отношения. Им помогали понять, как черепно-мозговая травма сказывается на всех аспектах жизни и благополучия человека. Через год, после долгой госпитализации и последующего амбулаторного лечения, положение стабилизировалось – но никакого прогресса не наблюдалось. Патрик пытался работать дома, что-то писал, но ему было трудно сосредоточиться. Викки приходилось работать с утра до ночи, чтобы выплачивать ипотеку. Похоже, им было полезно реже видеться. Они избегали разговоров о природе реальности и подобных материях, поскольку такие беседы просто ходили по кругу. Викки не могла с сочувствием относиться ко всему, что говорил Патрик, а ему от этого становилось все более одиноко.









































