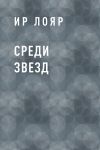Текст книги "Странники среди звёзд"

Автор книги: Эсфирь Коблер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Мать пишет отцу из Оша в 1946 году:
Вчера была у Наташи. Отнесла ей немного белого хлеба, но Лиза заявила мне, что она могла принимать небольшие подарки, пока Наташа была больна, а сейчас они ее оскорбляют, и она просит ничего больше не приносить. (Это во время войны и голода!). Прямо беда, – сетует мать, – никому я не нужна, все хотят доказать, что обходятся без меня.
Мать была искренне огорчена. Как человек теплый она была глубоко привязана к девочке, почти ровеснице ее сына, как врач, она всегда и всем стремилась помочь. В ее поведении были элементы святости, во всяком случае, большой души, и разглядеть эту душу сумел мой отец под некрасивой внешностью, отсутствием нарядов, неустроенностью в жизни. Отец дал матери шутливое прозвище – обезьянка – и письма начинались так:
Дорогой мой Обез!
Но дальше слова тоски по любимой женщине:
Родной мой и любимый! Я думаю, что мы оба сделали большую ошибку. Я, потому что отпустил тебя, а ты, потому что уехала… Я страшно соскучился по тебе. Даже ни о чем думать теперь не могу… Стремлюсь увидеть свое будущее чадо, это одно меня поддерживает. Ну, мой родной, больше не могу писать, одиночество ужасное. Никуда и ни к кому не хожу. Я должен кончить письмо, иначе я завою.
А в другом письме через несколько лет.
Жёны! Родная моя! Каждое твое письмо для меня такое волнение, рождение счастливейшего человека в жизни. Надеюсь, что мы скоро будем вместе, – уже сил нет, – и снова будем счастливы. Наша доченька сидит у меня на пузе, глазенки блестят. Я думаю, что Бог благословил нас чудесным созданием. Только, когда приедешь, не будем ссориться. Это так отравляет жизнь, так угнетает и так тяжело отражается на моем здоровье, что оставляет глубокие рубцы.
Родная… Я очень соскучился. Целую тебя, все родимые места. Приезжай скорей, не могу без тебя…
…Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями…
Мой прадед со стороны матери был управляющим в поместье Блаватской. Пока знаменитый теософ разъезжала по Европе и пропагандировала свою теорию, ее благополучие зависело от успехов по хозяйству моего прадеда. Тем не менее, все его сыновья должны были пахать вместе с ним, чтобы прокормить семью, но старший сын, по обычаю еврейской общины, получил блестящее образование, был биологом, учился вместе с Вавиловым, что потом сыграло роковую роль в его судьбе. Мой дед, Моисей Погорельский вернулся в родной поселок Рыбницы в Молдавии после революции, чтобы создать еврейскую школу. Это было время надежд и увлечений. Он женился на мужественной и волевой девушке – Иде Белинкис, – и они вместе поднимали эту школу. Существует фотография, где они, молодые, увлеченные, вместе со своими учениками сняты на фоне красного флага с надписью на идише. Классы были небольшие, примерно по 10 человек. Весь выпуск моей матери – дети, с детства знавшие друг друга, состоявшие в дальнем родстве, и составившие после окончания школы, счастливые семейные пары. Только у моей матери была своя, особая судьба, только у меня и у моего брата особая, непохожая на судьбы остальных жизнь.
К 1938 году прежняя национальная политика, которую курировал Бухарин, была признана несостоятельной, школу закрыли, а деда моего посадили. Кто-то видел его в Саратове перед войной, он развозил воду на тюремной кляче. В семье были убеждены, что посадили его по национальным делам. Какого же было наше удивление, когда после реабилитации мы получили справку, что осужден он был по делу Вавилова и, по-видимому, сидел вместе с ним. Моя мать в это время уже училась в Одесском медицинском институте, а ее брат, Марк Погорельский, ставший потом крупным физиком, заканчивал школу. Участь моей бабушки Иды была определена судьбой – она осталась одна, но всегда, до последних дней, пока была в силах, воспитывала своих детей, своих внуков, детей в школе. Мы все, в какой-то мере, ее чада.
Уезжая во время войны с сыном из Молдавии, она оставила там на попечении соседей девяностолетнюю мать, слепую и немощную, в надежде, что такого старого человека война не коснется. Немцы закопали старуху живьем. Для фашистов, отвергающих человеческие ценности, это нормальная процедура.
Вторая моя прабабка – жена того самого управляющего, – не успела по старости уехать до наступления немцев. Она пришла в село, где когда-то жила, много и щедро помогала крестьянам. Теперь она просила у них хлеба и воды, но никто ей даже дверь не открыл. Когда она умерла, ее похоронили на сельском кладбище. Но вскоре начался голод – война ведь. Однако крестьяне решили, что голод потому настиг их, что на кладбище похоронена еврейка. Останки выкопали и выбросили из могилы…
…Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову… (Пророка Исаии. гл.1)
Мои родители были обречены на разлуку. Дань времени и судьбе, но она же и укрепляла их чувства. После моего рождения отец примчался в Кельменцы, но, пробыв там меньше года, вынужден был, как я уже писала, уехать. Вслед ему мать напишет:
Дорогой наш папочка! Наконец получила сегодня твое первое письмо. Очень довольна, что ты доехал благополучно, но что скажут московские специалисты о твоем здоровье? Хотелось бы знать поскорее, напиши обо всем подробно.
У нас, слава Богу, все в порядке. Славу отправила в лагерь, осталась одна с дочуркой. Скучно и тоскливо ужасно. Ничего не клеится, ни за что браться не хочется. Славу отправила в лагерь с постельными принадлежностями – матрацем, подушкой, одеялом. Думаю, что он будет доволен, там прекрасный сад, кормят неплохо.
(В подростковом возрасте брат любил разорять птичьи гнезда, что меня, в мои три года, ужасно возмущало. Когда мать оставляла нас одних, а он лазил по деревьям, я орала не своим голосом, привлекая внимание взрослых к тому, что выразить словами еще не могла, за что мне крепко доставалось от брата).
Дочке нашей вчера минул год. Ты наверно забыл об этом, так как не поздравил ее. Я никого не приглашала, но на всякий случай купила колбасы, два литра белого вина и поручила Вере Александровне испечь торт. Пришли гости. Все было хорошо.
Будь здоров, мой дорогой и любимый муж. Крепко целуем тебя. Твои жена и дочь.
Прошло три года. Отец приезжал к нам. Вновь возвращался в Москву. За это время его старухи (как он нежно называл мать и тетку) продали часть дома, и это стало подлинной драмой семьи. Купив одну террасу, эта пробивная семья сумела захватить и часть земли и даже комнату отца. Через суд комнату отвоевали, а землю не вернули и из-за нее, я помню, мужчины чуть не дрались на топорах.
В марте 1953 года, когда отец отправит ту самую свою телеграмму: «Сталин умер, возвращайся в Москву», тому было много бытовых препятствий, и началась интенсивная переписка родителей.
В мае отец напишет:
Дорогая моя радость! Я только что получил на почте письма твои для мамы и для меня. Спасибо тебе большое за ласковое письмо маме. Почему ты, родная, так мало пишешь о себе и дочке? Больше всего меня интересуете вы, а ты пишешь обо всех, а о себе и дочурке почти ничего. Сегодня я, наконец, выселил своего негодяя, и занял свою комнату. Что касается устройства, то тут ничего не изменилось, и таких, как я становится все больше и больше. Мы должны думать, как и где будем жить.
Девочку мою крепко поцелуй. Я ее так люблю, так люблю, как никого и ничего до сих пор так не любил. Целую крепко. Миша.
В другом письме:
Дорогая Рита! Родные, любимые, нежное мое семейство!
Ты, Рита, такая красивая стала, что мама, Роза и все знакомые восторгаются. Как ты похорошела без мужа!
Живется хорошо, никто не мучает…
Я так хочу обнять и поцеловать мою дочурку, я так устал, так мне все с трудом достается. Мой тип просит отсрочить выселение, но я против. Я так соскучился по семье, просто сил нет. Он живет в моей комнате с женой и ребенком, а я должен жить один, где же справедливость?
Поцелуй доченьку за меня, скажи ей о папе, неужели ты не говорила обо мне? Ребенок забывает меня, это так больно, так больно, обидно, тяжело. Целую тебя крепко и дочурку мою.
Это письмо предшествовало предыдущему и звучит как крик души, и если бы отец не выиграл суд, не знаю, чтобы с ним было.
Теперь можно было семье воссоединиться, но так же, как и после войны требовалось множество справок. Москва была каким-то режимным городом. Отец в следующем письме перечисляет». Справка о том, что ты увольняешься с работы, справка о том, что у тебя двое детей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении дочери. (Кто не жил в несвободной стране, тот не поймет, для чего при переезде из одного места в другое нужно столько справок). А все это разворачивается на фоне неудержимой тоски и одиночества отца. «Пешком бы пошел к вам и жил бы в любой дыре, – пишет отец. – Не пора ли нам, Ритуля, перестать расставаться. Ведь жить осталось немного (ему – всего четыре года), а вместе мы почти не были. Помнишь ёлочный праздник, новогодний вечер. Как было хорошо даже в нашей бедной комнатке! Целую и обнимаю вас бесконечно. Ваш папа».
В июне 1953 года мы с матерью приехали в Москву. В конце июня выпал снег. Это было холодное лето 1953 года. Тогда я впервые увидела наш дом, встретила любимую сестру и навеки полюбила своего отца.
Двадцатый век перевернул все понятия, в том числе и понятие о доме. Сейчас это место, где существуем мы и наша семья, а всегда ранее – от пещеры первобытного человека до средневекового замка или крестьянского дома, – дом – то же, что и «я». Там жили столетиями. Дом, мебель обретали душу. Они впитывали в себя энергетический покров человека, недаром говорят, когда человек умирает, частица его души остается в доме.
Я – старый дом,
Печалью насладившийся,
Из грязи вставший,
Чтобы жить, грозя.
Я – в прошлое
Корнями уходивший,
Хочу погибнуть.
Но еще нельзя!
Это Ефим Друц написал о моем доме. Доме, в который вложена душа уже нескольких поколений. Эти дома обречены. Их обступает новодел новостроек, квартирный бетонный «рай», без души и сердца, где жить и чувствовать себя полноценным человеком нельзя, недаром «новые русские» с таким фанатизмом и размахом строят себе замки.
Нищую Марину Цветаеву всю жизнь преследовало чувство бездомности. Потеряв в юности свой дом, свою Москву, свою страну, она напишет в 1931 году в Париже:
Меж обступающих громад —
Дом – пережиток, дом – магнат,
Скрывающийся между лип.
Девический дагерротип
Души моей…
Когда я смотрю сегодня, в 2002 году, на свой дом, меня охватывает то же чувство, что и Марину Цветаеву.
Из-под нахмуренных бровей
Дом – будто юности моей
День, будто молодость моя
Меня встречает: – Здравствуй, я!
Меня этот дом принял сразу как свою. Там было много мест, где можно было прятаться, когда плачешь, чтобы никто не видел твоих слез, там обследованы все чердаки и подвалы, проходы под сваями, крыши и сараи. Там было любимое корыто, в котором меня купали, а после купания – обязательный ритуал – мать заворачивала меня в большое полотенце и читала непременно Лермонтова: «Спи, младенец мой прекрасный…» и «Погиб поэт…». Так навсегда для меня и осталось: Пушкин – дневной, светлый поэт, – его сказки мне читали днем, они были напечатаны в большой книге с тяжелым переплетом, а картинки переложены папиросной бумагой, а Лермонтов – поэт ночной, печальный и всевидящий.
Там посреди комнаты стоял большой круглый стол, под который я пряталась, когда брат хотел дать мне по голове томом Пушкина, потому что я ябедничала. Его жизнь в этом доме не сложилась, он не вошел в эту бурную и непростую семью. Матери пришлось отправить его обратно к бабушке в Черновицы, и сохранилась огромная переписка матери и бабушки, где они с глубокой нежностью пишут друг другу о Славе и обо мне. Я была тихоня и отличница. Первая двойка повергла меня в состояние стресса. А вот мой брат, всего один год проучившись в местной школе, оставил там неизгладимый след. Поскольку со мной не было проблем, мать появилась в школе только на выпускном вечере и тогда преподавать физкультуры, у которой учился брат, с удивлением спросила, узнав мать: Как, Слава Погорельский твой брат?
Слава был сложным подростком, ему предрекали не очень хорошую перспективу. А вышло все наоборот. Его в полном смысле слова спасло небо. В семь лет он поклялся, что будет летчиком, и стал им. Небо – это его жизнь и он один из немногих людей, о которых я с гордостью могу сказать: он настоящий мужчина и сильный человек.
Так в детстве оказалось, что я надолго потеряла брата, но обрела сестру. Не просто сестру, а друга, которого я обожала и почитала. Когда Наташа приходила к нам, а это было два-три раза в неделю, я вылетала на крыльцо в любую погоду, бросалась ей на шею и целовала до тех пор, пока меня не оттаскивали от нее. Разница между нами была в 10 лет, но это не мешало нам играть в детские игры или вести взрослые разговоры. Наташа была человеком искренним, честным и любящим. Мы делились самыми сокровенными тайнами, высказывали самые глубокие мысли. Нет ее писем, нет никаких записей, а между тем она была человеком ярким, умным, оригинальным. Каждая прочитанная книга, каждые просмотренный спектакль, выставка, фильм были предметом ее глубоких и умных рассуждений и переживаний.
В отличие от брата ей не хватило силы духа осуществить свою мечту. Человек актерского темперамента, необыкновенной красоты, переживающий искусство, как свою собственную жизнь, она не могла стоять за чертежным столом. В 26 лет она поступила, как я уже писала, на режиссерский факультет. Но это были 70-е годы, и с ней сделали тоже, что и с нашим отцом.
Поначалу все было хорошо. Уже учась на режиссерском факультете, она попала на телевидение и два года была счастлива, живя работой, и даже жертвуя в чем-то личной жизнью, но появился во главе телевидения товарищ Лапин и приказал, чтобы в 24 часа ни одного еврея на телевидении не стало, и их не стало. В том числе и моей сестры, которая была в таком состоянии, что мы боялись за ее жизнь. К счастью, вскоре состоялся ее второй брак, очень удачный, но все равно не счастливый. Наташа вышла замуж за известного сценографа Михаила Кунина, человека красивого, умного, светского, глубоко порядочного. У них было так много общего с сестрой, казалось, вот люди нашли свое счастье. Но жить вместе оказалось невозможно. Лед и огонь, волна и пламень не столь различны меж собой. Бурный темперамент моей сестры и светская холодность Михаила Кунина просто не могли ужиться под одной крышей, а между тем их связывало глубокое чувство. Через много лет после развода, когда сестра была тяжело больна, он столько сделал для нее, сколько могут делать только самые близкие люди. Да благословит его Господь!
Все это будет потом, жизнь спустя. А пока, я даже не успела освоиться в своем, большом для меня доме, как дом сгорел. Это произошло летом. Я играла во дворе с соседским мальчиком, как услышала крики и почувствовала жар. Обернувшись, мы увидели, что дом уже полыхает – стояла жара – и отец едва успел вытащить Рахиль и тетку Розу из горящего дома. Через год, с трудом отстроив дом, отец напишет любимому двоюродному брату печальное письмо:
Дорогой мой Мшуха! Я получил твое письмо. Сижу у себя на втором этаже и печатаю ответ. Руки мои последнее время работают неважно, и я принужден все работу свою делать на машинке.
Жизнь моя прошла как во сне. Потратил много сил и энергии на создание жилища – все пустое. Тебе не советую строить дом. Последние силы береги для себя и детей. Теперь идет большое государственное строительство, частные дома обесценены, а живущие в городе массами стали получать квартиры.
Сколько горя я пережил со своим домом… Старухи мои, пусть они будут здоровы, сначала продали без нужды комнату, потом подожгли этот несчастный дом, теперь у меня с двух сторон соседи, которые доставляют мне бездну «удовольствия» и ко всему мне все время чудится пожар. Нет, Мишуха, не строй дом, пожалей себя самого. Дети скоро вырастут, поедут учиться, женятся, они сами себе все приобретут, а нам с тобой довольно будет иметь казенную квартиру и пенсию.
Наши все слава Богу немного поправились… Лето всех оживляет. Только у меня на душе так нехорошо, так грустно, что я с трудом взялся за это письмо.
Хотелось бы мне тебя повидать, посидели бы, поговорили, правда, вспомнить нечего, а будущее покрыто мраком. Есть такая книга «Жизнь во мгле», советую почитать…
Это письмо написано за полгода до смерти, оттого оно такое печальное.
То, куда мы спешим,
Этот ад или райское место,
Или попросту мрак,
Темнота, это все неизвестно,
Дорогая страна,
Постоянный предмет воспеванья,
Не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.
«Это вечная жизнь: поразительный мост, неумолчное слово», – так Иосиф Бродский продолжил свое удивительное стихотворение.
Вот еще одно печальное письмо отца, предназначенное моей матери:
Дорогая моя!
В моей жизни рыдать и плакать мог заставить меня только один человек – это ты. Как это странно и печально.
Я пережил этой зимой ужас и надежды, отчаяние и горе, беды и победу, голод и холод и много другого, что не перескажешь. Но самое большое переживание было у меня вчера в метро, когда я возвращался после работы и магазинов домой…
В вагон зашла молодая семья: отец, мать и маленькая девочка лет трех – четырех с задорным курносым вздернутым носиком. Отец поставил свой чемоданчик в моем углу, я уступил уютное местечко, а девочка села на чемоданчик. Мать, очевидно сердитая, осталась у двери. Тогда отец послал девочку за матерью… Мать-злюка что-то пробурчала и отослала девочку к отцу. Ребенок подошел, сел на чемоданчик, отвернул лицо к стенке, прислонился и заплакал… Плечики вздрагивали и волосики растрепались.
В эту минуту меня охватило такое чувство тоски, горести и отчаяния, что мне захотелось умереть, только умереть и больше ничего. Представилась мне моя доченька, целыми днями одна, среди чужих и грубых людей, без надзора, без режима, без отца, который ее так любит.
Я проклял свою жизнь и себя.
Невольно прошло перед моими глазами все прошлое…
Осенью 1953 года будет десять лет как мы сошлись. Три года, до 1946 года мы жили врозь. С 1948 осени по июль 1949 года жили врозь, восемь месяцев я провел в больницах Москвы – жили врозь, шесть месяцев ты была на курсах в Одессе – жили врозь. И вот теперь год, как ты выгнала маму и меня, и мы живем врозь. Таким образом, из 10 лет мы прожили вместе только три с половиной года и то плохо. Я далек от мысли, что ты меня любишь и ты мне верна, но ребенок… Я так люблю мою дочурку и мне так тяжело без нее.
Мозг мой лихорадочно ищет выхода из положения, но как видно мои мысли тебя не тревожат. Я недолго протяну, Рита. Смерть разлучит нас навсегда. Я думаю, что когда ты посмертно осознаешь, что у тебя был муж, плохой, конечно, (мало зарабатывал, много ел), но отец, любивший свою доченьку, и, может быть, даже, нежный и любящий человек.
Я часто старался тебе представить всю закономерность наших отношений для бытия, но все напрасно. Но помни, дочь – это для меня все в жизни, единственный любимый человек на земле, моя маленькая, жалкая лебединая песнь.
Ты счастливее меня. У тебя есть семья, дети, твои дети… У меня нет ничего, и то, что ты мне предлагаешь – это вечная неопределенность и беспокойство в своей собственной семье. Мать и Роза меня уверяют, что будут любить Славика и сделают все, чтобы было хорошо. Какая горькая судьба. Как поздно приходит к моим смирение. Если бы это было сделано в 1947, 1948 годах все было бы гораздо лучше, и я не мучился бы столько. Но все люди, которые меня любят, на самом деле никогда по существу меня не жалели и думали только о себе. А жизнь уходит, уходит безвозвратно, глупо и навсегда. Вот и у тебя уже здоровье не то. Я очень волнуюсь за тебя. Ты единственная опора детей и поэтому береги себя. Не изменяй мне ни с кем.
Сегодня воскресенье… За окном проливной дождь и на душе серая туча тоски и печали. Понимаешь ли ты это? Испытываешь ли ты что-либо подобное?
Дочурку мою поцелуй, приласкай и шепни ей, что папка ее обожает, ее боготворит.
Будь здорова и счастлива и да хранит тебя Бог.
Какое правдивое и грустное письмо! Два человека так любят друг друга и все время должны расставаться. Я уже писала, что кроме причин общих – дело врачей-вредителей, аресты, – были и причины частные: в семье отца не могли смириться с тем, что мать пришла со своим ребенком. Бабка моя обладала характером гневным и бурным и любила только одного человека в мире – своего сына, моего отца. Но воспринимала его как собственность, ей принадлежащую. С появлением любимой жены пришлось смириться, но чужой ребенок… На Славика орали, топали ногами, били, унижали. Только его здоровая натура помогла ему отбросить эти переживания детства. А что было делать матери? Она сбежала из этой семьи в глухую молдавскую деревню, отец немедленно поехал за ней, они были счастливы, пока бабка не приехала к нам. Рахиль не могла жить без сына. Она буквально питалась его энергией. Жизнь без него была бессмысленна. И все началось снова. Тогда-то мать и выгнала их обоих. И снова письма любви и разлуки. А ведь моя мать так хотела любить и быть любимой, так умела любить и хотела, чтобы все было хорошо. Бог дал ей любящего человека, но не все будет хорошо. В начале их любви, какие страстные и теплые письма пишет мать моему отцу из Киргизии!
Одно из писем 46 года – предзнаменование будущего, того, что будет, и о чем они не догадываются.
Мой дорогой и любимый! Прошлая ночь была полна происшествий. Ночью разбудил меня стук в дверь и крик: «Рита, вставай, театр горит». Я кинулась к окну и остолбенела от страшного зрелища: среди ночной мглы театр горит как огромный костер, языки пламени тянутся высоко к небу и искры разносятся далеко вокруг. Начался пожар часа в три ночи, и к утру его еле потушили. Театр сгорел дотла – зрительный зал, все костюмерные, все декорации. Остались лишь второстепенные помещения. Говорят, убытки исчисляются в миллионы рублей, только на ремонт было потрачено 150 тысяч.
С увольнением пока не получается, но ты не забывай меня и люби и все будет хорошо. Мои чувства к тебе останутся неизменными, даже если судьба разлучит нас (не дай Бог!) на много лет.
Судьба, действительно, разлучала их постоянно, много лет. Но по-прежнему они молодо и пылко любили друг друга. И пожар тоже повторится. Дом, сгоревший в июне 1956 года. До сих пор снится мне огонь, пожирающий все, что мы называем прошлым. Отец так и не смог очнуться после этого пожара. До конца своих дней будет он писать о своем доме и об этом пожаре. Дом был местом, где мы все жили, единственным гнездом, точкой опоры, но он был и страшной обузой и напоминал Кроноса, который пожирает своих детей. Зная это, отец напишет матери в 50-м году трогательное и грустное письмо.
20.9.50 перед вечером Нового года (еврейский Новый год).
Риточка! Дочурка, родная, жизнь моя в будущем!
Я много передумал за эти дни, много перестрадал, и сейчас, когда я должен отдать отчет Богу о моих делах и помыслах, я говорю, что видит Он, как я относился и отношусь к своей семье. Еще в августе я составил завещание, в котором одну вторую дома я завещал маме и Розе, а другую тебе и дочери. Но я хочу и стараюсь еще больше обеспечить вас, еще вернее и не быть вам обузой… Вот почему я так стараюсь продать этот дом. И я думаю, что мне это удастся. Дорогая моя Риточка, трудно в письме все рассказать, все описать. Дай Бог, чтобы на Новый год, наш, еврейский, вы все и я, и мама, и Роза, и дочка наша – все мы были живы и здоровы, счастливы и чтобы горя не знали.
Моя родная жена, я так люблю тебя и наших деточек, так люблю, что тебе даже трудно представить. Поздравляю тебя с Новым годом. Скоро взойдет и первая звезда, и я буду поститься, и писать уже больше нельзя. Целую вас – родные мои, любимые, милые, желанное мое семейство.
Отец был прав. Дом съел и мою мать. Всю жизнь, с 1953 года, когда мы приехали жить в Тайнинку и до дня своей гибели в 1982 году, почти 30 лет, мать ездила на работу в Москву на электричке. Час туда и час обратно. За это время в ее детской поликлинике, в центре Москвы побывали десятки врачей, приехавшие по лимиту. Они получали комнаты, потом квартиры, потом устраивались жить и работать, как им хотелось. На все просьбы матери чиновники неизменно отвечали: «Вам ничего не полагается. У вас есть дом под Москвой, где вы прописаны и живете. Ничем помочь не можем». Даже за собственные деньги ничего нельзя было купить – площадь большая. Какое дело чиновнику, что пожилому человеку дом не поднять, что на работу ездить тяжело из загорода на электричке. Как произошло, что 30 лет каждый день она переходила железную дорогу, идя на работу, и вдруг, осенью 1982 года попала под поезд, невозможно представить! Первые дни, прошедшие после этого не помню, я была невменяема, но на 9 день в полудреме мне привиделась счастливая мать, со звонким, молодым смехом она говорила мне: «Не переживай! Мне так хорошо здесь!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?