Текст книги "Три этажа"
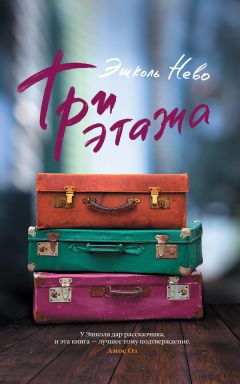
Автор книги: Эшколь Нево
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Именно туда, в наше пристанище, я и побежал. Айелет осталась дома с Яэль, поближе к телефону. Рут вместе с полицейскими отправилась обходить те места, где обычно любил бродить Герман. Но у меня было свое предчувствие; оно и заставило меня броситься в цитрусовую рощу. На улице уже стемнело. У входа горели фонари, но там, под деревьями, все было черно, хоть глаз выколи. Меня до крови оцарапала ветка, но я этого даже не заметил. Только потом, дома, обнаружил ссадину. Я бежал. В ноздри ударил запах гнили. Землю устилали фрукты, вовремя не собранные тайскими рабочими; над ними кружили стаи мух.
Добравшись до третьего ряда, я уже знал, что они там. Я их почуял. Не могу тебе это объяснить. Может, нос уловил запах шампуня Офри. Или сработала невидимая нить, которая связывает родителей с детьми: ты просто чувствуешь, что твой ребенок рядом, даже если его не видишь. Я вставил обойму, взвел курок и положил палец на спусковой крючок. С той минуты, как я вошел в цитрусовую рощу, меня преследовала одна и та же картина, и я знал, что, если мои худшие предчувствия оправдаются, Герман получит пулю в висок. Не в спину, чтобы пуля, упаси бог, не прошла сквозь него навылет и не попала в нее. Я зайду сбоку, приставлю дуло к его виску и нажму на спусковой крючок.
Плач. Первым я услышал плач. Отец различит плач своего ребенка из сотни хнычущих детей. Я мгновенно понял, что плачет не Офри. Что происходит? Неужели он, кроме нее, похитил еще одну девочку? Держа палец на спусковом крючке, я на цыпочках двинулся вперед. Ребенок угадает шаги отца из сотен других родителей. Я тихо подкрадывался ближе, когда совсем рядом вдруг раздался голос Офри: «Папа?» Голос звучал нормально. Ни следа истерики. «Да, милая, это я», – отозвался я. И прошел еще несколько шагов.
Я раздвинул последние ветки, которые заслоняли мне картину, и увидел их. Они сидели на циновке. Офри вытянула вперед свои ножки, и Герман положил ей на бедра свою крупную седую голову. Его галстук свисал у нее с колена. Герман плакал.
Он всхлипывал. В промежутке между всхлипами он поднял на меня свои серые глаза и сказал: «Простите меня. Пожалуйста, простите!»
Это было странно. Он просил его простить, но никакого сожаления у него в глазах я не заметил. В них светились что-то другое.
Я велел ему подняться.
Он продолжал рыдать. И не двигался с места. Я принял его плач за свидетельство признания того, что он совершил нечто непростительное. Я навел на него пистолет и сказал: «Вставайте, Герман, иначе я сам не знаю, что с вами сделаю».
– Он сломался, папа, – сказала Офри. – Он не может встать.
– Что значит – не может встать? – возмутился я.
При виде его головы у нее на бедре у меня как будто помутился разум. Я схватил его за руку и резко дернул вверх. Раздался хруст. Похоже, я сломал ему кость. Или порвал сухожилие. Он упал на колени и застонал от боли. Я отпустил его руку и позволил ему упасть на циновку.
– Что он тебе сделал? – спросил я Офри.
Она молча отвела глаза. Возможно, если бы она мне ответила, все сложилось бы по-другому. Но она не ответила, просто отвела глаза.
– Скажи мне, Офри, – настаивал я. – Как вы вообще здесь очутились?
– Мы заблудились, – сказала она. И снова замолчала.
Герман продолжал стонать от боли. У него на брюках, в районе ширинки – я только что это заметил – расползлось влажное пятно. Я не знал, когда оно появилось – раньше или прямо сейчас. Но в глазах… В глазах горел похотливый огонек. Вот что я в них увидел. Очевидный огонек сексуального возбуждения.
Я все еще держал палец на спусковом крючке. Мне хотелось пристрелить его, прикончить, как больную лошадь. Клянусь тебе!
– Вы заблудились? – спросил я Офри.
– Да, мы гуляли, и вдруг Герман сломался, и мы не знали, как вернуться домой, потому что зашли очень далеко, мы все ходили и ходили, и у него ужасно разболелись ноги. Потом он захотел писать, и, как раз когда он сказал, что хочет писать, я поняла, что мы идем по тропинке к цитрусовой роще, и сказала, что знаю одно место.
– Значит, это ты подала ему идею? Но зачем?
– Я же знала, что ты придешь сюда меня искать, – сказала Офри и обняла меня. – Я знала, что ты найдешь меня, папа.
Она заплакала, уткнувшись головой мне в ногу. И это не были слезы облегчения. Нет. В ее всхлипах прорывалось что-то такое, что меньше всего походило на облегчение. Я позвонил Айелет. Сказал, что нашел их и нуждаюсь в помощи, потому что Герман, судя по всему, сломал ногу и не может идти. Она спросила: «Как она?» – «Могло быть и хуже», – ответил я. «Что ты имеешь в виду?» – спросила она. «Так ты собираешься организовать подмогу или нет?» – сказал я.
Как выяснилось, полиция в подобных случаях действует по четко отработанной схеме. Вынужден признаться, что я был приятно удивлен. В первые же сутки Германа и Офри опросили и подвергли тщательному медицинскому осмотру с целью, как выразился руководитель отдела, «исключить вероятность сексуального насилия». С Германом разговаривали в ортопедическом отделении больницы Ассафа Харофе. С Офри – в полицейском участке, в присутствии социального работника. Дознаватели пришли к твердому убеждению: он не сделал ничего, что могло быть квалифицировано как сексуальное надругательство, хотя физический контакт между ними, безусловно, имел место. Гуляя по улицам, они держались за руки. Один раз он попросил ее поцеловать его в щеку. Затем, когда стемнело и они заблудились, он почувствовал унижение из-за своей беспомощности и заплакал, а она, пытаясь успокоить, гладила его по голове. Но этим все и ограничилось. Никаких следов спермы. Ни царапин, ни кровоподтеков. «К счастью, – сказал офицер полиции, – у нас нет никаких оснований для продолжения следствия».
Но я вовсе не чувствовал себя счастливым. Меня грызли дурные предчувствия. Они меня не оставляли. С какой стати он посреди улицы попросил, чтобы она его чмокнула? Даже не на лестнице в подъезде, а посреди улицы? Неужели сил не было сдержаться? А потом, этот огонек, который я уловил в его глазах… И его безутешные рыдания – никто не станет так плакать только потому, что заблудился. Что-то здесь не сходилось, хотя я не понимал, что именно. Но все, что говорил офицер полиции, звучало логично, и Айелет ему поверила. В последующие дни Офри вела себя как обычно: без малейших признаков перенесенной травмы, а у меня не было никаких доказательств. Только предчувствие.
Первые симптомы проявились через две недели. Дочка отказалась ходить на дополнительные занятия: не желала продолжать учиться играть на скрипке, посещать кружок по рисованию комиксов и секцию гимнастики. Я отвозил ее на очередные занятия, но она оставалась сидеть в машине.
– Почему ты не хочешь туда идти, Офри?
– Потому что не хочу.
– А почему не хочешь?
– Потому что.
В первую неделю я ей уступал. На вторую неделю проявил настойчивость, чуть ли не силой вытащил ее из машины и отвел на кружок комиксов. Через пятнадцать минут мне позвонила секретарь досугового центра: «Ваша девочка без конца плачет. Это мешает другим детям сосредоточиться на занятиях. Заберите ее, пожалуйста». Я пришел за ней, крепко ее обнял и спросил: «Что случилось, милая?» Она сжалась в моем объятии, словно испуганная прикосновением мужчины. Словно знала, что прикосновение мужчины может быть опасным. «Ничего, папа, – сказала она. – Я же говорила, что не хочу идти в кружок, а ты меня заставил». Айелет позвонила на работу учительница. Я узнал об этом звонке вечером, после того как мы убедились, что девочки спят. Оказывается, Офри перестала на перемене выходить во двор. Оставалась сидеть за партой и читать книжку. Подружки звали ее играть, но она им не отвечала. У нее снизилась успеваемость. В последнем диктанте по английскому она сделала шесть ошибок – больше, чем за весь предыдущий учебный год. Я пытался с ней поговорить. Выяснить, в чем дело. Она сказала, что ее одноклассники – какая-то малышня. Что ей неинтересно с ними играть. Что они болтают глупости и делают глупости. Что за глупости? Она в ответ ни слова. «Может, ты будешь выходить на перемену через раз?» – предложил я. Она промолчала. Утром обнаружилось, что у нее мокрая постель. Ее младшая сестренка только что научилась обходиться без подгузников, а Офри снова начала писаться по ночам. Она не казалась удивленной или смущенной. Молча шла в душ, мылась, вытиралась, доставала из шкафа и надевала чистые трусы. Ладно, с кем не бывает, подумал я, но назавтра повторилось то же самое.
Примерно через неделю я сказал Айелет: «С нашей дочерью творится что-то ужасное, а мы только ушами хлопаем». Мы лежали в постели, глядя в темноте в потолок, и Айелет тоненьким голоском, какого я раньше от нее не слышал, сказала: «Я не знаю, что делать, Арнон, я никогда не чувствовала себя такой беспомощной».
Я спросил, заметила ли она, что в последнее время у Офри изменился взгляд.
– Взгляд? – переспросила она. – Что значит – изменился взгляд?
Я так и не понял, она в самом деле ничего не заметила или притворялась, и сказал: «В ее взгляде больше нет невинности. Слушай, там, в цитрусовой роще, случилось что-то, о чем она нам не рассказывает. Когда я их там обнаружил… Не знаю… Герман вел себя как-то странно».
– Но полиция… – сказала Айелет все тем же тоненьким голоском.
– В интересах полиции, – прервал я ее, – закрывать, а не открывать дела.
Мы позвонили психологу. Ее порекомендовала нам приятельница Айелет. Ты в курсе того, что я думаю о психологах, но, когда припрет, идешь на все. Мы отправились в ее клинику в мошаве. Клиника располагалась в небольшом каменном строении позади роскошной виллы. В нее вел отдельный вход с тщательно замаскированной дверью. Ради анонимности пациентов. Внутри обстановка поражала богатством. Каждый предмет мебели – кожаная кушетка, стол, стулья – стоил примерно столько же, сколько наша квартира. Айелет воскликнула: «Как у вас красиво!» Она никогда не скупится на комплименты посторонним людям.
Психолог поблагодарила ее и спросила, что нас к ней привело. Когда мы изложили ей суть дела, она спокойным голосом сказала: «Предлагаю вам методику «Семь встреч». Две с вами. Две с вами и с девочкой. Две только с девочкой. И последняя – для подведения итогов и оценки результата».
Во время седьмой встречи она огласила свое заключение: «Я думаю, что было бы неправильно искать единственный внешний фактор, влияющий на то, что происходит с Офри. Перед нами комбинация ряда факторов. Рождение младшей сестры, повышение школьных требований, разрыв между уровнем ее развития и уровнем развития других детей, проявляющийся в ее отношениях со сверстниками. И конечно, неприятный инцидент с соседом, который, бесспорно…»
Айелет согласно кивала головой. У меня возникло впечатление, что она готова заулыбаться. Но не радостной улыбкой. Улыбкой облегчения. Ведь стоит услышать про «комбинацию ряда факторов», и жизнь предстает в совсем другом свете, не так ли? Знаешь что? Я не исключаю, что именно из-за этого я и сорвался. Из-за улыбки Айелет. Или из-за формулировки психолога. «Неприятный инцидент». Эта их профессиональная терминология. И за это бла-бла-бла мы платили пятьсот шекелей в час. Пятьсот шекелей! Неудивительно, что она может покупать такие кушеточки. Поэтому я перебил ее излияния на тему «комбинации факторов» и в лоб спросил: «Рассказала вам Офри или нет? И что она вам рассказала?»
Айелет положила руку мне на бедро, как ребенку, и сказала: «Арнон, позволь Нирит закончить…» Я сбросил ее руку и заорал: «Я желаю знать, что она рассказала вам о случившемся в цитрусовой роще! Я уже два месяца не смыкаю из-за этого глаз, а вы, насколько я понял, будете битый час трындеть нам про комбинацию факторов, а потом скажете, что очень сожалеете, но наше время истекло…»
– Предлагаю всем нам успокоиться, – сказала психологиня.
Я стукнул кулаком по столу: я не собираюсь успокаиваться! Я ваш клиент, и я требую сообщить мне сведения, которыми вы, в отличие от меня, располагаете.
Психологиня поправила у себя на шее красный шарфик. Она постоянно носила яркие шарфики, хотя на улице стояла жара. Меня обуяло желание схватить этот шарфик за концы и придушить ее.
– Я ничего от вас не скрываю, Арнон, – сказала она. – Из того немногого, что мне удалось выпытать у Офри, складывается картина, очень похожая на ту, которую выявило полицейское расследование. Они заблудились. Было темно. Она повела его в цитрусовую рощу, потому что была уверена, что именно там вы будете их искать.
– Она говорила, что по пути он просил ее его поцеловать?
Как мы ни давили, нам не удалось выжать из нее никаких новых подробностей. Зато она сказала:
– Во время нашей последней встречи я предложила ей нарисовать ее семью. Вот ее рисунок. Девочка опирается на отца, мать с сестрой стоят рядом. Здесь нет ни одной детали, которая указывала бы на травму, которую, как вы боитесь, он ей нанес. Иными словами, я предполагаю, что в цитрусовой роще не произошло ничего, связанного с сексом. Я подчеркиваю, что это не утверждение, а предположение, потому что в подобных случаях существует вероятность, что случившееся настолько травматично, что память о нем подавлена и загнана глубоко в подсознание, пока не позволяя нам до себя добраться. – Пока? – спросила Айелет. – То есть вы верите, что до нее можно добраться?
Психолог поиграла концами своего шарфика и сказала, что она этого не знает.
Я решил расставить все точки над «i»:
– Вы хотите сказать, что мы, возможно, никогда не узнаем, что там произошло? Что мы никогда ни в чем не будем уверены?
Мне хватило легкого наклона ее подбородка, который я заметил еще до того, как она открыла рот. Я встал с ее гребаной кушетки и вышел, хлопнув за собой дверью. С грохотом. И надеждой, что в ее выпендрежной двери останется уродливая трещина. Айелет нагнала меня на парковке.
– Что с тобой, Арнон, ты что, спятил?
Я сказал ей, что мне нужны ответы, а не траханье мозгов и что я еду к единственному человеку, от которого могу их получить.
Возможно, если бы Айлет пошла к Герману вместе со мной, не случилось бы того, что случилось. Но она не пошла. Ей было неудобно перед психологиней. Представляешь? Мы платим ей пятьсот шекелей в час, и нам же еще и неудобно.
– Вернемся, Арнон, – сказала мне Айелет. – Хотя бы до конца приема.
– Ты со мной едешь или нет? – спросил я.
– Нет, не еду. Если ты свихнулся, это не означает, что я тоже должна свихнуться.
Я сел в машину и поехал в больницу Ассафа Харофе. Я знал, что Германа уже перевели из ортопедического отделения в терапию. Больше я ничего не знал. На протяжении последних недель, если у нас заканчивался лук, я не готовил шакшуку. Они тоже не стучались к нам в дверь. Из того, что большую часть дня их машины на парковке не было, я сделал вывод, что Герман все еще в больнице, а Рут сидит с ним. Как-то раз Айелет столкнулась с ней в подъезде. Они возвращались с работы примерно в одно и то же время. Рут сказала, что, пока Герман лежал в ортопедии, у него обострились все возрастные болячки, и его перевели в другое отделение.
Я спросил Айелет, извинилась ли перед ней Рут. – Наоборот, – сказала Айелет.
– Что значит – наоборот?
– Насколько я поняла, она на нас очень зла.
– За что же ей на нас злиться?
– Она утверждает, что это из-за тебя Герман попал в больницу. Она говорит, что в цитрусовой роще ты дернул его за руку. Это правда?
– Он не мог сам встать.
– Так ты дернул его или нет?
– Дернул.
– Так вот, по ее мнению, во всех его бедах виноват ты.
– Она упоминала, что мы должны ей деньги?
– Нет, – сказала Айелет. – Но мы и правда должны им заплатить.
– Плати, если хочешь. От меня они не дождутся ни шекеля.
В торговом центре рядом с больницей я купил букет цветов. Я решил сделать вид, что пришел с миром. Это был единственный шанс, что Рут разрешит мне остаться с ним в палате наедине. В приемной терапевтического отделения мне назвали номер палаты – четырнадцатая. Ближайшую к двери койку палаты занимал старик-араб, который посмотрел на меня так, словно я солдат и ворвался к нему в дом. Я прошел дальше. Отодвинул занавеску и увидел Германа и Рут. Он лежал в постели с закрытыми глазами, из носа торчала трубка. Она сидела рядом и читала «Йекинтон» – газету йеков, которую им раз в неделю бросают в почтовый ящик. На тумбочке рядом с кроватью стояла тарелка с тонкими ломтиками ее мраморного пирога. Оба выглядели гораздо более старыми, чем мне помнилось. Ее пышная шевелюра вдруг показалась жидкой, как будто у нее выпала половина волос. Она подняла глаза от газеты и сказала:
– А, это ты.
Я протянул ей букет. Она сказала:
– Спасибо.
Но в ее голосе не слышалось благодарности. Я спросил, как он.
– Плохо, – ответила она.
– Что с ним?
– Все. Помутнение сознания. Закупорка сосудов. Опухоль в толстой кишке. Врачи говорят, что давно не видели такого букета болезней у одного пациента.
Я молчал. Что тут скажешь? Она тоже молчала. Так бывает, когда людям нужно слишком многое сказать друг другу.
Старик-араб застонал. Герман открыл глаза, посмотрел сначала на Рут, потом на меня. Задержал взгляд на мне. Отвел глаза и уставился на стену перед собой, как будто ему показывали финал чемпионата мира по футболу.
– Чуть не забыл, – сказал я Рут. – Медсестры просили вас зайти в администрацию. Надо заполнить какие-то бумаги.
Она посмотрела на меня с подозрением, поэтому я как можно сердечнее сказал:
– Не волнуйтесь, я с ним посижу.
Она вышла, и я задернул за ней занавеску. Подождал, пока не хлопнет дверь палаты, и тут же, не теряя ни минуты, наклонился над Германом, схватил его за подбородок, сдвинул влево, чтобы поймать его взгляд, и сказал:
– А теперь, господин Герман Вольф, ты мне расскажешь, что произошло в цитрусовой роще.
Он не ответил. Я выдернул у него из носа трубку и наклонился к нему еще ближе:
– Что ты сделал с моей дочерью, Герман?
Он по-прежнему молчал, но в его серых глазах вспыхнула искра.
«Я изображаю из себя идиота, чтобы не отвечать на твои вопросы», – вот что без слов говорила эта искра.
И потому я утратил над собой контроль.
Я обеими руками схватил его за шею и начал ее сжимать. «Если ты сейчас же мне не расскажешь, я тебя удавлю», – прошипел я.
Я допустил ошибку, оставив ему руки свободными. Надо было душить его одной рукой, а второй прижать его руки к кровати. Через несколько секунд он бы сдался и заговорил. Я в этом не сомневаюсь. Но я этого не сделал, и он сумел дотянуться до кнопки вызова. Я этого даже не заметил. Не слышал звонка. Но вдруг кто-то просунул мне руки под мышки и потянул назад, а кто-то еще навалился на меня спереди. В ход пошли локти, и кулаки, и пинки ногами. Все орали. Я отбивался, как лев, клянусь тебе, но в палату набежала куча санитаров, и в конце концов они прижали меня к засранному больничному полу, а один уселся мне на спину и с жутким русским акцентом сказал, что сейчас прибудет полиция и мне лучше не дергаться.
Вечером в участок приехала Айелет и внесла за меня залог. Она приехала прямо с работы, в адвокатской мантии, и, когда она появилась, я на долю секунды усомнился, кто это – то ли моя жена, то ли незнакомая красавица, которой я плачу, чтобы она защищала меня в суде. Я крепко ее обнял. Я хотел нащупать выступающую косточку у нее ниже поясницы. Удостовериться, что это она. Она ответила на мое объятие. Молча. Подарила мне это утешение.
Когда мы вышли из участка, она сказала:
– Тебе крупно повезло. Рут решила не подавать на тебя жалобу. А без ее заявления полиция не станет заводить на тебя дело.
До самых ворот участка я шел молча. Честно говоря, я все еще был в шоке от ареста. Помнится, в одной из своих книг ты описываешь, как парня сажают за решетку. В последней, да? Точно, в последней. Не обижайся, но ты понятия не имеешь, что это такое – оказаться на нарах. Это все равно что получить по морде! Что я имею в виду? Я всегда считал, что люди делятся на две категории – нормальные и преступники. И ты принадлежишь к одной из них. Промежуточных вариантов нет. Но когда ты лежишь в камере на вонючем матрасе и смотришь в потолок или на стены, исписанные твоими предшественниками, ты понимаешь, что все зависит от того, насколько сильно на тебя надавили и на какую болезненную точку нажали. В каждом из нас сидит преступник, в любую минуту готовый поднять голову, понимаешь?
На парковке Айелет подошла к машине со стороны водителя. Я сказал, что могу сам повести, но она села за руль, как будто меня не слышала. Когда мы тронулись, я сказал: «Знаешь, почему Рут не подала жалобу? Потому что понимает, что лучше не открывать этот ящик Пандоры», на что Айелет ответила: «Она не подала на тебя жалобу, Арнон, потому что я упросила ее этого не делать. Я сегодня с обеда не слезала с телефона, все ее уговаривала. Вот чем я сегодня занималась на работе. Объясняла, что у тебя трудный период, напоминала, сколько хорошего мы для них сделали. Знаешь, сколько тебе светило, подай она жалобу? Четыре года. Четыре года тюрьмы! Четыре года без Офри и Яэль!»
– То, что она не стала жаловаться, – не сдавался я, – только доказывает, что в цитрусовой роще что-то произошло. Ты защищаешь своего мужа, она своего. Это сделка. Жаль только, что расплачивается за эту сделку твоя дочь.
Тут Айелет взвилась:
– Ты больной на всю голову! Если честно, я вообще не понимаю, чего ты хочешь. Полиция говорит, что ничего не было. Психолог говорит, что ничего не было. Что ты увидел, когда туда добрался? Как плачет Герман. Тогда в чем дело? Ты что, ловишь от всего этого кайф?
– Что значит – кайф? На что ты намекаешь?
– Сама не знаю.
– Ну уж нет. Начала, так договаривай.
– Я правда не знаю, Арнон. Я тебя не понимаю. Я не понимаю, почему ты наорал на психолога. Не понимаю, почему ты попытался задушить Германа. Не понимаю, что с тобой происходит.
– Что со мной происходит? Моя дочь идет в цитрусовую рощу со стариком, который любит, когда его целуют. В темноте. Когда я их обнаружил, у него на ширинке было влажное пятно, а в глазах – похоть. Потом моя дочь начинает мочиться в постель. Каждую ночь. Вот что со мной происходит. Тебе все еще непонятно?
– Слушай, Арнон, не все же такие сексуально озабоченные, как ты.
– Это я сексуально озабоченный? Я?
– Да, ты.
– Что?!
– То, что слышишь.
– А тебе известно, – сказал я, – что из всех моих друзей я единственный, кто ни разу не изменил жене? Единственный!
– Постой-постой, – сказала она. – Тебе что, за это полагается награда?
Спокойно, дружище, без нервов, о’кей?
Я уже двадцать лет молчу как рыба о твоих шалостях. И не только я. Вся наша рота как в рот воды набрала. Ты знаешь, что на меня можно положиться.
Разумеется, я не называл никаких имен. Кроме того, никто не поверит слухам о тебе, особенно если послушать, как ты в разных интервью отзываешься о Шири и своих мальчишках. Ты – образцовый семьянин. Да и, если разобраться, что там было-то? Ну, немецкая журналистка, ну, поцелуй в щечку… Что такого? И вообще, разбить одно нацистское сердце – святое дело.
Ну как, успокоился? Можно продолжать?
В каждой ссоре есть точка невозврата, после которой уже ничего нельзя исправить. Ты с таким сталкивался? Вот именно это с нами и произошло. Что такого я ей сказал? «Если бы это случилось с Яэль, ты бы вела себя по-другому».
Согласись, это не какая-нибудь государственная тайна. В каждой семье у родителей есть любимчики. Вспомнив хоть Библию, историю Иакова и Исава. Каждому ясно, что Иаков – любимчик матери, а Исав – любимчик отца. Короче говоря, это естественно, что родитель одного ребенка любит больше, чем другого. А вот что неестественно – как выяснилось – это говорить об этом вслух. Ты не имеешь права заикаться о своих предпочтениях. Но я не сумел вовремя прикусить язык. Она сидела за рулем в своей мантии, с собранными в пучок волосами, и говорила со мной с такой снисходительностью, как будто она интеллектуалка, а я темнота. Я был обязан поставить ее на место. Их иногда надо ставить на место.
Но она остановила машину и велела мне выметаться. Она не случайно затормозила прямо посреди Четвертого шоссе. Зная, что рядом нет ни одной автозаправки, а до ближайшего перекрестка пилить и пилить. «Не дури», – сказал я ей. А она: «Если ты не выйдешь, выйду я».
Я прожил с Айелет достаточно долго, чтобы понять, что она не шутит. «Поезжай дальше», – сказал я. «Я выхожу», – ответила она и открыла дверцу. В машину ворвался гул автострады. «Закрой дверцу, – сказал я, – это опасно». Она повторила: «Или ты выходишь, или я». И оставила дверцу открытой.
Я вышел. Не мог же я бросить ее в темноте посреди дороги. Она тоже прожила со мной достаточно долго, чтобы хорошенько меня изучить. Чертова кукла.
Когда я служил в армии, она однажды в субботу приехала на Первую учебную базу меня навестить. Из Хайфы до Мицпе-Рамона добиралась на автобусах. Меня в жизни не окружали таким уважением, как в ту субботу. Товарищи освободили меня от дежурств и других работ и предоставили нам комнату, чтобы мы могли побыть наедине. Моей заслуги в том не было. Не сказать, что меня так уж любили во взводе. Это все она. А что она сделала? Проявила к ним каплю интереса и за ужином посмеялась над их шуточками. И все, как один, легли к ее ногам. Айелет это умеет. Ты ведь тоже на нее клюнул, я сам видел. Не отнекивайся, я заметил, как ты на нее посмотрел, когда она предложила тебе мороженое. Ты бросил на нее томный писательский взгляд. Ладно, я привык, что мужики так на нее реагируют. Кроме того, не обижайся, но ты точно не в ее вкусе.
В субботу вечером я проводил ее к воротам базы, чтобы посадить на автобус. Мы простояли там целый час, а то и полтора. Время пролетело незаметно, потому что мы разговаривали. В разговоре с Айелет забываешь о времени. У нее всегда наготове новая удивительная идея, которой она готова с тобой поделиться. Мы вместе двадцать лет, но я никогда не знаю, что она произнесет в следующую минуту.
Автобуса все не было. В конце концов из будки вышел дежурный и сказал нам, что в субботу вечером автобус не ходит. Надо идти пешком до перекрестка Призраков, а там ловить попутку. Она крепко обняла меня и сказала: «Пока, Нонни». – «Ты что, Лелет, – сказал я, – я тебя одну в такой темноте не отпущу. Я тебя провожу». Она удивилась: «А разве тебе можно уходить с базы?» Я соврал, что можно. Разумеется, покидать базу было строго запрещено; мало того, через два часа после окончания Шаббата у нас по расписанию была перекличка. Шансы, что я вовремя вернусь назад, стремились к нулю. Короче, я ушел в самоволку. Чем я рисковал? Вылететь с курса. Автоматом. Без суда и следствия. Но это было сильнее меня. Я просто не мог допустить, чтобы она посреди ночи стояла одна на перекрестке Призраков. Даже если это означало, что меня попрут с офицерских курсов.
Тут недавно была одна история, в лесистой части Кармеля, ты наверняка про нее слышал. Друзы напали на парочку на придорожной стоянке возле «Маленькой Швейцарии». Неужели не слышал? Они отогнали парня, а девчонку изнасиловали. В ходе следствия он сказал копам, что слышал ее крики о помощи, но не вернулся, потому что боялся. Нет, ты мне скажи, это мужик? Это выродок, а не мужик. Я бы нашел булыжник покрупнее и размозжил этим друзам головы. А вернее всего, вообще не ушел бы со стоянки. Встал бы между друзами и девчонкой и сказал бы: «Если вам так ее хочется, сперва убейте меня».
В ту субботу мы с Айелет вместе дошли до перекрестка. Она рассказала мне историю одной своей знакомой, с которой вместе служила. Про нее болтали, что у нее роман с офицером. Тут же она по ассоциации вспомнила фильм с Робином Уильямсом, который смотрела в субботу без меня, потому что меня не отпустили в увольнение, а от Робина Уильямса перескочила к фильму «Доброе утро, Вьетнам!» и заявила, что, по ее мнению, на наше поколение, не участвовавшее в больших войнах, сильно повлияла киношная война во Вьетнаме. Я слушал ее, время от времени вставляя собственные комментарии и стараясь не выдать свою нервозность.
Только посадив ее в машину и убедившись, что в салоне чисто, а водитель носит очки, я как безумный бросился на базу. В жизни я так быстро не бегал. Если бы измерить мою пробежку секундомером, я бы обошел трех эфиопов, занявших первое, второе и третье места, и побил бы рекорд офицерских курсов за всю их историю. Я опоздал на перекличку на пять минут. Но командир взвода сам опоздал на полчаса. Я чудом не вылетел с курсов. После церемонии, посвященной окончанию курсов, я рассказал Айелет, как рисковал в ту субботу. Я вообще не люблю вранья. Она сказала: «Ты с ума сошел. Я бы прекрасно добралась одна». На что я возразил: «Если бы меня отчислили, я бы расстроился, но за несколько месяцев принял бы это как данность. Но если бы, не приведи господь, с тобой что-нибудь случилось, я бы не смог дальше жить».
Я рассказываю тебе все это, хотя, если честно, шагая вдоль обочины Четвертого шоссе, думал совсем не про это. До самого перекрестка я размышлял о том, что у Айелет суровый, возможно слишком суровый, характер и что мне, возможно, имеет смысл найти себе кого-нибудь посговорчивей. Дойдя до перекрестка, я стал думать о своем отце. Память иногда играет с нами странные шутки. Я вдруг почему-то вспомнил, что он однажды выкинул. У Мики, моего брата, с шестнадцати до восемнадцати лет была подружка. Дафи. Милейшее создание. Невероятно славная. Длинные гладкие волосы. Огромные карие глаза. Мои родители ее обожали. И вот в один прекрасный день Мики приводит домой другую девчонку. Закрывает дверь своей комнаты. И через несколько минут мы слышим оттуда определенные звуки – ну, понимаешь какие. И тут отец встает с кресла – а он в это время смотрел матч с участием «Маккаби», то есть ты представляешь себе серьезность ситуации, – входит к нему в комнату, хватает его за грудки, вытаскивает в гостиную и кричит: «А где Дафи?» – «А что – Дафи?» – отвечает брат. Тем же наглым таким тоном, каким сегодня с ним разговаривают его собственные дети. Тогда отец как врежет ему по физиономии. «Если, – говорит, – ты больше не любишь Дафи, будь мужчиной и расстанься с ней. В семье Леванони мужчины уважают своих женщин. Так делали мой отец и отец моего отца, и ты тоже будешь вести себя так. Ясно?»
С этим воспоминанием я дошел от перекрестка до дома. И уже планировал, как с опорой на него заткну рот Айелет и докажу ей, что ничего я не сексуально озабоченный. Я заранее заготовил прекрасные фразы, характеризующие мужчин семейства Леванони, но, когда я открыл дверь, меня встретила тишина. Дверь, отделяющая гостиную от садика, была закрыта; диван был застелен простыней, поверх которой лежало тонкое одеяло. На двери спальни красовалась прилепленная скотчем записка: «Не желаю спать с тобой в одной постели. Ты меня пугаешь. Разорви эту записку (если, конечно, не хочешь, чтобы ее прочитала Офри). Спи в гостиной».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































