Читать книгу "Обольщение. Гнев Диониса"
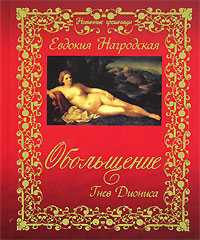
Автор книги: Евдокия Нагродская
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
За завтраком я тоже не могу оторваться от Лулу.
– Вы оба не едите и только целуетесь, – замечает с улыбкой Старк. – Я вас рассажу.
– О нет, нет, папа, я ем, все ем! – И маленькая ручка крепко цепляется за меня.
– И я ем, ем, все ем! – вторю я. – А после завтрака мы откроем сундук и посмотрим, что там есть. Что бы тебе больше всего хотелось? – спрашиваю я, зная, что ему хотелось большой пароход, который можно пускать в бассейне. – Ну скажи-ка?
– Чтобы ты приехала.
– А потом?
– Санки.
– Но теперь лето.
– Ах да! Тогда живую лошадь.
На моем лице выражается такое огорчение, что я не могу вот сейчас вынуть моему сынишке живую лошадь из чемодана, что Латчинов и Старк смеются, глядя на меня.
– Опростоволосились, мамаша. Как это, в самом деле, вы лошадь-то не привезли? – говорит Васенька.
Васенька после болезни Старка так и не вернулся в Рим, страшно ругает Париж и этих мелких французов, но не уезжает обратно.
Я смотрю на Васеньку пристально и с удивлением восклицаю:
– Васенька, да вы похорошели! У вас ужасно элегантный вид!
Эти годы в Париже он сильно нуждался. Латчинов и Старк выдумывали все способы, чтобы помочь ему, но это плохо удавалось. Трудно было заставить его принять эту помощь. Он согласен был только кормиться у Старка.
Васенька смотрит на меня и говорит гордо:
– Это я разбогател теперь.
– Каким образом?
– Зарабатываю много. Деньги некуда девать. Вот сегодня сто франков получил. Не верите? А это что? И он вытаскивает из кармана скомканный стофранко-вый билет.
– Что же, неужели пинны и Колизей при лунном свете оценены наконец Парижем?
– Эка захотели! Кто их хочет покупать? Нет, я теперь порнографические картинки рисую.
– Вы?
– А вы что думали! Дама в рубашке пишет письмо! Дама в штанах нюхает розу! Дама без всего идет в ванну, дама… А ну их к черту! Я вот за эту самую кампанию сто франков и получил.
– Какая же это порнография?
– А что же это, по-вашему? Для эстетического наслаждения эти дамы рисуются? Так, старичкам на утешение! Леда Микеланджело не порнография, это произведение искусства. А дамы мои – игривый сюжетец.
– И что же, хорошо идут?
– Да чего лучше! Видели, сто франков за четыре штуки!
– А дамы-то красивы?
– По ихнему, значит, вкусу. Один заказчик мне выговор сделал, что у одной из моих дам шляпа немодная – на ней только шляпа и была. Другой придрался, что таких штанов больше не носят. Ну я и стал справляться в модных журналах насчет аксессуаров, а потом и лица стал оттуда срисовывать.
– И что же?
– Так понравилось, что по два франка накинули и даже слава пошла. На пять магазинов работаю!
Укладываю Лулу спать.
Мы хохочем, целуемся. Он в длинной ночной рубашонке прыгает на постели. Сна ни в одном глазу!

– Ну спать, спать, маленький мальчик!
– Сейчас, мамочка, вот смотри, я лег. Я сплю… А где папа? Он всегда укладывает меня.
– А сегодня я укладываю. Разве ты не рад?
– Рад, рад! – бросается он ко мне на шею. – Но нужно, чтобы и папа пришел.
Я отворяю дверь в кабинет Старка. Он сидит за письменным столом, подперев голову руками.
– Идите, Эдгар, дофин отходит ко сну и требует вас! – говорю я, смеясь.
Старк поспешно что-то прячет в стол и идет к постельке Лулу, тот протягивает ручонки к отцу и с упреком говорит:
– Что же ты не пришел, папа? Я хочу обоих, обоих вместе!
Он обнимает одной рукой меня, другой отца и целует попеременно.
Я делаю движение высвободиться, но Старк говорит строго:
– Не портите радость ребенку! Что за неуместная щепетильность.
Я покоряюсь, наши головы соприкасаются, и теплые губки ребенка поочередно целуют наши лица.
– Довольно, Лулу! Спать сию минуту! – говорит Старк.
– Я сплю… сплю… Только… папа, поцелуй маму.
Старк чмокает меня куда-то в волосы, и Лулу со счастливой улыбкой говорит:
– Завтра мы пойдем в Зоологический сад.
В этот мой приезд я как-то меньше ссорюсь со Стар-ком, то есть он изменил обращение со мной.
Он вежлив, заботлив, внимателен, меня не избегает и не придирается так, как прежде. Наружность его в этом году тоже изменилась к лучшему. Он опять по-прежнему заботится о себе, о своей одежде. Я по временам замечаю в нем, что при хорошем расположении духа у него проскальзывает его прежнее, неуловимое кокетство в улыбке, в движениях.
Почему это? Может быть, понемногу он утешился, как и следовало ожидать. Может, у него завелся какой-нибудь роман? Это было бы недурно. А если бы он женился! Тогда Лулу мой! Мой навсегда!
– Ах, как это было бы хорошо! – невольно вырывается у меня вслух.
– Это вы о чем, Татьяна Александровна? – с удивлением спрашивает Латчинов.
Мы сидим с ним по обыкновению после завтрака на террасе – он с газетой, я с работой. Я оставляю мой рисунок, подвигаюсь к Латчинову и начинаю высказывать ему мои предположения. Я обращаю его внимание на мелочи в поведении Старка за эти дни.
Латчинов сидит, опустив глаза, и на лице его отражаются те скорбь и тоска, которые меня всегда пугают.
– Что с вами, вы больны, дорогой Александр Ви-кентьевич?
Он, очевидно, борется с собой и потом говорит:
– Обо мне не думайте, друг мой, я давно болен. – Поговорим лучше о вашем деле. Вы заметили перемену в Старке, питаете надежду, что он женится и отдаст вам Лулу? – Латчинов говорит с трудом. – Я вам скажу прямо: нет, этого не будет. Он никогда не даст мачехи сыну. Он однажды сказал: «Если женщина любит мужчину, она никогда не полюбит его ребенка от другой женщины. Она может, конечно, безукоризненно исполнять свои обязанности, даже быть с ним ласковой, но любить его не будет». Я возразил, что примеры бывали, а он ответил на это следующее: «Или эти женщины замечали, что их мужья относятся к своим детям индифферентно, или это были женщины кроткие, холодные, покорные! Но я-то такой женщины не полюблю, а женщина с противоположным характером никогда не помирится с моей страстной любовью к моему сыну».
Латчинов замолчал.
– Хорошо, я не буду надеяться на полное счастье, – говорю я, – но, может быть, у него начинается роман? И это ведь не дурно? Он будет относиться хладнокровно к своему прошлому горю и перестанет терзать меня, а главное, ребенка.
Латчинов несколько времени молчит и потом, взглянув на меня, решительно говорит:
– Татьяна Александровна, я не люблю влезать в чужие дела и никогда не позволю себе выдавать то, что мне говорят наедине, по дружбе, но обстоятельства складываются так, что я принужден предупредить вас. Вы позволите только прежде задать вам один вопрос?
– Пожалуйста.
– Скажите, Татьяна Александровна, вам было бы совершенно безразлично, если бы я сказал: да, Старк полюбил другую женщину? Не отвечайте сразу, подумайте.
Я морщу лоб и говорю:
– Александр Викентьевич, я с вами совершенно откровенна: да, меня бы немного царапнуло по самолюбию… даже не по самолюбию, а по женскому тщеславию. Вы видите, я, не щадя себя, откровенна с вами. Но это мелкое чувство слабо, я не сравню его даже с тем, что бы я испытала, если бы осрамилась с какой-нибудь из моих картин. Это чувство – ничто в сравнении с тем счастьем, которое я получила бы от того, что Лулу не видит вечно около себя отца мрачного, недовольного, вздыхающего, нервного. Я уверена, что понемногу могла бы отвоевать себе право увозить Лулу с собой и почти все время проводить с ним.
А там, может быть, он и отдал бы мне его совсем, и сын был бы мой! Мой! Мой!
Я в волнении сжала красивую, тонкую руку Латчи-нова, лежащую на ручке кресла.
– Татьяна Александровна! – услышала я его голос, спокойный, но глухой и как будто незнакомый. – Не радуйтесь понапрасну.
– Почему?
Он молчит с секунду, словно испытывая какую-то борьбу, и наконец решительно поднимает голову.
Лицо его спокойно, даже грустная улыбка играет на его губах.
– Дело вот в чем. Я начинаю выдавать тайны Старка. Мне немного совестно, но иначе невозможно. Все это время, эти четыре года, я с ним почти не расставался. Он не из тех людей, которые могут скрывать свои чувства, и он их от меня не скрывал. Все это время он жил только ребенком. Конечно, были мимолетные связи – женщины на один день, но это не в счет. Вы мне часто жаловались, что он своими, иногда смешными, иногда жестокими выходками мстит вам. Неужели вы не видели, что это не месть, а страсть? Ведь все эти годы он только и жил воспоминанием об этих трех месяцах в Риме! Он вечно об этом говорит. Иногда он забывал, что я тут, и бредил всеми вашими словами, ласками, поцелуями. В его кабинете, в шкафу хранятся ваше белье, ваши платья, разные мелочи, принадлежащие вам. В прошлом году он отдал мне ключ от этого шкафа со словами: «Вы правы, я сойду с ума, если буду продолжать каждую ночь целовать эти вещи». Он говорил мне часто, что он всей силой воли заставляет себя не думать, что вы принадлежите другому, что только любовь к ребенку удерживала его от преступления. Ему не раз хотелось поехать и убить вашего мужа. Этот ребенок удержал его от убийства и самоубийства после его болезни и – умри он завтра – Старк пустит себе пулю в лоб. Вы, Татьяна Александровна, обрадовались этой перемене, но я могу рассказать, отчего она произошла. Накануне вашего приезда он ночью пришел ко мне в комнату. Он весь был полон радостью свидания с вами и ужасом перед теми муками, которые ему предстоят: видеть вас около себя – чужую, недоступную для него… Я посоветовал ему уехать.
«Ни за что. У меня только и есть одно счастье: видеть ее с ребенком на руках. Я стараюсь не думать о ней, весь ухожу в свои дела целый год, но два-три месяца я имею иллюзию, что она моя жена – хозяйка моего дома». Мне было его так невыносимо жалко, что я, быть может, сделал большую ошибку, подав ему надежду, что… – Латчинов остановился.
– На что?
– …на то, что он может опять вернуть вашу любовь, не мучая вас постоянно. Я посоветовал ему поддразнить вас, притворившись влюбленным в другую, но он вас лучше знает: «Это невозможно! Она обрадуется и только», – сказал он мне со злостью. И вот теперь он старается держать себя как можно сдержаннее, угождает вам, ухаживает за вами и даже слегка кокетничает, бедняжка. Он сам имеет мало надежды, а все думает: а вдруг!..
– Вы сами знаете, что это невозможно, Александр Викентьевич!
– Не знаю, Татьяна Александровна. Мое мнение таково: если бы я был женщиной, то за такую любовь, как любовь Старка, я отдал бы все на свете, но женщины – созданья капризные, и я отказываюсь их понимать.
– Но вы ведь знаете Илью! Знаете мое отношение к нему, Александр Викентьевич! Зачем же вы подавали надежду Старку?
– Сознаюсь, что я сделал большую ошибку, но мне было так жаль его, я хотел его утешить, да и вам дать спокойно провести ваши каникулы. Не сердитесь на меня, друг мой, – и он почтительно целует мою руку.
Приехала Катя. Она всегда приезжает из города два раза в неделю к Латчинову, разбирается в его неимоверной корреспонденции, забирает материал для переписки на пишущей машине и уезжает после обеда. На этот раз она приехала на две недели, так как Лат-чинов приводит в порядок материалы, накопившиеся у него за много лет.
Я знаю, что это большой труд по истории музыки, и Латчинов шутя говорил, что после его смерти Старк должен издать эту книгу, а я – иллюстрировать.
Я с помощью Васеньки уже кое-что сделала.
Латчинов сидит на террасе с Катей и что-то диктует ей.
Лулу, Васенька и я в беседке занимаемся скульптурой – лепим из глины всевозможных зверей. Лулу в восторге от каждого зверя, и наконец ему удается самому вылепить что-то похожее на свинью, тогда прихожу в восторг уже я, а Васенька серьезно говорит:
– Ну, брат, ты талант! Будущий Роден, у тебя даже его манера! Твоя свинья – точная копия с его статуи Бальзака.
Все трое мы вымазаны глиной. Нам ужасно весело.
Стучит калитка. Это Старк вернулся к обеду. Лулу несется со всех ног, бросается к нему в объятия, оставляя следы глины на светлом элегантном костюме отца.
Старк этого не замечает. Он берет ребенка на руки, крепко целует, несет на террасу и спрашивает Катю с гордостью:
– Не правда ли, как он похорошел? Ну согласитесь, мадемуазель Катя, что он хорош, как мечта!
– Это даже неприлично, Эдгар. Вы напрашиваетесь на комплименты, – смеется Латчинов, – ведь Лулу – вылитый ваш портрет.
– О нет! – говорит Старк с восторгом. – Он будет в сто раз красивее меня! У него светлые глаза, маленькие ножки и ручки его матери…
Он замечает меня, слегка смущается и продолжает, обращаясь уже к ребенку:
– Он будет выше ростом, добрее, лучше меня и… умнее. О, гораздо умнее! – прибавляет он насмешливо.
Это камешек в мой огород.
Сегодня Старк сорвался, и вышла пребезобразная сцена.
Я ушла гулять с Лулу, забыла взять часы, увлеклась красивым уголком в парке – и мы опоздали к обеду.
Катя и Латчинов ждали меня у ворот.
Оказалось, что Старк разогнал всю прислугу и поехал на велосипеде нас искать.
– Что за глупости! Точно я маленькая! – рассмеялась я.
Через полчаса вернулся Старк. Он молча схватил Лулу, прижал его к груди и начал так целовать, точно ребенок избежал какой-нибудь опасности.
Лулу, видя волнение отца, испуганный, жмется к нему и со слезами спрашивает:
– Что с тобой, папочка, что с тобой?
Старк молчит и еще крепче прижимает к себе ребенка, а тот начинает горько плакать.
– Перестаньте вы нервничать! – говорю я ему со злостью.
– А кому я обязан этим удовольствием? – кричит он. – Вы уводите ребенка на весь день, чтобы одной пользоваться счастьем быть с ним! Вам все равно, что я умираю от беспокойства! Разве я знаю, что могло случиться с вами? Может быть, вы упали в воду, попали под автомобиль! Наконец, украли ребенка! Вы думаете только о своих развлечениях, и вам нет дела, что ребенок устанет, измучится! У вас нет настоящей любви к нему. Вы нянчитесь с ним потому, что он красив! Будь он уродом, вы его никогда не взяли бы на руки, не поцеловали бы!
– Опомнитесь! Как вы на меня кричите!
– Да, я только кричу! Но с удовольствием ударил бы вас, только не привык поднимать руку на женщин!
– Замолчите! – не выдерживаю я. – Я сейчас уезжаю, сию минуту, и прошу отпускать мне по утрам ребенка в отель. А с вами не желаю больше видеться!
Он бледнеет, падает на стул и истерически рыдает. Катя бежит за водой.
Я хочу унести Лулу, но он вскрикивает, бьется в моих руках и цепляется за отца. Я ухожу к себе в комнату и падаю на постель.
Неужели мне надо уехать? А иначе как спасти ребенка от подобных сцен?
Старк стоит передо мной и вымаливает прощение: оправдывается тем, что сам не помнил, что говорил, и не понимает, что с ним сделалось, клянется, что этого не повторится.
Я не верю. Правда, такой сцены еще не было, но чем гарантирован бедный Лулу от таких же удовольствий в будущем?
Вот он спит в своей постельке, заставив нас поцеловаться. Он и заснул, держа нас за руки.
А теперь? Я недавно заглянула к нему. Он спит, но вздрагивает и всхлипывает во сне.
– Хорошо. Кончим всю эту историю! – говорю я Старку. – Ради Лулу мне скоро придется, пожалуй, терпеть побои, к этому идет.
Я обращаюсь к Кате, проходящей через комнату:
– Ну, Катя, и на этот раз вы скажете, что я виновата? Она приостанавливается:
– Нет, на этот раз Эдгар Карлович виноват. Нельзя же так кричать. Правду говорят спокойнее.
И она идет дальше.
Моя хитрость удается. Все идет без сучка и задоринки. Тишь и гладь. Может быть, у меня есть чувство, что это не годится, но теперь так все хорошо и спокойно.
Я не обнадеживаю Старка, но… иногда позволяю себе пошутить с ним, сказать ему комплимент, прошу почитать мне, пока рисую. Когда Старк дома, я больше не увожу от него ребенка.
Жара страшная. Воскресный день, и Старк дома.
Мы все томимся в облегченных костюмах, один Лат-чинов, как всегда, корректен в своей темной одежде.
От жары никому не хочется говорить.
На Катю жара действует хуже всех, и она проклинает ее все время.
– Подите под душ, – советую я, – я уже третий раз выкупалась.
– Это идея! – говорит Катя. – Может, после купания я в состоянии буду что-нибудь делать.
Она идет в дом.
– И я хочу купаться, папочка! – просит Лулу. – Позволь, я так хочу купаться.
– Душ слишком холоден, а я сейчас тебе сделаю ванну.
– Но няни нет, сегодня воскресенье.
– Если твоя мама поможет мне, мы сейчас это устроим.
Старк весь день с утра очень мил со мной – вот и теперь он таскает воду для ванны и очень весело шутит. Я приготовляю мохнатый халатик Лулу.
Сам Лулу в восторге: он, как и все дети, любит нарушение обычного порядка, а ванна среди дня – это событие. Он бегает по комнате и ловит солнечные блики, которые прыгают от воды.
Спальня залита солнечным светом. Собственно, это не спальня, а детская. Спальней она называется только потому, что рядом с маленькой плетеной кроваткой Лулу стоит узкая белая кровать его отца.
Мебель вся белая. Ни ковров, ни портьер. Маленькая мебель Лулу, его столик, его игрушки.
Все чисто, просто, гигиенично. Надо отдать должное – физический уход за ребенком прекрасный. Старк до мелочей помнит все, что в каждый данный час нужно для ребенка.
Но что он делает с его маленькой душой, с этим любящим, нежным сердцем!
А эта маленькая душа в эту минуту, выскользнув из рук отца, босиком бегает по комнате. Он так мил в одной рубашонке! Я гоняюсь за ним, целую его, а он весело визжит.
– Если ты будешь так возиться, Лулу, то ванны не будет! – объявляет Старк.
Лулу смиряется. Он покорно дает посадить себя в ванну, слегка поеживаясь от холодной воды.
Старк снимает жакет, берет кувшин и начинает поливать Лулу.
– Давайте, Эдгар, я вам заверну рукава, – предлагаю я.
– Нет, благодарю, я сам, сам.
И он мокрыми руками кое-как завертывает рукава рубашки.
Лулу одолевает шалость, он не выдерживает и неожиданно брызгает мне в лицо водой. Я отвечаю тем же.
Он вскакивает, мокрыми ручонками хватает меня за шею, тянет к воде и кричит:
– И ты идешь купаться, мамочка!
– Как он мил! Или у меня материнские глаза, или я не видала ребенка прелестнее! – говорю я. – Вот бы так в ванне нарисовать его.
– Нет уж, пожалуйста, не рисуйте! – восклицает Старк насмешливо.
– Отчего?
– Вы его перестанете любить, – объясняет он, не глядя на меня.
Не удержался, подпустил шпильку! Но я в благодушном настроении и молчу.
– Нет, мама меня не разлюбит, я вот это берегу. – И Лулу показывает коралл, висящий на его шейке.
Это один из трех кораллов, подаренных мне Стар-ком в Риме.
В тот день, когда родился ребенок, он снял с меня цепочку и только перед своим отъездом вернул ее мне.
На ней остался только один розовый шарик. Другой всегда носит Лулу. Третий…
– А где третий? – спрашиваю я. Старк молчит.
– Я берегу мой коралл, – настойчиво продолжает Лулу. – Папа говорит, что ты, мамочка, разлюбишь меня, если я его потеряю.
– Какие глупости, моя деточка! Папа шутит! Я никогда тебя не разлюблю.
– Папа мне рассказывал… Папа зимой, по вечерам, часто рассказывает мне сказки…
– Лулу, вылезай-ка из ванны, – просит Старк.
– Сейчас, папочка. Вот папа и рассказывал, что когда Бог ему дал тебя, он тебе подарил эти три коралла, а вокруг были розы… Это было ночью, папа? Ты что-то говорил про звезды и про луну?
– Довольно болтать! Сейчас же вылезай! – требует Старк нетерпеливо и слегка краснеет.
– Что за странными фантазиями вы набиваете голову ребенку! – говорю я укоризненно, вытирая Лулу мохнатым халатиком.
Старк идет к шкафу достать белье для ребенка. Я не вижу его лица, но в голосе его слышится смущение.
– Зимой я провожу почти все вечера вдвоем с ребенком, быть может, я и фантазировал вслух, ведь прошлое иногда невольно вспоминается.
Я молчу и через минуту обращаюсь к Лулу:
– Теперь ты чистенький и сухой. Папа, дайте нам чулочки.
Старк подает мне маленькие носочки, и мы начинаем обувать Лулу.
Старк стоит на коленях, я сижу на диване рядом с Лулу.
– А третье зернышко папа носит сам. У меня побольше, у тебя поменьше, – вытаскивает он мою цепочку, – а у папы такое же, как твое. Покажи, папа.
– У меня его сейчас нет! Надевай, надевай твои чулки.
– А где оно?
– Отстань, Лулу, я его потерял, – говорит Старк нетерпеливо.
– Папочка, папочка! Зачем ты его потерял?! – всплескивает Лулу руками. Он готов плакать.
– Нет, Лулу, папа шутит, он не потерял. Встань, я застегну тебе платьице.
– Нет, нет, он потерял, а то он всегда носит, – и Лулу заливается горькими слезами.
– Да покажите вы ему этот коралл, если он есть у вас, – говорю я с досадой. – Сами разводите сентиментальности, вот вам и результаты.
Старк молчит. Глаза его опущены, губы сжаты. Лулу рыдает.
– Что за глупое упрямство! – восклицаю я и, видя тонкую золотую цепочку на его шее, решительно засовываю руку за его ворот. Что это? Воспоминание забытых ощущений? Власть этого красивого тела? Моя рука невольно сжимается на его груди. Минута… я опоминаюсь, выдергиваю цепочку и говорю с притворным смехом:
– Вот Лулу! Вот, папа шутил, его коралл цел. Лулу сразу переходит от слез к бурной радости.
С еще не высохшими слезами он скачет по дивану в не-застегнутом платье.
Это была одна секунда. Но Старк поймал ее. Он поймал выражение моего лица.
Господи! Что теперь будет? Ведь я дала ему уже не надежду, а уверенность.
Пока я ловлю Лулу и застегиваю ему платье, Старк смотрит на меня знакомым мне взглядом полузакрытых глаз.
Я беру Лулу и, что-то болтая, быстро выхожу из комнаты.
Весь день я была в странном состоянии.
Неужели я могу опять испытать это чувство? Неужели я только животное – и больше ничего? Мое увлечение Старком, мою измену Илье я могла оправдать тогда поэзией этой любви, «языком богов», на котором со мной заговорили.
А вот вчерашнее чувство чем я оправдаю? Да что вчера? Я сегодня поймала себя. Забыв всякую осторожность, я сегодня утром смотрела на Старка и хотела его губ. Это не прежнее острое чувство, а что-то ноющее, томящее, пьющее. Слава богу, что он не заметил этого взгляда. Впрочем, я вчера выдала себя с головой.
Прощаясь, он поцеловал мою ладонь таким долгим поцелуем, что я выдернула руку.
Что же мне делать? За себя я не боюсь нисколько, но ведь это новые сцены. Уехать? Неужели оставить Лулу? Я не могу.
– Татьяна Александровна, – спрашивает меня Латчинов во время нашей сиесты после завтрака, – что произошло между вами и Старком, если это не секрет?
– Так, ничего, Александр Викентьевич!
– Простите, друг мой. Бестактно задавать такие вопросы, но вы сами виноваты, вы избаловали меня вашей откровенностью.
– Я, может быть, очень хочу быть откровенной с вами, да мне стыдно.
Он молчит.
– Стыдно! – восклицаю я со злостью. – Я сердилась на вас, что вы подавали надежды Старку, а вчера сама… сама… страшно наглупила.
Я швыряю платьице Лулу, которое вышиваю.
– Я пришла к заключению, что я какое-то животное, мне стыдно самой себя, но вы в этом отчасти виноваты.
– Простите, Татьяна Александровна, я ничего не понимаю.
– Я вчера совершенно неожиданно, на одно мгновение почувствовала страсть к Старку, и он это заметил.
– При чем же тут я? – спрашивает Латчинов с болезненной улыбкой.
– Помните наш недавний разговор? Я думала, что Старк ко мне совершенно охладел. Вы разуверили меня, а я скажу словами Жени: «Я, мол, ничего и не замечаю, а начнут подруги говорить, я и начинаю плести!»
– Так в чем же дело? – поднимает голову Латчинов.
– Да в том, что теперь пойдут такие сцены, что хоть вон беги, хуже прежних!
– Я заметил это, – тихо говорит он, опять опуская голову.
– Когда?
– Сегодня утром. Я нечаянно поймал ваш взгляд, когда вы смотрели на Старка.
Я краснею и закрываю лицо.
– Если бы вы знали, Александр Викентьевич, до чего я сама себе противна, но этого более не повторится.
– Почему? Разве с этим можно бороться?
– И это говорите вы! Такой сдержанный, такой уравновешенный!
– Татьяна Александровна, иногда сдержанность и уравновешенность происходят только от спокойствия отчаяния, когда человек останавливается перед глухой стеной. Но перед вами легкие ширмы, их стоит толкнуть…
– Да я не хочу их толкать, мне этого не надо, это одни мгновения, которые мне досадны и неприятны.
– Чем больше я вас слушаю, друг мой, тем более утверждаюсь в своей теории.
– В какой теории?
– Позвольте мне вам ее изложить в другой раз. А теперь я вам советую… Могу я посоветовать? Осчастливьте вы Старка, и дело с концом.
Он закрывает глаза и откидывает голову.
– Вы шутите, Александр Викентьевич?!
– Нимало, друг мой. Разве вы не испытали, как любит этот человек? Я не поверю, чтобы вы вспоминали о нем с отвращением, я даже уверен, что вы иногда хотели бы пережить иные мгновения.
– Александр Викентьевич, вы, кажется, забыли, что я жена Ильи и что я его люблю.
– Я в этом не сомневаюсь ни минуты, но это вам не помешало когда-то…
– Постойте. Тогда мне казалось, что я люблю Старка, а теперь я вижу, что это одна простая чувственность.
– Дайте ему хоть это, он теперь и этим будет счастлив.
– А Илья?! Вы ведь знаете, что после всей этой истории и смерти матери вдобавок он нажил болезнь сердца. Вы знаете, что он теперь одинок и живет только мной и для меня. Он любит меня, верит мне, отпуская меня сюда.
– Он вам не верит.
– Что?
– Он вам не верит, он только покоряется, чтобы не совсем потерять вас.
– Этого не может быть! Я чиста перед ним!
– Я не сомневаюсь в этом, да он-то не верит. Ошеломленная, я пристально смотрю на Латчинова. Лицо его по-прежнему спокойно, глаза закрыты.
– Вспомните, вы сами рассказывали, что перед вашим отъездом он предложил вам взять ребенка. Он понял свою ошибку. Он ссылался на то, что вам приходится надолго уезжать, что он видит, как вы тревожитесь и скучаете в разлуке с вашим сыном. Вы отвечали, что не имеете ни юридических, ни нравственных прав отнять ребенка. Вы поцеловали его руку, вы растрогались величием его жертвы. Вы не поняли, Татьяна Александровна! Соглашаясь видеть постоянно около себя вашего ребенка, он выбирал себе менее тяжкие муки, чем те, что он испытывает в ваше отсутствие, представляя себе вас в объятиях отца этого ребенка.
– Что же мне делать, если это правда? Что делать? – восклицаю я с отчаянием. – Но я докажу ему, что это неправда!
– Чем вы это докажете? Полноте, вы только расстроите его и наведете на худшие подозрения.
– Что же мне делать? Я не хочу тревог и мук для Ильи! Александр Викентьевич, дорогой, научите, что мне делать? – молю я, хватая его руки. – Научите, что делать?
– Солгите ему.
– Кому?
– Вашему мужу. Солгите, что у Старка есть сожительница, которую он обожает, но жениться не хочет, не желая дать мачеху ребенку. Скажите это вскользь, в разговоре, а потом развейте с некоторыми подробностями.
– Я не умею лгать Илье, Александр Викентьевич, он догадается, – я качаю головой.
– Хотите, я солгу за вас? – предлагает Латчи-нов. – Я собираюсь в Россию по делам, заеду погостить в деревню и совершенно успокою Илью Львовича на этот счет.
Я молчу.
– А нет другого выхода?
– Я не вижу. Вы ведь не согласитесь пожертвовать ребенком?
– Никогда!
– Значит, ложь необходима. Нельзя же, в самом деле, медленно убивать человека.
– Вы правы! Поступайте так, как вы находите лучшим, вы всегда умеете все устроить. Недаром я называю вас нашей доброй феей.
– Я поступаю так, как мне кажется правильным… Мне хочется, чтобы кругом меня никто не страдал, и я стараюсь об этом по мере возможности. Это единственное мое удовольствие в жизни. Со своей личной жизнью я покончил.
– Хоть бы мне с ней покончить! – вздыхаю я с грустью.
– Концы бывают разные. Одни уходят от страстей, от любви, от волнений и привязанностей, а вам вот приходится броситься в этот водоворот для счастья окружающих и этим покончить с личной жизнью.
– Это недурно и вполне прилично для «парадоксальной» женщины, как называл меня покойный Сидоренко, – говорю я с горькой улыбкой.
– Разве Сидоренко умер? – рассеянно спрашивает Латчинов.
– Фу, что я его хороню? Он жив и даже недавно женился, но все прошлое так далеко ушло, как будто умерло.
Я задумываюсь.
– Итак, Татьяна Александровна, я берусь успокоить и осчастливить Илью Львовича. А Старк?
– Что же мне делать со Старком? – пожимаю я плечами. – Опять буду избегать его.
– Значит, он один будет несчастлив.
– Послушайте, я удивляюсь вам сегодня и опять спрашиваю: вы шутите?
– Да нимало, Татьяна Александровна.
– Ну прекрасно. Вы говорите, что Илья подозревал меня и мирился с этим, а Старк, сойдясь опять со мной, не будет мириться.
– Помирится… Он так замучен, – говорит Латчи-нов тихо.
– А если нет?
– Солгите.
– И ему?!
– И ему. Старку вы можете солгать? Или мне это сделать?
– Отлично, что же я должна солгать ему?
– Скажите, что вы живете с вашим мужем из жалости к его болезни и одиночеству, что вы его не покинете, что вы любите его как отца, как брата, почти так же, как вашего ребенка, но супружеских отношений между вами не существует.
– И быть женой двух мужей?!
– Татьяна Александровна, человек состоит из души и тела. Правда, они не всегда в ладу, но мы все же живем, не рассыпаемся.
– Теперь я вижу, что вы шутите, Александр Викен-тьевич! – поднимаюсь я с места.
– Думайте, как вам удобнее, дорогой друг, и не сердитесь на меня. Верьте, что я вас люблю, предан вам всей душой, и если когда-нибудь кому-нибудь я открою свою душу, то только вам одной.
Я даже пугаюсь. Я никогда не ожидала таких слов от Латчинова. Выражение его лица, его глаза так тоскливы и скорбны, что я падаю головой на его плечо и заливаюсь слезами. Мои нервы так натянуты со вчерашнего дня.
Он гладит меня по голове и говорит прежним спокойным голосом:
– Это отлично, что вы поплакали. Слезы успокаивают. Все же вы счастливая женщина, друг мой.
– Благодарю за такое счастье, – я вытираю глаза.
– Главная цель вашей жизни – ребенок и искусство.
– Голубчик, будем искренни, скажем откровенно, что и искусство погибло. Я ничего больше не напишу выдающегося, я это чувствую.
– Нет, еще одна картина за вами.
– Какая?
– Портрет сына Диониса.
Васенька натянул мне холст на подрамник; он это делает артистически.
Я собираюсь писать портрет моего мальчика. Большой, но скромный портрет. Я напишу его в обыкновенном белом платьице на большом темном кожанном диване в кабинете его отца.
Рядом с ним напишу его любимца Амура, безобразного бульдога. Этого бульдога Старк купил у соседей за тысячу франков только потому, что злая и угрюмая собака, рычащая даже на своих хозяев, вдруг почувствовала необыкновенную привязанность к Лулу. Ребенок может делать с ней все, что хочет, и бульдог только блаженно сопит. Амуром его прозвал Васенька, к которому собака чувствует такую же беспричинную ненависть, как некогда он сам чувствовал к Сидоренко.
– Те suis toujours maеheureux en amour![3]3
Ты всегда несчастный в любви (фр.).
[Закрыть] – говорит он, сторонкой проходя мимо бульдога. – Да убери ты, Лулу, свою очаровательную игрушку, у меня новые брюки.
Я не мучаю мою деточку долгими сеансами. Я стараюсь его развлекать: рассказываю ему сказки, пока пишу его. Мои сказки всегда веселые и смешные.









































