Текст книги "Пройти по краю"
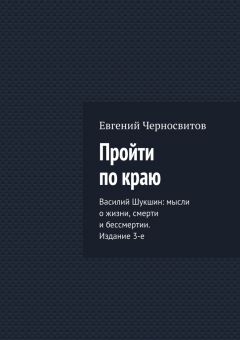
Автор книги: Евгений Черносвитов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Смерть – нелепость. И не докричишься – не до кого! Бога нет. Природа безлика, лишь смерть многолика. «В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут – сияет!» Вот и кончилась беседа при ясной луне.
Смерть и н е в е ри е. Если смерть, то все мы в этой жизни – з а л е т н ы е… Саша Неверов – «Залетный» – «очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть… И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко – в горы. Думалось не думалось – хорошо, ясно делалось на душе, как будто вдруг, и в какую-то минуту, стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни – смерил нечто драгоценное и все понял. Ну и что? Ну и ладно! – так думалось». И это… в близости к смерти, к ч у ж о й, конечно, смерти. Смерть – мощный внезапный разряд, яркая вспышка в монотонно-размеренно убаюканной жизни. В полуавтоматизме-полусне обыденности: так есть и так всегда будет. Этот «разряд» может вызвать в груди бурю – восстает все доброе и все злое. Попробуй не понять этого – наткнешься на сопротивление, за которым страшная злая сила! Как у Фили, друга Саши Неверова («Залетный»).
Как постигнуть состояние умирающего, сознающего то, что он на пороге смерти? Если внешне: «Саня пьянел. Взор его туманился… Покидал далекие синие горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным». Через рассказ? «Хорошо, Филипп. Мне – пятьдесят два, двенадцать откинем – несознательные, сорок (опять эта роковая цифра! – Е. Ч.) … Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только теперь понимаю – хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было – торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе… Теперь – стоп, машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у меня немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо». Древние индийцы сказали бы о Саше: «Он в нирване. Он достиг сатьи». И это так: «Теперь – конец. Впрочем, нет… вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет и тепло – я вдруг сознаю бесконечность… я теперь знаю: человек – это… нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!., и она неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет… Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая… мм…» «Дальше Саня говорил только себе, неразборчиво». Дух его уже за порогом очевидности. Это невербализуемо. Дальше молвит оракул. Только отдельные куски можно понять: «Любовь? Да, – бормотал Саня, – но она только запутывает и все усложняет. Она делает попытку мучительной, и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь – прекрасна. И это совсем не грустно, нет… Может быть бессмысленно – да. Да, это бессмысленно…» Неудивительно, что друзья Саши переставали его понимать. Да и нужно ли это, когда в груди ощущалась вера, что жизнь – прекрасна. Пусть ненадолго. Повседневность, очевидность, обыденность, то, из чего соткана р е а л ь н о с т ь отдельного «здравомыслящего» человека, всегда п р о т и в дельфийских изречений. У определенной части населения во все времена оракулы вызывали ненависть. Так, в «Залетном» «бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне». Словно почувствовали, что уведет он от них мужиков «в даль светлую». А у мужиков от общения с Саней «оставалась только щемящая жалость к человеку, который остался сидеть на бревне… И бормочет, бормочет себе под нос нечто – так он думает, тот человек – важное».
Умирание и смерть – и это не одно и то же. Как ни тяжело умирание, это все же еще ж и з н ь. Смерть – другое. «Саня приподнялся на локте и прямо в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, когда вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его». «Не хочу, Филипп! – ясно сказал Саня. – Все знаю… Не хочу! Не хочу! …Господи, господи… какая вечность! Еще год… полгода! Больше не надо». Это еще не смерть и не вид ее. Это крик жизни, одно из ее страданий. Смерть, конечно, рядом дом. Но выражает себя другими знаками. Может быть, вот в этом: «Сходи, Филипп… дай веточку малины… Под плетнем растет. Только пыль не стряхни… Принеси».
Вот еще одно здоровое отношение к смерти: «Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо… и никак не помочь! Дура». Да, тайна смерти… это невыразимо в словах. И воображением непостижимо. «Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она прижилась. И когда дули южные теплые ветры, березка кланялась и шевелила-шевелила множеством мелких зеленых ладоней, точно силилась что-то сказать. И не могла».
Да и Саня Неверов, который у з н а л жизнь и чувствовал ее бесконечность, выпрашивал все же у смерти «билетик на второй сеанс». А когда вдруг признаешься себе: «Вот жил – подошел к концу… Этот остаток в десять – двенадцать лет, это уже не жизнь, а так – обглоданный мосол под крыльцом лежит, а к чему? Да и вся-то жизнь, как раздумаешься, тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это… А Ермоха, например, всю жизнь прожил валиком – рыбачил себе в удовольствие: ни горя, ни заботы. А червей вместе будем кормить. Но Ермоха хоть какую-нибудь радость знал, а тут – как кирпич на проволоке: пройти прошел, а коленки трясутся». Что толку, что наконец-то понял и «пристал, видно, так жить. Насмерть пристал. Укатали сивку… Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко – песня-то была хорошая». Просить прощения? У кого? Николая-угодничка – тестюшки? Действительно, и что такое жизнь – комедия или трагедия?
Смерть и красота, гармония, попытка эстетического отношения к смерти. Чем это оборачивается? Убийством, как в «Охоте жить», самоубийством, как в «Суразе». Случайно ли в «Суразе» появляется фамилия Прокудины? Ведь учителей, Ирину Ивановну (пения) и ее мужа-«губошлепа», Сергея Юрьевича (физкультуры), «поселили в большом доме к старикам Прокудиным».
У Спирьки… здесь все эстетизировано. Во-первых: «Он поразительно красив; в субботу сходит в баню (случайна ли эта «деталь» – баня? – Е. Ч.), пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог! Глаза ясные, умные… Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит. Ну зачем ему! Он и сам говорит: «Это мне – до фени».
Во-вторых: эта сцена на кладбище. «Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было. Он приладил стволы к сердцу… Дотянулся до курков. Подумал: «Ну!.. Все?!» Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки… «Счас толкнет», – опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо… Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней смотреть. Кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли». Здесь все красиво. Отношение к смерти как к чему-то неэстетичному – брезгливое. «Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки… Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, – Спирька приложил ладонь к груди, – здесь была бы рваная дыра от двух зарядов больше шапки. Может, загорелся бы и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы… О, курва, смотреть же противно!»
«Освобождение» от смерти через отвращение к ней – лишь внешнее, только внешнее. В глубине души она уже поселилась, душа схвачена намертво. Остались последние мгновения жизни, хотя сам человек это еще и не осознает. Но жизнь уже замелькала в калейдоскопе слайдов, как перед внутренним взором в последнем мгновении: «Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно просительно морщит мордочку и говорит: «Посений язок! Ну посений язочек!» Спирька засмеялся, вспомнив девочку». В какой-то миг наслаждение в высшем смысле этого чувства – слияние с природой («ананда»): «Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулим… Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля» («И точно плывет он по речке, Плавной и теплой…», «Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу»). Да, долго это длиться не может: «Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. «Что-нибудь я сейчас сделаю!» – решил он». «Только прочь с кладбища от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников: «Лежите?.. Ну и лежите! Лежите – такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле. Покружусь».
Это последняя и тщетная попытка вырваться из объятий смерти: он был уже приговорен в силу законов собственной души (судьбы): «Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше убеждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, Не ищет тропинку, садится и сидит, и все».
И место для своей смерти Спирька нашел красивое: «Красиво было правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее…»
В красоте земной, природной всегда есть некая незавершенность. Это рождает ощущение неопределенности, пусть хоть в какой-то незначительной степени. Но все же. Как со смертью Спирьки… Вдруг это и не самоубийство? «Спирьку нашли через три дня в лесу на веселой поляне („Может, посмеяться?“ – еще недавно спрашивал он себя. – Е. Ч.). Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз… Из-под себя как-то изловчился».
А может, в самом деле, и смерть дело веселое? Твоя смерть.
Смерть – п р о к у д а, лихая беда. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходить бы! Но эрос и танатос постоянно в борьбе, и выбрали они ареной для этой схватки человеческую душу. Мы не знаем этих сражений, нам просто х о р о ш о или п л о х о, охота жить или нет. Да и здесь не все просто. Как в «Земляках»: «Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот хорошо. Это, когда нам плохо, мы думаем: „А где-то кому-то хорошо“. А когда нам хорошо, мы не думаем: „А где-то кому-то плохо“. Хорошо нам, и все». Если бы так всегда, да думы мучают: «…кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветное, тихое, нежное, но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и – нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться», «…и уж жалко своей же грусти».
Что в нашей душе происходит, все ли мы знаем, можем знать? Не сочиняем ли мы себе истории, что-то пережив? О чем, собственно, думалось? Да так как-то… ни о чем. Только «память все выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот змеи».
И эрос, и танатос равно искушают нашу душу, стараясь вести за собой. Куда идешь? – это еще полвопроса. Вторая половина его – какая с и л а тебя ведет: эрос или танатос. Когда знаешь ты ответ на этот главный вопрос – ты н а с т о я щ и й.
«…В одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась…» с м е р т ь, первое знакомство с ней двенадцатилетнего парнишки: «Она была черная, та ночь». И в шестьдесят лет не забылась, памятью вытолкнута в сознание. «Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку: кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет, как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской, Только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле… Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости». Вот первое явление смерти по какой-то собственной жестокой логике: «желанный, редкий миг непосильной радости», ананда долго продолжаться не может, дальше – смерть (именно в этом индийцы видели нирвану). Если не твоя, то кого-то, кто с тобой рядом и особенно тебе близок. Картина: «Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый чужой мальчик. …Только странно…» А в шестьдесят лет смерть является в думах непонятных: «Еще вспоминались какие-то утра… Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь (спустя м н о г о лет. – Е. Ч.) зябко ногам, как вспомнишь». Это она посылает своих знаменосцев вперед. А затем является в думах сама: «А то вдруг про смерть подумается: что скоро – все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот труд-но-TO что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить – оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь… Этого никак не понять. Ну лет десять – пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом – все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички – ничего, весело бывало, и… Нет, не жалко. Повидал много. Но как Подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше Не будет… Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?» Странные эти думы старика или п с и х о л о г и ч е с к и понятные (ведь шестьдесят уже!). Да и он сам вроде что-то понимает: «Тьфу!.. Нет, старею». Он даже устает от таких дум и спать не может, жену по ночам будит, спрашивая: «Ты смерти страшисся?» То ли ей, то ли самому себе и отвечает: «А я не страшусь», «но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет, тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко». Нам здесь вспомнилось, что один из современных западных танатологов (да, есть такая «наука» – танатология) утверждает, что, умирая, в последний миг человек испытывает экстатико-оргазмическис ощущения, якобы этим природа одаряет каждого.
И все д у м ы Матвея Рязанцева сопровождает гармонь Кольки-г у б о ш л е п а! И лунный свет. «Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой… И было тихо». Да, дальше – м о л ч а н и е. «Матвей плохо спал. Просыпался, курил… Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо».
Как разобраться в мыслях о смерти, в отношении к ней? Ну, страх, ужас, тревога, подавленность, отчаяние – это понятно. «Веселость», безразличие, отстраненность – «не со мной!», надежда – «если не сейчас, то, может быть, н е с к о р о» («никогда!») – и это понятно. Отвращение – «фу, гадство!» Желание смерти, как выхода из тупика, прекращение страдания, желание избавиться от усталости жизни или нечто близкое к этому – «дальше 40 – какая биография?» Утрата цели и смысла в жизни, потеря самого чувства жизни, когда все краски померкли. Все это понятно. Но вот заигрывание со смертью, попытка н а д у т ь ее, что скрывается за этим? «Упорный» Моня Квасов («Упорный») бьется над изобретением вечного двигателя. А его любимая бабушка в это время заигрывает со смертью. «Бабка вздохнула. Долго молчала: «Гнилье-то, гнилье… А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут». Это вызвало у Мони раздражение: «Начинается! – недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню – разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью, нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру». А ведь умная была старуха и усмехалась себе, говоря о смерти, но усмешка эта была поддельно-скорбная… Может, нужно вспомнить кое-что из биографии бабки, чтобы понять это. Не обманула разве она уже однажды свою смерть? Во время войны, когда действительно могла умереть от голода. Но потихонечку, помаленьку воровала зерно из колхозного амбара – и выжила.
Смерть и образы старика и реки. Это сильно. Особенно «Осенью». «Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно». Что «ясно»? Вот в чем загадка. Как важно и почему важно у с л ы ш а т ь от умирающего последнее слово. Ведь в «Горе» старик, может быть, потому и мучается и с ума сходит, что его Парасковья промолчала, умирая. Спрашивает ее теперь, умершую: «Пошто напоследок-то ничо не сказала?» А что услышать-то хотел от нее старик? Почему желание п р о с т и т ь с я с дорогим тебе покойником как нестерпимая боль в груди: «Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе. Да проститься же надо было!.. Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И это – горе старика Филиппа: «Ведь если чье это горе, так больше всего его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли… Вся жизнь долгая стояла перед лицом – самое главное, самое нужное, чем он жив был… Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб… Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко – он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая! Переживания Филиппа, что-то сугубо личное, интимное, его боль вызвала эта смерть, или что-то и в мире изменилось? «Голо как-то кругом и холодно. Да и то, осенью, с чего теплу-то быть?»
Действительно, насколько важно услышать последнее слово и увидеть последнее выражение лица умирающего? Ведь испокон веков и у всех народов, где смерть – не праздник, это мучительное желание. Танатологи пошли дальше; с помощью новейшей электронной аппаратуры фиксируют атональные движения мимической мускулатуры и голосовых связок – уникальнейшие киносъемка и звукозапись. А потом воспроизводят как в обычном кино: умерший продолжает говорить, а лицо его выражать… Пытаются таким образом заглянуть за порог смерти. Дозволено ли это? Или это тоже своего рода заигрывание с курносой, предложив ей сняться в кино? Или это – н а с и л и е н а д ж и з н ь ю? Даже борьба со смертью не должна превращаться в насилие над жизнью. И человеческому любопытству (если это слово верно в приложении к смерти) есть п р е д е л.
Каждый умирает в одиночку. Нет, это не верно. Застиг буран в лютый мороз Сергея Федоровича и жену его, Степаниду, в пути, и стали они замерзать в сугробе («Любавины»). Вот какой разговор происходит между ними:
« – Стеша… тут нам, однако, и конец пришел, – сказал он.
– А ты не пужайся. Зато вместе.
– Неохота же умирать-то!.. «Не пужайся!» Храбрая выискалась.
Помолчал и добавил:
– Обидно почему-то!
– Мне тоже обидно. Только ты не жалуйся – это нехорошо.
– Почему нехорошо?
– Не знаю.
– Дурацкие рассуждения! Ты бы хоть сейчас не учила.
– Я тебя никогда не учила, глупый.
Замолчали.
– Ребятишек только жалко, – прошептала Степанида».
Вот она, Правда, перед лицом смерти. Степанида отогревает закоченевшие ноги мужа у себя на груди, у тела. А он… скулит по-собачьи. И это тоже правда. Так их и нашли, и вот они в больнице: «Лежала Степанида на больничной койке вся какая-то ясная, чистая, светлая… Смотрела на людей ласково и благодарно…» А были Поповы преклонными стариками прожившими тяжелую жизнь, полную лишения и любви: перечитайте эти страницы в «Любавиных». Там же о смерти: «Начало лета. Непостижимая, тихая красота… Деревня стоит вся в зеленых звонах. Сладкий дурман молодой полыни кружит голову. Под утро, в красную рань, кажется, что с неба на землю каплет чистая кровь зари. И вспыхивает в травах цветами. И тишина… Такая, что с ума сойти можно.
Каждую ночь почти Кузьма приходил к Платонычу на могилу и подолгу сидел. Думал. Хотел понять, что такое смерть. Но понять этого не мог. Нельзя разрыть землю, разбудить дядю Васю. Он не спит. Его нет. Начиналась бесплодная, отчаянная работа мысли. Как же так? Есть небо, звезды, есть где-то Марья, есть депо, товарищи, далеко только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это непонятно…»
Есть ли у смерти м е с т о? Оно есть у умирания, то есть у жизни. Вот интересный разговор происходит между Спиридонычем и Сергеем Федоровичем: «…помирать скоро. Хэх! Ну и жизнь, ядрена мать! Мыкаешься-мыкаешься с самого малолетства, гнешь хребтину, а для чего – непонятно.
– Для детей, – сказал Сергей Федорович, подумав.
– Ну, это знамо дело, – согласился Емельян Спиридоныч. Ему захотелось обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти, и он не стал возражать. – Это правильно, что для детей. Только… Ты вот можешь мне объяснить, что бывает с человеком, когда он кончается? В Писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут под руки ангела и ведут. Так? А в избе кто три дня лежит? И потом, он же в земле остается… Гниют они, конечно, но лежат-то они там! Кого же в рай-то ведут? Я тут не понимаю.
– Душу.
– Да эт я понимаю! Это я тебе сам могу сказать, что душу. А как это душу?.. Как ее в смоле можно варить? Или говорят: «Будешь на том свете языком горячую сковородку лизать». А у души язык, што ли, есть?
– Должен быть. Вопче душа, наверно, похожа на человека.
– Непонятно.
– Ну как же непонятно! Какой ты – такая у тебя душа.
Емельян Спиридоныч посмотрел сбоку на Сергея Федорыча. Сказал разочарованно:
– Ни хрена ты сам не знаешь, я погляжу».
Душа… тоже как человек бывает в образе и может х о д и т ь по земле, предвещая беду («мор») или радость. И живые общаются с душой умершего, как с живым человеком, – это все из того же разговора.
Душа п о х о ж а на человека, один «образ», одно лицо. А вот покойник – это всегда у ж е к т о – т о д р у г о й! «Смерть Яши удивила Федю, крепко опечалила. Он ходил смотреть друга, долго стоял над ним, потрогал его холодную руку… Лицо Яши было закрыто полотенцем. И вот это полотенце, небольшая, конопатая, холодная рука, белая чистая рубаха – все это странным образом не походило на Яшу, а вместе с тем это все-таки был Яша…» Да, не твоя смерть. Только думы о ней, когда особенно хорошо: «Вот жизнь…» – думал Кузьма, и дальше не хотелось думать. Голова чуточку кружилась, на душе было прозрачно.
А один раз вдруг пришла некстати мысль: неужели когда-нибудь случится, что все на земле будет так же дорога петлять в логах, из-за услонов вставать солнце, орать воронье, облетая острые гривы косогоров, а его, Кузьмы, не будет на земле?
И не поверилось, что когда-нибудь так может быть. Уж очень хорошо на земле, и щемит душу радость…» («Любавины»). А ведь смерть-то была рядом с Кузьмой, и вполне реальной – в образе его врага, Егора Любавина, с топором в руках.
Смерть, она нигде и везде, кругом. Оглянись: «Все умирает на этой земле…» Предвидь к о н е ц в начале. «Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за заволжской степи… И земля, и вода, все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду: плескались задумчиво волны. Но уже там и тут в зеленую ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени». («Я пришел дать вам волю»).
Когда смерть принять легко? Когда она ради жизни. Об этом хорошо говорит Разин: «Учиним по Руси вольную жизнь, бояр и всех приказных гадов ползучих выведем. За то и смерть принять легко, бог с ей. А так жить больше не дам. Сами захочете – не дам! Вот… Все… Заживем, ребятушки, вольно!»
Понять смерть через жизнь, только через жизнь. А как иначе? Вот лицо, глаза Степана Разина, догоняющего стрельцов, обреченных им на гибель: «Лицо Степана спокойно. Только взгляд, остановившийся, выдавал нетерпение, какое овладело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился… Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибало к губам. Степан встряхивал головой и коротко, хищно, так выглядело, скалился и неотступно смотрел вперед». Это – зверь в погоне за добычей, дикая смерть. «Страшный взгляд, страшный… И страшен он всякому врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском особенным – простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба прорубь с реки, не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти». Если говорить о взгляде смерти, то здесь мы сталкиваемся с ним воочию. «Такие есть глаза у людей, в какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно также, как-то это само собой понятно – глаза эти не сморгнут, не потеплеют, от страха и ужаса, они будут так же смотреть и так же примут смерть прямо и просто». Да, смерть – дело серьезное. Понятно состояние Степана, преследующего стрельцов: «Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его остановившихся, остается одно только желание: достать, догнать, успеть». А ведь «желание останавливается» лишь в смерти. «Смерть хрипит и екает за спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бежит рядом, взглядывает черными дырами глаз в живые лица».
Как принимают смерть? Да как жизнь – по-разному: «Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы одинаково. Так уж не одинаково устроены. Могут же одни в близости смертного часа окаменеть и ждать, другие – кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь. Да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть». Как принял смерть, так прожил жизнь. Душевное состояние в твой смертный час не есть ли единственно достаточное основание для верного суждения о прожитой тобой жизни?
Смерть и н а г о в о р, заговор – это прочно в людском воображении. Вот Матрена привычно готовится творить заговор. Нет, не христианская душа говорит это: «А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным. Заговариваю я… этим моим крепким заговором. Чур, слову конец, моему делу венец». Это языческое наваждение, и одурманивающее, и кровь из ран останавливающее одинаково – л а с к о в о. Смерть у русича не только землей, но и травкой пахнет. Это – конец, но и начало – к р у г о в о р о т. Фрол говорит Степану: «У тебя… чары, как у ведьмы, ийти за тобой легко, даже вроде радостно. Я вон насилу вывернулся… отрезвел. Знамо, это все оттого, что самому тебе недорога жизнь. Я понимаю. Это такая сладкая отрава, хуже вина». Фрол мудрен, но не мудр. Он не знает, что судьба д о р о ж е жизни бывает. Ну а вечный круговорот жизни – это еще глубже. Это о щ у щ е н и е самого в р е м е н и: для одних оно обратимо, для других – нет.
Христианство внесло в сознание человека представления и о необратимости, и о конечности времени: время стало непрочным, а смерть – страшной благодаря Страшному суду и концу света. Прошлое, настоящее, будущее – о д н а линия, одно направление, где чем больше «прошлого», тем меньше «будущего». А «настоящее» это вообще – ничто или м и г: мигнул – и жизни нет. У язычника время – как лучи солнца расходятся и простираются во все стороны. Судьба – круг, охватывающий эти лучи воедино. Один круг – одна жизнь человека, ц и к л. И всему свое время, свой с р о к (как хочется объединить «срок», «рок» и «сорок»! ). Так и понимаем Степана Разина, его языческую душу и отношение к жизни и смерти. И почему о н в о л ю любил больше жизни. Воля – это простор во все стороны, безграничная степь, где ты всегда в центре и можешь идти на все четыре стороны. «Лучше мировую, чем панихидную», – говорит мудрец Матвей. «Мир» – это тоже «простор», где одинаково бесконечны все четыре стороны.
В мощной языческой символике предстает смерть Стыря. Сначала зловещая издевка Разина: «Будет вам панихида. Большая. Вой будет и горе вам». Сделал деду «добрые поминки»: «…триста душ отлетело – эго добрые поминки». В жертвенном огне сгорел Камышин. Весь. «…Ночью сидели в приказной избе: Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили.
Горели свечи и пахло, как в церкви.
В красном углу, под образами, сидел… мертвый Стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное. При оружии. Умыт.
Пили молча. Наливали и пили. И молчали… Шибко грустными тоже не были. Просто сидели и молчали.
Дед Любим сидел ближе всех к покойнику. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый.
Колебались огненные язычки свечей. Скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать. Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы, не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное: кап-кап, кап-кап…“ Дальше – песня, не грустно, но душевно и серьезно. И завершение этого жуткого и прекрасного обряда знаменательно: „За окнами стало отбеливать; язычки свечей поблекли-отцвели.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































