Текст книги "Пагуба (сборник)"
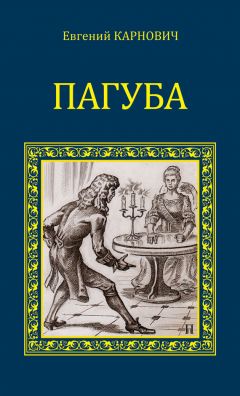
Автор книги: Евгений Карнович
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
XXVII
На другой день, 7 мая, к назначенному времени собрались во дворец все те лица из чинов военных и гражданских, которые были созваны по распоряжению князя Меншикова.
– Гаврила Иванович, – сказал он Головкину, – вскрой этот пакет и прочти громогласно ту бумагу, которая в него вложена.
Канцлер исполнил приказание князя и начал читать «тестамент» императрицы.
Для Анны Петровны и для герцога этот «тестамент» был уже известен в общих чертах, так как Елизавета, подписавшая его за свою мать, сообщила им об этом. Самой же Елизавете незачем даже было теперь слушать то, что предварительно читала она, и потому она безучастно относилась к тому, что происходило вокруг нее. Но когда Головкин дошел до той статьи, в которой поручалось регентству выдать ее замуж за князя-епископа, лицо ее вспыхнуло, и она украдкой обвела глазами присутствовавших, которые все пристально смотрели теперь на смутившуюся еще более молодую девушку. Герцог и в особенности герцогиня, казалось, были недовольны тем, что они слышали, но ни она, ни он, запуганные предварительно Меншиковым через Бассевича, не проронили ни слова против «тестамента», который и был беспрекословно признан подписанным покойной государыней.
Положение Петра, воцарившегося неожиданно для него самого, тотчас изменилось. Все полагали, что императрица назначит себе преемницей одну из своих дочерей, и потому не спешили оказывать ни великому князю, ни его сестре раболепных знаков внимания, а сам великий князь как будто старался спрятаться за своих теток и за герцога, не ожидая для себя ничего доброго. Когда же канцлер дочитал до того места, где сукцессором Екатерины назначался великий князь, то он бросился обнимать свою сестру. Великая княжна схватила его руку, со слезами на глазах поцеловала ее и потом крепко сжала ее в своей руке, не желая отпустить от себя брата.
Когда канцлер окончил чтение «тестамента», и против него не было предъявлено никаких возражений, то Меншиков, с глубоким поклоном, почтительным движением руки пригласил нового императора на середину залы и, став перед ним на одно колено, поцеловал его руку, пожелав ему царствовать долго и благополучно и подражать деяниям и подвигам своего великого деда, отца отечества.
После Меншикова стали приносить поздравления герцог и герцогиня, не преклоняя колена, но только целуя руку государя, на что он отвечал легким поцелуем. Дошла очередь до Елизаветы. Прежде чем успела она взять его руку, он крепко обнял свою красавицу-тетку и начал целовать ее в алые губки и в зардевшиеся щечки.
Остерман, его воспитатель, подметил это сердечное движение мальчика.
«Значит, я наладил хороший брак», – подумал он, вспоминая свой прожект о слиянии двух отраслей в потомстве Петра Великого; но, как человек, посвящавший себя некогда изучению педагогики, да и теперь любивший ее, он впал тотчас же в глубокое раздумье.
«Нехорошо, что в императоре-отроке проявляются такие порывы чувственных вожделений. Это доказывает, что в нем развиваются пылкие страсти в слишком раннем возрасте. Я помню себя в его годы; ни о Минхен, ни о Лизхен я еще не думал в его пору и, бывало, краснел и стыдился, когда они начинали ласкать меня как красивого мальчика. Не те здесь нравы: здесь не то, что в тихом нашем Бокуме. Впрочем, нечего и удивляться: великий князь видел вокруг себя много соблазнов. Его развращали на каждом шагу. Один безобразник Девьер просветил его так, как было бы впору, пожалуй, и двадцатилетнему юноше, да и физически он развит не по летам».
И Остерман, выросший в благонравном доме своего отца, протестантского пастора, принялся размышлять о своей целомудренной жизни, которую он соблюл до самой могилы. Он не увлекался никогда мимолетною любовью к женщинам и оставался неизменно верен своей суровой супруге, которая, со своей стороны, платя ему тем же самым, держала его в ежовых рукавицах.
Между тем как Остерман вдавался в размышления о вредном влиянии дурных примеров на юношество, поздравления императора лицами, находившимися в приемной, окончились. В числе лиц, поклонившихся впервые новому государю, оказались и некоторые дамы, бывшие наготове по первому известию о провозглашении нового царствующего лица приехать во дворец для всеподданнейшего поклонения. Незаметный и даже, так сказать, загнанный прежде внук Петра явился теперь во всем торжестве царственного величия. Слезы во дворце немедленно иссякли, потому что тех, кто искренно оплакивал Екатерину, было немного, а те, кто плакал, рассчитывая тем заслужить благорасположение цесаревен – из которых та или другая могла вступить на престол, – поняли несвоевременность и, главное, всю бесполезность своих и искренних, и притворных слез. Можно сказать, что теперь все сияли радостью, смотря на нового государя, на лице которого отражалось добродушие, и выглядевшего и по росту, и по осанке уже не мальчиком, а зрелым юношей.
Когда окончились поздравления в приемной, Меншиков попросил императора показаться перед войсками и велел растворить настежь двери балкона, выходившего на ту площадь, на которой стояло войско в ожидании, кому оно должно будет принести присягу. Солдаты вспоминали, как с небольшим два года тому назад они также были собраны на этой же площади и думали, что преемником царя Петра I будет объявлен внук Петра, когда совершенно неожиданно была провозглашена государыней Екатерина Алексеевна. Так и теперь они толковали о том, что, вероятно, будут присягать одной из цесаревен, когда вдруг на балконе показался великий князь. Герцог хотел было пройти на балкон, чтобы там стать рядом с государем, но Меншиков, приудержав его не совсем вежливо, появился на балконе сзади императора, немного поодаль от него. На площади при виде нового царя громко грянул введенный в ту пору в русском войске приветственный латинский клич vivat, заимствованный от поляков. По знаку, данному с дворцового балкона, выходившего на Неву, началась в Петропавловской крепости пальба из пушек, а на нее отозвались выстрелы из орудий, расставленных на валах тогдашнего адмиралтейства, находившегося на том же месте, где и нынешнее, но имевшего вид крепости.
«Знатные персоны», бывшие в приемной, отправились, по приглашению канцлера, в дворцовую церковь для принесения присяги воцарившемуся государю; ему же стало присягать и войско, расставленное на площади. По отслужении в церкви молебствия о благоденственном житии, здравии и спасении благочестивейшего императора Петра Алексеевича открыто было торжественно заседание Верховного тайного совета.
Здесь Петр II сел на вызолоченных императорских креслах, поставленных на возвышении под бархатным балдахином, убранным золотою бахромой и с такими же кистями; по правой стороне этого возвышения сели на стульях герцогиня Анна Петровна, ее муж, великая княжна Наталья Алексеевна и великий адмирал граф Апраксин; по левой стороне разместились, также на стульях, цесаревна Елизавета Петровна, князь Меншиков, канцлер граф Головкин и князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остерман – болезнь которого прошла мгновенно после того как он узнал через посланное его шурином Стрешневым письмо о назначении Петра императором – поспешил во дворец и, войдя вместе с другими в залу заседания Верховного тайного совета, стал в качестве бывшего обер-гофмейстера великого князя справа подле императорского кресла. Все прочие оставались на ногах, за исключением архиепископа Ростовского Георгия Дашкова и фельдмаршала Сапеги, которые также «были почтены стульями».
Когда все заняли указанные им места, секретарь Верховного тайного совета Степанов еще раз прочел завещание покойной императрицы, и затем совет постановил:
«Записать в протокол, что все по тому тестаменту должно исполнять».
Протокол этот был подписан не одними членами Верховного совета, но и всеми лицами, находившимися в собрании.
В длинном ряду подписей стояла седьмою подпись Сапеги, подписавшегося по-польски Jan Sapieha.
В тот же вечер кабинет-секретарь Макаров известил главноначальствовавшего в Москве старика графа Мусина-Пушкина, что
«7 мая, в девятом часу утра, собрались в большую залу вся императорская фамилия, весь Верховный тайный совет, Святейший синод, сенаторы, генералитет и прочие знатные воинские и статские чины, и что по тестаменту ее императорского величества учинено избрание на престол российский новому императору, наследственному государю, его высочеству великому князю Петру Алексеевичу».
XXVIII
В 1717 году в газетах Западной Европы, обращавшей уже внимание на Россию и в особенности на прославившегося, а отчасти и лично известного европейцам ее государя Петра I, сообщались сведения о разладе его со своим старшим сыном, царевичем Алексеем, который убежал от грозного отца и отдался под покровительство римско-немецкого императора Карла VI, женатого на родной сестре умершей уже жены царевича, Софии-Шарлотты, принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской.
«Кажется, что наступают для меня благоприятные конъюнктуры», – подумал, прочитав это известие, бывший в то время в Гамбурге русским резидентом Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.
Он заходил по своему кабинету все более и более ускорявшимися шагами. Волнение его возрастало, но вскоре оно несколько утишилось, и он, присев к письменному столу, стал писать по-латыни письмо, с таким обращением к тому лицу, которому оно предназначалось:
Затем излагалось следующее:
«Так как отец мой, брат мой и вся фамилия Бестужевых пользовались особенною милостию вашею, то я всегда считал обязанностию изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам, но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в иностранную службу, и вот уже четыре года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро верным путем я узнал, что ваше высочество находится у его цесарского величества, своего шурина, и я теперь замечаю, что образовались две партии, притом же воображаю, что ваше высочество, при нынешних очень важных обстоятельствах, не имеете никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить в настоящее важное время, посему осмеливаюсь вам писать и предложить вам себя, как будущему царю и государю, в услужение. Ожидаю только милостивого ответа, чтобы тотчас уволиться от службы королевской и лично явиться к вашему высочеству. Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание к особе вашего высочества».
Написав это письмо сгоряча, двадцатичетырехлетний Бестужев начал колебаться, раздумывая, следует ли отправить его по назначению. Но вскоре честолюбивые соображения придали ему решимость.
«Посылать это письмо к царевичу действительно опасно, но я состою в службе короля английского, а Англия не выдавала и не выдаст никого из тех, кого обвиняют иностранные правительства; тем более не выдаст она меня. Между тем я нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно, а царевич все-таки будет государем, и я, пробыв несколько лет в изгнании, возвращусь на родину, почтенный его доверенностью за мою преданность в самую трудную пору его жизни. Не только милости, но и широкая государственная деятельность будут предоставлены мне государем. Кроме того, передаваясь на сторону царевича, я делаю угодное римско-немецкому цесарю, который воздаст мне за это благодарностью, а в случае надобности предоставит мне у себя надежное убежище, где я вместе с цесаревичем и буду выжидать благоприятной для нас перемены. Во всяком случае, я выдвинусь вперед, сделаюсь заметным человеком и не буду оставаться в том ничтожестве, которое теперь томит меня».
Полученное от Бестужева письмо царевич имел осторожность сжечь, и потому Бестужев остался в стороне от дела, вследствие которого люди, выражавшие царевичу гораздо менее преданности, чем Алексей Бестужев, поплатились жестоко. Когда же после смерти царевича Бестужева вовсе не тронули, то он совершенно успокоился, но страшное честолюбие по-прежнему грызло его. Заведя в бытность свою в Вене знакомство с влиятельными при австрийском дворе лицами, а в том числе и с графом Туном, он поддерживал с ним политическую переписку и в одном из своих писем к графу высказал мысль о необходимости гарантирования петербургским кабинетом «прагматической санкции». Он, а не кто другой, придумал эту меру, которую потом так ловко выдал Тун Карлу VI за свою собственную.
Вел также Бестужев деятельную переписку и с сестрой своей, княгиней Аграфеной Петровной Волконской, которая обо всем, что делалось по части внешней политики в Петербурге вообще и при тамошнем дворе в особенности, сообщала своему брату, а тот, в свою очередь, передавал в Вену полученные им от сестры известия. Когда же в Петербург был отправлен Рабутин, чтобы подготовлять престолонаследие в пользу сына покойного царевича, то ему, как на деятельную в этом случае сотрудницу, было указано на Волконскую. Опасаясь переписываться с сестрою прямо, Бестужев свои к ней письма пересылал первоначально в Вену, и уже оттуда они шли в Петербург, пересылаемые в виде депеш на имя австрийского посланника.
Сторонники великого князя старались упрочить при нем свое влияние, но желание их, чтобы Волконская получила место обер-гофмейстерины при великой княжне Наталии, до сих пор еще не исполнялось. Рабутин пытался несколько раз заговорить на этот счет с Меншиковым, но светлейший, опасаясь происков княгини, отклонял этот разговор. Когда же воцарился Петр II, то желание иметь на него влияние сделалось еще заманчивее. Бестужев принялся хлопотать в этом направлении в Вене, и в одном из писем, присланных им не через Рабутина, а через датского посланника графа Вестфалена, княгиня Аграфена Петровна прочла следующие строки:
«Как к Рабутину отсюда писано, так и к венскому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне Наталье Алексеевне обер-гофмейстериной быть, також-де чтоб наши друзья – Абрам Петрович Ганнибал и Исак Павлович Веселовский достойнейше вознаграждены были. Вы извольте, согласно с помянутым Рабутином, о том стараться. Что же принадлежит до брата нашего и до меня, то я намерен потерпеть, дондеже вы награждение свое, чин обер-гофмейстерины, получите, и помянутые друзья наши, ибо награждение мое через венский двор никогда не уйдет от меня. Согласитесь с Рабутином о себе и о вышеописанных друзьях наших, такожде о родителе нашем прилежно через Рабутина стараться извольте, чтоб он пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может».
Действительно, Рабутин был теперь весьма сильным человеком у Меншикова. Содействие Волконской нужно было графу для получения венским двором таких сведений, которых он сам, как иностранец, не мог добывать из верных русских источников. Он очень желал бы угодить Волконской, но у него на душе лежало две просьбы такой женщины, которой он не мог отказать по сердечному к ней влечению и которая могла быть ему полезной и в плетении придворных кружев, хотя и не в такой степени, как Волконская. Он подумывал даже, не лучше ли будет вместо Аграфены Петровны пристроить на должность обер-гофмейстерины княгиню Марфу Петровну Долгорукову.
«Прежде всего мне нужно устроить дела моей дорогой Марты, а когда я их покончу, то примусь за дела Волконской; разом всего не сделаешь. Какая досада, – думал Рабутин, – что я не говорю по-русски так свободно, как Бассевич, а Меншиков не понимает ни по-французски, ни по-немецки, ни по-латыни, так что приходится с ним объясняться через переводчика или доставлять ему свои мемориалы в переводе на русский язык. Вот тут-то и выходит всегда беда, так как между ним и мною существует посредник, а при таком условии трудно вести вполне откровенную беседу». Рабутин усмехнулся и сел писать мемориал, который должен был быть передан светлейшему в русском переводе.
Начав свой мемориал высокопарными похвалами Меншикову и заявлениями о сочувствии венского кабинета к царю России и лично к светлейшему князю, как к мудрому правителю, и высказав вообще мысль, что заведывание в течение долгого времени государственными делами известных уже деятелей упрочивает доверие в международных сношениях, Рабутин намекнул на то, что призвание снова к иностранным делам вице-канцлера барона Шафирова было бы приятно австрийскому кабинету. Затем, в виде дружеского совета, он предложил призвать ко двору государя представителей знатных фамилий, в особенности тех фамилий, которые ведут свое начало от древних русских владетелей.
В заключение Рабутин предложил свои услуги князю напомнить в Вене – если его светлости будет это угодно – о скорейшем пожаловании ему герцогства Козельского.
Меншиков, которому – как, впрочем, и всему Петербургу – были известны близкие отношения Рабутина с домом Долгоруковых, тотчас догадался, о какой знатной фамилии идет речь в мемориале Рабутина, и, сообразив, что сближение его с Долгоруковыми будет для него небесполезно, не затруднился со своей стороны исполнить желание Рабутина. Через несколько дней состоялся указ о назначении князя Алексея Григорьевича Долгорукова ко двору императора и о возвращении из полевых полков его провинившегося сына. Что же касается возвращения из Архангельска барона Шафирова, куда он был назначен для «китоловного» промысла, то Меншиков, опасаясь этого хитрого и пронырливого человека, отложил это дело до тех пор, пока он не расправится с другими своими недругами. Он приказал сообщить Рабутину, что он, Меншиков, в свое время постарается получить относительно Шафирова согласие Верховного тайного совета, без воли которого он такого рода делами распоряжаться не может, а вместе с тем приказал поблагодарить Рабутина за его готовность похлопотать о пожаловании ему в скорейшем времени герцогства Козельского.
Для того кружка, которым в Петербурге руководила княгиня Аграфена и действия которого главным образом направлял из Копенгагена через Вену ее брат Алексей Петрович, вступление на престол не дочерей Екатерины, а великого князя Петра было уже само по себе значительным торжеством. Теперь кружок этот мог бы действовать вполне успешно, если бы возможно было отстранить Меншикова, а этого-то именно и добивалась Волконская.
Расчет ее на великую княжну Наталью Алексеевну был вполне верен. Император все более и более подчинялся влиянию этой замечательно умной девушки, руководимой Остерманом. Он во всем ее слушал и не скрывал от нее никаких тайн. «Каждый раз, – писал однажды Петр по-латыни Остерману, – как я с собою рассуждаю, сколько много надлежащее воспитание императора содействует безопасности и благоденствию народа, не могу не принесть неизменной признательности светлейшей княжне, моей любезнейшей сестре, которая меня поучает полезными увещаниями, помогает благоразумными советами, из которых каждый день извлекаю величайшую пользу, а мои верные подданные ощущают живейшую радость. Как могу я когда-либо забыть столько заслуг ко мне? Воистину, чем счастливее будет некогда мое государство, тем более, признавая плоды ее советов, поступлю так, что она найдет во мне благодарного брата и императора».
Писал ли это император-отрок по собственному своему влечению или нет, но во всяком случае в письме этом остались следы его собственной работы, так как к русскому тексту были подобраны им латинские слова. Несомненно, что в этой рукописи проявились следы привязанности и послушания брата сестре, и чем более распространялась молва о любви императора к великой княжне и о тесной дружбе с нею, тем сильнее рвалась Аграфена Петровна сделаться близкой к Наталии.
Волконской казалось – а она в этом случае не ошибалась, – что ей легко будет подчинить себе молодую девушку, с которой она умела так искусно обращаться и которая, со своей стороны, оказывала ей искреннее расположение. «И потом уже, – думала Аграфена Петровна, – не трудно будет влиять и на послушного ей брата – императора».
XXIX
– Тебя, Наташа, надобно поздравить, – сказал Левенвольд, входя к Лопухиной и дружески целуя ее.
– С чем?
– Фамилия твоего мужа снова входит в силу, и ты будешь знатной-презнатной госпожой.
Наталья Федоровна улыбнулась.
– Сейчас я узнал, что распорядились об освобождении царицы Авдотьи Федоровны из Шлюшинской крепости.
– Давно было пора это сделать. Внук ее царствует в России уже третий месяц, а родная его бабка, насильно постриженная, даже и не живет в монастыре, а сидит в крепости, – раздражительно сказала Лопухина.
– Меншиков и то с неохотой выпустил ее оттуда, да и многие из придворных и знатных персон теперь струсили, боясь, что царица будет им мстить за сына. Она знает их всех наперечет.
– Пожалуй, что и так; много она и сама натерпелась от них всяких бед и позора. Ведь вот в тот год, как была расправа царя из-за царевича со всеми близкими к нему, а между ними и Лопухиными, я вышла замуж. Шла я за Василия Степановича, как ты знаешь, против воли, но как завидовали мне тогда все! Двоюродный брат царицы, богатый боярин знатного рода – женится на Наталье Балк! «Вот счастливица!» – говорили все. Но прошло месяцев семь, и какая страшная беда разразилась над нами…
– Оставь вспоминать об этом, Наташа, – сказал Левенвольд, обняв ее и крепко целуя. – Теперь многое против прежнего переменилось, и хоть не совсем хорошо, что вся власть в руках Меншикова, но все-таки лучше, что не вступила на престол Анна Петровна, а то от мужа ее никому житья не было бы.
– А еще лучше, что не стала царствовать Елизавета, – перебила с живостию Лопухина.
– Почему же? Она такая добрая и приветливая.
– Знаешь что, Рейнгольд, я с тобой совершенно согласна, но странно – я чувствую к ней какой-то невольный, непреодолимый страх; мне все кажется, что когда-нибудь она будет причиною моего несчастия. Сама я вижу, что она прехорошенькая и премиленькая девушка, а поди же! Боюсь ее – боюсь, хотя и уверена, что она ничего не может мне сделать, у нее нет ни власти, ни силы. Да мне и самой невольно хочется дразнить ее чем-нибудь.
– Ты и так невольно ее дразнишь. Я помню, когда на обручении Сапеги за тобой стал ухаживать Александр Борисович Бутурлин, как гневно она смотрела на тебя. Это был не обыкновенный ее милый и кроткий взгляд, нет – в глазах ее было что-то жестокое, беспощадное. Удивился я тогда, откуда у нее могла появиться такая злость.
В то время, когда происходила откровенная беседа Наташи с ее возлюбленным, к Лопухиной совершенно неожиданно приехала княгиня Волконская. Аграфена Петровна, узнав об освобождении из Шлюссельбурга царицы Евдокии Федоровны – или инокини Елены, разумеется, тотчас же сообразила, что при дворе явится новая сила в лице Лопухиных, ныне опальных; что бабушка будет иметь, по крайней мере хоть на первых порах, влияние на своего внука и что это влияние очень удобно будет обратить против Меншикова. Она не знала, была ли известна бывшей царице преданность Бестужевых-Рюминых к ее сыну Алексею, так как, несмотря на свое восторженно-преданное письмо, брат княгини не был привлечен к делу царевича. При таком исходе этого дела царица, пробывшая в заточении почти тридцать лет, не могла ни знать, ни ведать о том самопожертвовании, на которое решался Алексей Бестужев. Нужно было довести об этом подвиге до сведения ее и указать ей на Бестужевых как на людей, которые были бескорыстно преданы ее погибшему сыну в самую злосчастную для него пору, когда они не могли ожидать для себя ни милостей, ни почестей. Вместе с тем можно было предвидеть, что ближайшие родственники старицы Елены войдут в силу и что двоюродный ее брат Василий Степанович Лопухин, муж Натальи Федоровны, – хотя личность сама по себе ничего не значащая, – может сделаться если и не силой, то все-таки очень удобным передатчиком всего того, что захотят внушить царице со стороны. Борьба между петербургскими палатами светлейшего князя и московским Вознесенским монастырем, назначенным для жительства царицы-старицы, представлялась не только возможной, но и неизбежной. Следовательно, теперь была самая благоприятная пора, чтобы подготовить в доме Лопухиных рычаги, пружины и нити, посредством которых можно было бы действовать во вред Меншикову, и это представлялось тем удобнее, что распоряжение об освобождении царицы из Шлюссельбурга содержали пока в тайне, так что приезд Волконской не представлялся каким-то заискиванием у Лопухиных. Соображая все это, княгиня сделала вид, что она ничего не знает о предстоящем переезде бабки императора в Москву, и предположила вести беседу с таким оттенком.
– Ну вот, Аграфена Петровна, и на вашей улице праздник, как говорят русские, – сказал, здороваясь с Волконскою, Левенвольд, хорошо научившийся говорить по-русски и любивший вставлять в свою речь русские поговорки.
– Какой, батюшка, праздник, когда злодей по-прежнему властвует! – сказала Волконская тем полураздражительным, полушуточным тоном, который невольно пробивается у людей, чем-нибудь внутренне довольных, но желающих показаться огорченными.
– А как же? Ведь тетушка-царица едет из Шлюшина в Москву, – сказала Лопухина.
– Будто бы? Так теперь тебе нужно низко, низко кланяться, – и княгиня шутливо отвесила поклон в пояс. – Да, впрочем, что в том толку, – притворяясь равнодушной, продолжала она, – и бабушка, и внук словно чужие друг другу. Они даже ни разу в жизни не виделись. Да и больно сурова бабушка-то, не сумеет она его приласкать да приручить к себе. Он, пожалуй, дичиться ее будет, а главное – голиаф-то не допустит их родственно сойтись. Ведь вот забрал государя к себе в дом, держит его взаперти и делает с ним все, что захочет. Никто с ним не сладит. Царь и бабушку-то знать не хочет, да ни ее к внуку, ни внука к ней Меншиков и не допустит.
– Этого-то он, пожалуй, сделать и не посмеет, – заметил Левенвольд. – А только вот что нужно: лишь только Петр Алексеевич сойдется с бабушкой, тотчас же воспользоваться этим, чтобы поскорее спровадить светлейшего подальше. Вы обе знаете по-немецки, так я скажу вам, что у нас, немцев, есть в ходу такая поговорка: Pflücke die Rose, wenn sie blüht, Schmiede das Eisen, wenn es glüht[4]4
Рви розы, пока цветут, куй железо, пока горячо (нем.),
[Закрыть].
– Да ведь и у нас, у русских, есть такая же точно поговорка: «Куй железо, пока горячо». Только о розах в ней ничего не упоминается. Это, впрочем, вы, немцы, мастера по части сантиментов… Где нам срывать розы! Хорошо, если бы хоть железо успевали ковать вовремя, а то и этого не умеем сделать. Вот и теперь, чего доброго, упустим время. По-моему, нужно устроить так, чтобы император тотчас поехал к бабушке, да с ней и отправился бы в Москву. Там ее, страдалицу, с радостию примут, а она может уже побудить внука послать из Москвы указ об отставке Меншикова. В Москве его боятся сильно, там еще помнят, как он рубил стрельцам головы.
– Прекрасно ты, Аграфена Петровна, говоришь, а только забываешь главное: ведь император, как малолетний, сам по себе пока ничего сделать не может, а указ должен быть дан от Верховного совета; в Верховном же совете кто и распоряжается, как не один только Меншиков, – всему он там заводчик и голова. И прежде он был силен, а теперь куда еще сильнее. Уж как, кажется, благосклонна была к нему покойная государыня, а все-таки генералиссимусом сделать его не решалась, а теперь он сам взял на себя этот чин и, значит, начальствует над всеми военными силами и на земле, и на море… Да вдобавок к тому и дочь свою обручил с императором.
– Ведь уж и в церквах ее поминают, как высокообрученную невесту, и теперь в светлейшем видят не только первого что ни на есть вельможу, но и тестя государева; а от бабки он отвадит Петра. Говорят, он все пугает государя ею, как страшною старухой, называет ее бабой-ягой. Да и мало ли чего он наскажет Петру! И разве мудрено мальчика сбить с толку.
– Вот потому-то и нужно, чтобы кто-нибудь умело подсоседился к царице Авдотье, а то ведь если медлить да никогда ни на что не решиться, так ничего и не выйдет, – сказала Волконская.
– Совершенно справедливо, – подхватил Левенвольд, в противность своему прежнему мнению о бесполезности действовать через старую царицу, – у русских есть славная насчет этого пословица: «Волков бояться, так и в лес не ходить».
– Дельно ты рассуждаешь, Рейнгольд Карлович. Вот хоть бы тебе, Наташа, как по фамилии Лопухиной, пробраться к царице, да там хорошо бы подкопнуться под самовластца, – хитро подмигнув, сказала княгиня.
Волконская хотя и понимала, что родная племянница кавалера Монса, и притом прикрытая тем же самым фамильным прозванием, какое до своего замужества носила сама Евдокия, а вдобавок еще и жена двоюродного ее брата если и не встретит слишком радушного приема у царицы-затворницы, то все же мстительному чувству старицы Елены она доставит своего рода удовольствие, так как красавец Монс, на погибель себе, жестоко отомстил Петру, ослепленному Екатериной.
– Нет, я напрасно поеду к тетушке, – сказала Наталья, отрицательно покачав головою, – во-первых, меня к ней не допустят, а, во-вторых, скажу тебе, Аграфена Петровна по правде, что я не способна на это дело, не сумею я повести его и, быть может, испорчу все.
«Надобно бы тебе поучиться хорошенько у Рабутина. Посмотрела бы ты, какой бойкой сделалась у него в руках Марфуша», – подумала Волконская, но не возразила ничего против отказа Лопухиной.
– А, боже мой, что с царевной-то Елизаветой сделалось! – круто переменила она разговор. – Вчера я ее видела, так совсем узнать нельзя: бледнешенька, словно из гроба встала; глаза впали, исхудала, точно месяц в тяжелой болезни пролежала.
– Еще бы! По своем «архиерее» наплакаться не может, – с довольною улыбкой подхватила Лопухина. – Помяни мое слово, Аграфена Петровна, поплачет она еще несколько дней и опять в кого-нибудь влюбится.
– Пожалуй, снова в Бутурлина; это с вами, милостивые государыни, хоть и редко, но все же случается, – заметил шутливо Левенвольд.
– Слишком ветрена она. Она, кажется, никого от чистого сердца постоянно любить не может, – проговорила Наталья Федоровна, нежно взглянув на Левенвольда и как бы желая сказать ему: «Она не то, что я».
– Жаль «бискупа», – начала Волконская, называя жениха Елизаветы так, как его прозвали в России, – человек он был молодой и красивый, а все-таки ты, любезный мой Рейнгольд Карлович, не обижайся, если при тебе скажу: слава Богу, что брак этот не состоялся. На что похоже – обоих зятьев из немцев покойная Катерина Алексеевна выбрала. Положим, это само по себе еще и не беда, если бы герцог людям русской породы аттенцию оказывал, а то он их и знать не хочет. Я и сама к немцам попривыкла; есть между ними хорошие люди. Да вот хоть бы и ты, Рейнгольд Карлович: хоть ты и немец, а все же ты человек хороший. Не слишком долго живешь в России, а не только что по-русски говорить как следует научился, но и много русских поговорок знаешь. А герцог Голштинский по-русски ни слова сказать не умеет и только скалит зубы или пыхтя отворачивается, когда с ним заговорят по-русски. Ну, а бискуп смахивал в этом случае на своего сродственника и в письмах своих к Катерине, как его помолвили, подписывался: «Ihr zweiter holsthinischer Sohn»[5]5
«Ваш второй голштинский сын» (нем.).
[Закрыть]. Видишь, какую Голштинию захотел завести в России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































