Текст книги "Пагуба (сборник)"
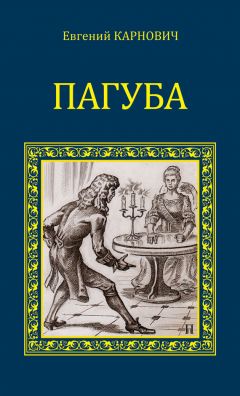
Автор книги: Евгений Карнович
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 32 страниц)
XXX
В Вене, в одной из комнат древней городской резиденции Габсбургов, так называемого Гофбурга, сидела молодая дама. Она писала что-то и потом то с досадою, то с веселой улыбкой прочитывала написанное ею, затем перечеркивала, снова прочитывала и рвала исписанный кругом листок бумаги в клочки, бросая их в топившийся в той комнате камин.
Недалеко от этой дамы за рабочим столиком сидела другая, тоже молоденькая дама. Она, казалось, была занята каким-то рукоделием, но занималась им, как можно было догадаться, только для вида, потому что постоянно посматривала украдкой на даму, сидевшую за письменным столом, и добродушно улыбалась, видя, как неудачно шла ее письменная работа.
– Ах, дорогая моя Амалия, если бы ты знала, как тяжело мне бывает иногда заниматься государственными делами, – сказала писавшая дама, оттолкнув от себя лист бумаги и с раздражением воткнув перо в чернильницу. – Посмотри, как я запачкала себе чернилами руки, а между тем из моего писания не вышло ровно ничего. – И она показала своей подруге тоненький белый пальчик, на конце которого было маленькое чернильное пятнышко. – Ах, как я завидую мужчинам, которые так скоро и так складно умеют сочинять деловые письма. Хотелось бы мне обходиться без них, но, к сожалению, это оказывается невозможным.
– Я предвидела, мой друг, твою неудачу и, подсматривая тайком за тобой, всякий раз подсмеивалась, когда ты сперва перечеркивала, а потом и рвала написанное. Что же ты, однако, написала?
– Я сумела написать только: «Всемилостивейшая государыня, возлюбленная моя сестра и друг».
– А дальше?
– Дальше пошел такой вздор, что я, к крайнему моему прискорбию, должна была убедиться, что вся моя дипломатическая переписка никуда не годится. – И обе молоденькие женщины расхохотались от души.
– Неужели так всегда будет? – вдруг с грустным и озабоченным выражением на лице начала Мария-Терезия. – Неужели же королева Венгерская, Богемская, Иерусалимская, обеих Сицилий, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Каринтийская, Штирийская, владетельница Тироля, графиня Фландрская, окняженная графиня Габсбургская и прочая, и прочая, – шутливо высчитывала свой длинный титул хорошенькая дамочка, – неужели она никогда не в состоянии будет управлять подвластными ей королевствами, герцогствами, княжествами, графствами, областями – и уж не знаю чем еще? Неужели она должна будет передавать все дела в чужие руки? Это ужасно!
– Нам с тобой, мой дружок, всего двадцать с небольшим лет; ведь в эти годы и мужчины бывают еще и неопытны, и глупы…
– И остаются такими навсегда, – хочется тебе добавить, – рассмеявшись, перебила свою подругу королева.
– Я знаю, на кого ты намекнула, – подхватила графиня Фукс. – Разве тебе это не стыдно? – шутливо спросила она.
– Тебе известно, что между нами нет никаких тайн, так зачем же я буду перед тобою, моим лучшим другом, лицемерить и лукавить? Я люблю моего дорогого, моего ненаглядного Франца… но… но я каждой девушке дала бы совет не выходить замуж за человека, которому нечего делать или, сказать вернее, который не умеет ничего делать. Он докучает мне своим бездельем: целый день ходит из угла в угол, насвистывает, напевает что-то или смотрит в окно на проходящих и проезжающих из одних ворот Гофбурга в другие. Он, как мне кажется, страшно скучает от ничегонеделания, и мне иногда бывает очень жаль его. Ну что бы ему теперь прийти сюда и помочь мне сочинить очень щекотливое письмо к русской царице.
– По моему мнению, он отлично делает, что не приходит. Пусть поработаешь ты сама и, попривыкнув к делам внутренней и внешней политики, ты будешь со временем великой и славной государыней.
– А мой милый, мой дорогой Франц? – перебила с живостью Мария-Терезия.
– Извини за прямоту, но мне думается, что он всегда останется таким, как теперь.
Графиня Фукс могла говорить с королевой, ставшей потом императрицею, с полною искренностью. Редко представляются примеры такой тесной и горячей дружбы, какая существовала между государыней и Амалией. Это подтверждается тем, что графине после ее смерти был оказан со стороны Марии-Терезии небывалый ни прежде, ни после почет: ее погребли в Вене, подле императрицы, в императорской усыпальнице, где покоятся исключительно только члены Габсбургского дома. Мария-Терезия не захотела разлучаться с своей подругой даже и в могиле.
Слова графини оказались пророческими. Ее королева прославилась впоследствии как женщина большого ума, как образец супружеской жизни и как разумная государственная хозяйка. Она отлично вела и внешнюю, и внутреннюю политику, любила без памяти своего Франца, прекрасно воспитывала своих детей и жила просто, не мотая денег на пышность и роскошь и на разные свои прихоти. Она сумела царствовать без шумих, без трескотни и без блеска, ослепляющего современников. Научилась она ловко писать и дипломатические письма и ловкою вставкою в одно из них, посланное маркизе Помпадур, только двух слов «ma cousine» – повернула вверх дном политику версальского кабинета так, что Франция оказалась на стороне Австрии. Но все это было потом, когда годы обратили ее в довольно сумрачную старуху, а в 1743 году она была молоденькая, очень миленькая и чрезвычайно стройная женщина, веселая и находчивая.
Сбылись также слова графини и относительно милого и дорого Франца. Он, как говорится, проваландался попусту всю жизнь. В 1746 году, когда римско-немецкий император Карл VII, по словам тогдашних русских газет, «представился внутреннею подагрою», Франц, герцог Лотарингский, супруг Марии-Терезии, был избран в немецкие кесари и, таким образом, сделался родоначальником ныне царствующего в Австрийской империи Габсбурго-Лотарингского дома. Самый высокий в ту пору сан римско-немецкого императора был как нельзя более по плечу ленивому и беззаботному Францу, так как, нося этот сан, ему ровно ничего не приходилось делать. Употреблял он свое беспечно-досужее время на волокитство, за что и был отдан Марией-Терезией под секретный надзор венской полиции, главный начальник которой и сообщал на ушко императрице о всех любовных шашнях ее супруга. С своей же стороны, он только удивлялся, каким образом могла знать об его проделках его августейшая супруга, за что и получал от нее заслуженные им головомойки.
Франц, разумеется, не пришел помогать своей супруге в ее дипломатических сношениях, которые касались маркиза Ботты. Так как имя его мелькало беспрестанно в деле о «конспирации», и притом с положительным указанием на ее «вредительные» намерения, то в Петербурге решили добраться по мере возможности и до Антона Еронимовича. Это было тем удобнее, что такому намерению канцлера Черкасского и Лестока не мог противостоять расположенный к Австрии русский вице-канцлер. Брат его, как и Ботта, был замешан в деле, и, следовательно, всякое слово, сказанное не только в защиту, но хоть в пользу маркиза, могло навести подозрение на самого вице-канцлера. Поэтому он отстранился от всякого участия в переписке насчет бывшего в Петербурге австрийского посланника, и в Коллегии иностранных дел была составлена и потом отправлена венскому кабинету обширная и резкая нота. В этой ноте выставлялись на вид все «богомерзские факции» маркиза и добавлялось, что российский двор, находясь в самых дружественных отношениях с австрийским двором, никак не может допустить мысли, чтобы господин маркиз при своих действиях мог сообразоваться с данными ему инструкциями, и потому он только лично должен отвечать за свои поступки. Сообщали также в Вену из Петербурга, что и в настоящее время Ботта, находясь австрийским посланником в Берлине, восстанавливает короля прусского против государства Российского и тщится возвратить, с помощью его величества, на всероссийский престол отлученную от оного Брауншвейгскую фамилию; что он позволяет себе дерзостные отзывы об ее величестве, ее правительстве и ее министрах. По всему этому в упомянутой ноте требовалось как унять злобно болтливого маркиза, так и наказать его «перед целым светом».
Это-то требование и ставило в затруднение еще неопытную в державных трудах и в дипломатическо-увертливой переписке Марию-Терезию. В ней прежде всего говорило в эту пору не очерствелое еще женское чувство, а врожденный ее рассудок, хотя еще и очень слабо, все-таки противоречил этому чувству.
– Как мне жаль бедную принцессу Анну, – нередко говорила королева, – в такие молодые годы испытать такой страшный переворот в жизни и быть обреченной на вечное заточение! Это ужасно! Я была бы очень рада, если бы она была не только восстановлена, но если бы ее хоть выпустили на свободу. Если маркиз Ботта старался о том, то, признаюсь, я вполне ему сочувствую и должна считаться его тайной соучастницей в этом добром деле. Как жаль мне и тех, которые теперь должны страдать за нее.
Под влиянием этих чувств она и пыталась написать Елизавете прямо от себя. Но, перечитывая написанное, она убеждалась, что это вовсе не деловое письмо, а какой-то трагический монолог, написанный в пользу страждущей и угнетенной женщины. Она понимала, что составленное в таком смысле письмо не только может принести пользы принцессе, но еще более раздражит против нее императрицу и убедит ее в той пагубной мысли, что маркиз, ввиду сочувствия своей государыни к несчастной Анне, мог действительно всеми способами стараться не только об ее освобождении, но и о восстановлении ее правительства.
На выручку королеве явился ее министр иностранных дел Улефельдт. Он доложил ее величеству, что русский посланник в Вене настоятельно просит дать ответ по делу о маркизе, что он, Улефельдт, переписывался уже с послом, ссылаясь на то, что у него, министра, были в руках все реляции, шедшие из Петербурга. При этом граф Улефельдт передал ее величеству содержание полученного им ответа, который, написанный в подлиннике по-русски, гласил так: «Жалобы идут не на реляции, а на богомерзские поступки Ботты, на разговоры его в конфиденциальных обхождениях, продерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения», и очень долго работала венская канцелярия для перевода на немецкий язык этих страшных обвинений.
Королева сообщила министру о своем намерении списаться непосредственно с императрицею, но министр чрезвычайно осторожно отклонил такой способ сношений, предвидя очень хорошо, что из переписки двух дам может возникнуть еще большая путаница. Улефельдт объяснил Марии-Терезии, что оставлять дело о маркизе Ботта без ответа нельзя, так как это будет принято не только за доказательство его виновности, но и за сочувствие венского кабинета образу его действия; что от маркиза, как от обвиняемого, следует потребовать объяснений и что во всяком случае следует поступать с Россией крайне осмотрительно.
Королева вполне согласилась с доводами своего министра, рассудительно и хладнокровно взвешивавшего все могущие быть «конъюнктуры», и поручила ему вести дело непосредственно от себя, и тогда началась обширная дипломатическая переписка.
«Неприятели наши, – писал Улефельдт русскому послу в Вене Ланчинскому, – затеяли на маркиза Ботту тяжкие обвинения; он человек рассудительный, как мог он таким постыдным образом вмешиваться в дела чужого государства». На это оправдание Ланчинский отвечал, что виновность маркиза несомненна, так как на это имеются ясные, несомненные доказательства в показаниях виновных.
«Но преступники могли оговорить маркиза, чтобы ослабить свою вину», – возражал Улефельдт.
В Вене отписались в том смысле, что преступления маркиза не подтверждаются никакими письменными доказательствами.
«Точно, что нет письменных доказательств, потому что и переписываться не было надобности при частых свиданиях заговорщиков между собою», – отозвались на это из Петербурга.
После того из Вены попытались было намекнуть в Петербург, что все дело Ботты не что иное, как только коварная проделка французской политики, что «в Париже радуются делу Ботты не менее, чем победе над Австрией, и хвалятся, что могут разрушить союз России с Австрией».
Между тем маркиз представил затребованное от него объяснение, в котором он писал, что с вдовою графа Ягужинского, которая, как он полагает, в его уже отсутствие из Петербурга вышла замуж за гофмаршала графа Бестужева, он виделся раз в неделю, а у госпожи Лопухиной бывал в Москве; что действительно он высказывал свое сожаление о Брауншвейгской фамилии не только перед ними, но и перед самой императрицей; что он хвалил бывшую правительницу, но хвалил также и царствующую государыню; что с госпожою Лилиенфельд он виделся лишь один раз и при этом свидании вел с нею только веселый, шуточный разговор. Он утверждал, что никогда не отзывался дурно ни об императрице, ни об ее правительстве и что молодая графиня Анастасия Ягужинская может подтвердить, что когда ее мачеха оплакивала своего брата графа Головкина, то он, маркиз, утешал ее упованием на Бога и на милость государыни. В заключение маркиз добавляет, что позволяет себе думать, что он, в его годы, не может быть так легкомыслен, чтобы замышлять государственный переворот, имея своими сообщниками – как это обнаружено следствием – только двух дам.
Объяснение Ботты было препровождено в подлиннике в Петербург с заключением австрийского министерства, что оно вовсе не признает маркиза виновным, как считает его петербургский кабинет. И ответ, и заключение произвели в Петербурге сильное раздражение, вследствие чего Ланчинскому приказано было выехать из Вены, «не откланиваясь королеве».
Едва ли кто-нибудь во всей Европе так искренне радовался, как Фридрих II, тому обороту, какой принимало дело маркиза Ботты, расстроившее дружественные отношения между Россией и Австрией. Король ласкал маркиза, который был в это время его постоянным собеседником и от которого он запасся всевозможными сведениями об императрице и ее приближенных. Но теперь Фридрих, в отчаянии поживиться чем-нибудь, неожиданно и круто повернул свою политику. Он видел, что императрица и королева достаточно уже разошлись между собою и что при этом условии будет всего выгоднее примкнуть решительным образом к одной из двух поссорившихся сторон, и по хорошо рассчитанным соображениям он перешел на сторону петербургского кабинета.
Не получая еще от него никаких сообщений по делу Ботты, Фридрих отказал маркизу в приеме при дворе, и оскорбленный Ботта должен был немедленно оставить Берлин. Фридрих приказал также уведомить петербургский кабинет, что он таким образом распорядился с австрийским послом, осведомившись о неблаговидных поступках маркиза и из глубокого неизменного уважения к императрице Всероссийской и, как будто на смех, уверял при этом, что прямоту и честность он считает главным условием международных отношений. В Петербурге были чрезвычайно довольны распоряжением короля, который, желая угодить Елизавете, пошел еще далее в своем нерасположении к Брауншвейгской фамилии. При свидании с русским послом в Берлине графом Чернышевым этот лицемер, философ, флейтист, полководец и кропатель французских виршей начал наигрывать на словах, как наигрывал на флейте, самые чувствительные мотивы. Он сказал графу, что скорбит всею душою о тех тревогах и о тех огорчениях, какие причиняют императрице принцесса Анна и ее сторонники.
– Я нисколько не сомневаюсь, – говорил король Чернышеву, – что Ботта имел твердое намерение возвести на престол принца Ивана и низвергнуть настоящее правительство, а также и в том, что он в этом случае действовал по особому секретному предписанию своего двора. Итак, – продолжал король самым доброжелательным голосом, – чтобы потушить последние искры, тлеющие под пеплом, я, как истинный и преданный друг вашей государыни, посоветовал бы ей, нимало не медля, отправить Брауншвейгскую фамилию в такое отдаленное и глухое место, чтобы о ней никто уже не знал и не слышал.
Такое внушение Фридриха решило бесповоротно участь злосчастной правительницы и ее семейства.
При неожиданном повороте прусской политики и ввиду начинавшегося сближения России с Пруссией пришлось и венскому кабинету иначе, чем прежде, отнестись к делу маркиза Ботты.
В Петербург по этому поводу была отправлена депеша, в которой от имени Марии-Терезии было написано:
«Предоставляем самому российскому правительству назначить какой угодно ему срок для заточения Ботты в крепости Грец, куда мы его и отправили, не ожидая окончания следствия и удовлетворяя желанию русского кабинета. Мы готовы продержать его там полгода и более».
Казалось бы, такой исход дела Ботты должен был опечалить вице-канцлера, но, напротив, он радовался и торжествовал, так как рассчитывал, что, вследствие такой уступки со стороны венского кабинета, он сумеет мало-помалу восстановить прежние дружественные отношения России к Австрии и повести свою политику во вред интересам Франции и к крайней досаде ненавистного ему Лестока, о падении которого он принялся хлопотать теперь еще деятельнее, чем прежде.
По его внушению императрица отвечала Марии-Терезии следующими великодушными строками:
«Я предаю все дело забвению, а насчет де Ботты, по царской милости, не желаю более ни наказания, ни возмездия ему, а освобождение его предоставляю ее величеству королеве венгерской».
Маркиз Ботта, выпущенный из Грецкой крепости, поступил снова в военную австрийскую службу и умер в 1774 году в глубокой старости, на восемьдесят втором году своей жизни.
XXXI
Переписка с Веною насчет Ботты нисколько не замедлила хода следствия над обвиняемыми в злом умысле против императрицы.
По окончании следствия было составлено «генеральное собрание» в Сенате. В состав его, кроме высших сановников и сенаторов, вошли еще и духовные лица, а именно: епископ Суздальский Симеон, Псковский епископ Стефан и архимандрит Троице-Сергиева монастыря Кирилл.
В этом собрании только один сенатор, имя которого осталось неизвестным, полагал, что будет достаточно предать виновных обыкновенной смертной казни, так как, говорил он, осужденные еще никакого насилия не учинили, да и русские законы не содержат в себе точного постановления на такого рода случаи относительно женщин, которые в настоящем деле составляют большинство.
Но мнение этого сенатора было отвергнуто прочими членами собрания. Особенно горячился в настоящем случае принц Гессен-Гомбургский, обыкновенно уклонявшийся, по незнанию им русского языка, от участия в обсуждении государственных дел. Но на этот раз у него нашлось умение говорить по-русски, хотя и очень плохо.
– Неимение письменного закона не избавляет виновных от наказания, – крикнул он, вскочив с места, – да и в настоящем случае кнут и колесование должны считаться самыми легкими казнями.
Принцу, подавшему такое мнение из приязни к Лестоку, начали вторить и другие сановники и сенаторы и предлагали, как и он, посадить виновных на кол. Трубецкой настоятельно требовал колесования Бестужевой, хотя лишь несколько лет тому назад похоронил ее родную сестру, а свою жену – Анастасию Гавриловну рожденную Головкину. После довольно продолжительных суждений собрание приговорило Бестужеву, а также Лопухиных – отца, мать и сына – к урезанию языков и колесованию, Мошкова и князя Путятина – к четвертованию, а Зыбина и Софию Лилиенфельд – к обезглавлению.
По постановлении приговора Лесток, как первоприсутствующий, обратился к собранию с вопросом: не пожелает ли кто возразить против этого приговора?
Но все безусловным молчанием выразили на него согласие.
Приговор был подписан девятнадцатью членами «генерального собрания», и положено было привести его в исполнение перед «коллежскими апартаментами», то есть на том месте на Васильевском острове, где ныне находится биржевой сквер перед зданием университета, занятым в то время двенадцатью коллегиями.
29 августа 1743 года Петербург пришел в сильное движение, так как накануне по городу было объявлено с барабанным боем, что на следующий день будет произведена казнь над обвиненными в злом умысле против персоны ее величества. Все кинулись на Васильевский остров. Но многие, к своему сожалению, ошиблись в своих ожиданиях. Хотя на площади перед «коллежскими апартаментами» высился сколоченный из старых грязных досок эшафот, но на нем не видно было ни колеса, ни плахи, ни спиц, на которые втыкали отрубленные головы. Догадывались, что, должно быть, государыня смягчила приговор, постановленный «генеральным собранием».
На эшафоте, около столба, сделанного наверху в виде буквы «глаголь», висел под деревянным навесом сигнальный, довольно большой колокольчик, в который звонил один из экзекуторов, извещая о начале казни, а по площадке эшафота расхаживали палачи, развешивая через перила длинные ременные кнуты. Не только вся площадь и галереи бывшего тогда там гостиного двора, но и крыши окружавших домов были наполнены народом. Из окон коллежских апартаментов смотрели представители и представительницы высшего общества, между которыми находились и все члены «генерального собрания». Полицейские драгуны расставляли экипажи знатных персон на особом, как бы почетном месте, с которого лучше можно было видеть все происходящее на эшафоте.
Все это, конечно, мог заметить только посторонний человек, но осужденные, которых вывели на площадь под крепким, окружавшим их со всех сторон конвоем, не знали еще о тех мучениях и казнях, которые ожидали их.
Экзекутор зазвонил в колокольчик, и приговоренных к казни взвели на эшафот при барабанном бое. Затем по данному сенатским секретарем знаку барабаны смолкли, и по команде начальствующего над военным отрядом отряд взял ружья на караул, а секретарь начал чтение длинного указа. В указе этом излагались все вины осужденных, а затем и состоявшийся о каждой и о каждом из них приговор с дополнением, что государыня отменила смертную казнь, заменив ее наказанием кнутом, с урезанием языка, Лопухиной и Бестужевой. Софию же Лилиенфельд по причине приближающихся родов на площадь не выводили, но приказано было объявить ей, что по разрешении ее от бремени она будет высечена плетьми. Все это и было исполнено.
Степан Лопухин и его сын не перенесли пыток и жестокого битья кнутом и вскоре оба умерли в отдаленной ссылке. Лопухина была отправлена в Якутск. Она протомилась в ссылке почти двадцать лет. Никто не узнал бы в возвращенной впоследствии старухе прежнюю блестящую красавицу. Годы и страдания слишком изменили ее. Возвратясь из ссылки при Петре III, она стала посещать тот круг общества, в котором жила прежде, и когда хотела сказать что-нибудь, то наводила на всех ужас, так как вместо прежнего звонкого голоса теперь слышалось какое-то дикое мычание. Бестужева, как меньше пострадавшая при урезании языка, могла, хотя и с большими усилиями и весьма неясно, выговаривать некоторые немногосложные слова.
Обер-гофмаршал Михайла Бестужев-Рюмин, остававшийся во время производства следствия над его женою под арестом, был по окончании дела посажен в каземат, где и отсидел три месяца, после чего его отпустили за границу «для поправления здоровья и для развлечения». Шестидесятидвухлетний старец развлекся там на свой лад, женившись на молоденькой и хорошенькой вдовушке графине Гаугвиц.
Брат его Алексей, несмотря на козни Лестока, по смерти князя Черкасского был сделан канцлером. Впоследствии, однако, и ему пришлось отправиться в ссылку, но не в отдаленную.
Кара, постигшая Лопухину, ее мужа и старшего сына, отразилась и на других детях Натальи Федоровны. Старшая дочь ее, Наталья, была лишена фрейлинского знака и удалена от двора, а два младших сына были отправлены к их родственникам в дальнюю деревню. Оба брата ее, Петр и Владимир, долго содержались под арестом, а потом не были допускаемы ко двору. Имения сосланных Лопухиных были отписаны на государыню и розданы ею другим.
О майоре Фалькенберге не встречается никаких сведений.
Поручик Фридрих Бергер был награжден и деньгами, и поместьем и переведен в конную гвардию. Впоследствии он был подполковником гвардии.
Дальнейшая судьба его неизвестна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































