Текст книги "Усвятские шлемоносцы"
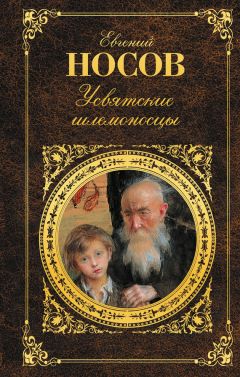
Автор книги: Евгений Носов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Он потом не слышал, как за сарайной перегородкой, забив крыльями, горласто, почти в самое ухо взыграл петух, которого прежде, в ночном, узнавал от самой Остомли, – так тяжек и провален был сон, простершийся б до полудня, если не вставать, никуда не идти. Но так и не спавшая, кое-как приткнувшаяся в розвальнях Натаха, уже в который раз, привстав на локоть, принималась расталкивать его, трепать по щекам, озабоченно окликая:
– Пора, Кося, пора, родненький.
– Ага, ага… – бормотал он одеревенелыми губами, жадно, всей грудью вдыхая, впитывая в себя последние минутки сна, бессильный пошевелиться.
– Вставай! Глянь-ка, уже и видно.
– Счас, счас.
– Тебе ж к лошадям надо, – шептала она, чувствуя свою скорбно-счастливую вину: не приди она сюда после дойки, не отними тогда своими поздними ласками и без того недолгую летнюю ночь, теперь он не мучился б этим сморенным, все забывающим сном. – Слышь, Кося, ты ж к лошадям хотел…
– Ага, к лошадям…
Она послюнила палец и мокрым провела по Касьяновым тяжелым, взбухшим векам. Тот замигал, разлепил ничего не видящие, ничего не понимающие, младенчески-отсутствующие глаза. И лишь спустя в них проголубела какая-то живинка, еще не вспугнутая осознанием предстоящего, еще теплившая в себе одно только минувшее – ее, Натахино, умиротворяющее в нем присутствие.
– Уже? – удивился он свету, не понимая, как же так, куда девалась ночь.
– Уже, Кося, уже, голубчик, – проговорила она, спуская босые ноги с саней.
И он, наконец осмыслив и бивший в чуть приоткрытые ворота теплый утренний свет, и Натахин тревожный шепот, приподнялся в санях.
– Сколько время?
– Да уж солнце. Седьмой, поди.
– Ох ты! Заспался я. – Он цапнул в головах брюки, отыскивая курево.
– Сразу и курить. Выпей вон молока.
– Ага, давай, – послушно кивнул Касьян, смутно припоминая вчерашний ночной звон подойника.
Он принял от Натахи ведро и через край долго, ненасытно попил прямо в санях.
– Ва! – крякнул он, оживая голосом. И хотя не успел проспаться и все в нем свинцовело от прерванного сна, на душе, однако, уже не было прежней тошнотной мути, и он попросил озабоченно, будто собирался в бригадный наряд: – Подай-ка, Ната, сапоги.
Потом, поочередно засовывая ладно обмотанные мягкими, хорошо выкатанными портянками ноги в пахучие голенища, сонно покряхтывая, сам еще в одних только брюках и нижней рубахе, урывками говорил:
– Я с тобой не прощаюсь… Еще свидимся…
Натаха присмирело глядела, как он обувался.
– И детишек не колготи… Пусть пока поспят.
– Ладно…
– Потом приведешь их к правлению… Поняла?
– Ладно, Кося, ладно…
– Часам к девяти. Мать тоже пусть придет…
Он встал, притопнул сапогами: ноги почувствовали прочную домовитость обужи.
– А вдруг там больше не свидимся? – думая над прежним, сказала она поникшим голосом.
– Куда я денусь? – кинул он и вышагнул из сарая, на ходу набрасывая вчерашнюю черную рубаху. – Подай-ка пиджак с картузом. А то я в сапогах, нашумлю. И сумку.
– Дак что ж в дом не зайдешь? – Натаха следовала за ним, держа под шеей стиснутые ладони, будто ей было холодно. – Больше ведь не вернешься… И не поел на дорогу.
– Когда теперь есть… – проговорил он, торопко застегивая на рубахе мелкие непослушные пуговицы. – Покуда туда добегу, да там…
– Ну как же… С домом хоть простись…
– Дак еще ж, говорю, свидимся.
В дом ему не хотелось: не сознавая того, невольно оберегал он в себе ту пришедшую к нему ровность, с какой сейчас, не тратя себя, лучше бы за калитку, – и все, как обрезал. Приглаживая неприбранные волосы, Касьян на носках переступил порог еще по-утреннему тихой избы, заведомо томясь горечью увидеть в эту последнюю трудную для него минуту не столько самих мальчишек, сколько старую мать. Ребятишки – ладно: поцеловал бы сонных да и пошел, но мать, поди, уже давно топчется, вон и гусей с коровой нет во дворе, и он вошел в дом, весь внутренне напряженный и стянутый.
Мать он увидел в горнице перед распахнутым сундуком. Не замечая его, она копалась внутри, вытаскивая из бокового ящичка для мелочи какие-то узелки и свертки. И Касьян, глядя на ее согбенную спину, не посмел окликнуть, пока она сама, почуяв чье-то присутствие, не повела взглядом в его сторону. И взгляд этот, оторванный от сундука, был какой-то чужой, не признававший Касьяна.
– Ну, мать, пошел я, – негромко, с заведомой бодрецой объявил он, рассчитывая и тоном и видом смягчить и облегчить ей это прощание.
Нынешней ночью она, наверно, совсем не спала: жухлое, бескровное лицо ее еще больше обрезалось, жидкие изношенные волосы, сумеречные впалости глаз и беззубого рта скорбно обозначали очертания проступившего праха, и Касьян только теперь неутешно осознал, как враз состарилась его мать, как близка она к своему краю. А она, озабоченная чем-то своим, то ли вовсе не слыхала, то ли не поняла Касьяновых слов, сказала ему свое:
– Хотела найтить… Да вот, вишь, не найду, запамятовала. Наталья, ты, часом, не видела, был тут у меня обвязочек…
– Потом, мать, потом… – перебил Касьян. – Идти надо. Побег я.
– Побег? – повторила она за Касьяном, все еще странно отсутствуя, дознаваясь взглядом какой-то своей пропажи. – Уже и пошел? Ох ты, осподи! А я-то хотела тебе найтить. Взял бы с собою… Сколь берегла, от самого твоего рождения. Про такой-то случай. Да, вишь, не уберегла. Памяти совсем не стало. Да как же это пошел? Деток не повидавши… Сичас, сичас побужу. Ох, горе, вот горе…
– Не надо бы их, – попробовал отговорить Касьян, проследовав с ней за полог. – Я пока на конюшню токмо. Опосля еще свидимся.
– Как же не надо, как же это не надо? Уходишь ведь! Наталья, поднимай дитёв, чего ж ты как не своя. Проснись, Митрий. И ты, Сергий, не спи. Будя, будя вам. Проспите отца-то. Ой, лихо! – Она подхватила на руки младшего, все еще никак не хотевшего держать голову, безвольно ронявшего ее на бабушкино плечо. – Да что ж вы, как маку опились. Опамятуйтеся, сказано. Батька вон уходит, а вам бай дюже. Придет ли опять…
И только теперь, будто ударившись об это «опять», бессильная высказать боль свою и смятение, молча заплакала, смяв ветхие морщинистые губы. Пришел в себя и, еще ничего не поняв, сразу же заревел и Митюнька.
– Ох да голубчики мои белы-ы… – наконец вырвался на волю бабушкин взрыд. – Да сыночки ж вы мои последнии-и…
Глядя на нее, крепившаяся все эти дни Натаха подшибленно ойкнула, надломилась, пала, не блюдя живота, в Сергунковы ноги, беззвучно затряслась, задвигала скрипучим топчаном. Растревоженный Сергунок испуганно отобрал у матери ноги, подскочил, присел на постели и теперь, заспанный и сумной, понуро молчал, ни на кого не глядя.
– Ох да на то ли я вас, сыночки, лелеяла-а, – раскачивалась вместе с Митюнькой бабушка. – На то ль берегла-а… на черну да на бяду-у… – И, заметив насупленно молчавшего Сергунка, вдруг, в плаче же, запросила-запричетывала: – Плачь, плачь, Сергеюшко-о… Не молчи, не томись, каса-а-тик… Да нешто не видишь, горя какая наша-а…
Она потянулась к Сергунку незрячей, слепо искавшей рукой, но тот уклонил свою голову, нелюдимо отшатнулся от непонятно кричавшей бабки.
– Да что ж ты не плачешь, упорна-ай… Пожалей, пожалей свово батюшку-у… Ох, да на што сиротит он нас, на што спокида-а-ить…
Не хотел ничего этого Касьян, надо бы уйти сразу, да вот стой теперь, слушай, и он, чувствуя, как опахнуло его изнутри каким-то тоскливым сквозняком, вышагнул в кухню и сдернул с гвоздя пиджак. И уже одетый, не таясь пробуженной избы, гулко топая сапогами, вернулся в горницу за мешком.
– Ну все, все! – оповестил он, засовывая рукава в мешочные лямки. – Наталья! Будя, сказано! Бежать надо.
Перетянутый лямками по черному пиджаку и черной рубахе, уже какой-то не свой, непривычный, Касьян взял у матери Митюньку, присел с ним на сундуке. Сергунок соскользнул с топчана и, босоного прострочив горницу, прилепился рядом.
– Сядьте, посидим, – объявил Касьян.
Мать и Натаха, всхлипывая, послушно присели.
И стало слышно, как в едва державшейся, насильной тишине стенные ходики хромоного, неправедно перебирали зубчики-секунды…
Пытаясь все закруглить по-доброму, не дразнить больше слез, Касьян наконец первый нарушил эту немую истому, воскликнув с шутейной бодрецой:
– Ну, Сергей Касьянович! Прощевай! Чегой-то штанов не надеваешь? Пупком на всех светишь? А? Давай-ка, хозяин, руку, досвиданькаться будем.
Сергунок, хмуря белоперые отметины бровей, замешкался, не сразу подал руку и не шлепнул ответно, как Касьяну хотелось, а вяло, чем-то неволясь, положил ладошку на поджидавший его широкий плот отцовской пятерни.
– Эвон какая ручища-то! – продолжал бодро играть Касьян. – Ну прямо мужицкая! Топором токмо махать або косой. Ну дак и уступлю тебе все свое. Избу вот… Струмент всякий… Поле – сам знаешь где. Хозяйствуй знай! А?
Пока Касьян говорил, удерживая сынову руку, тот все ник и ник взъерошенной головой, и никак не удавалось Касьяну заглянуть ему в глаза, чтоб их запомнить и унести в памяти.
– Подойдет время – учись, старайся. Ага? Постигай, наматывай. Где, к примеру, немец обретается, что это за земля такая? Чтоб знать наперед, понял? – Он говорил случайное, не зная, что еще наказать непонятно затворившемуся мальцу. – Ну дак, ясное дело, перво-наперво мать слушайся. И бабушку. Это уже само собой.
Сергунок, не убирая руку с отцовской ладони, молчал, вздув наспанные губы.
– Да чего с ним сдеялось-то? – охнула бабушка. – Как окаменел малый. Ты скажи, скажи слово-то отцу. Нешто гоже эдак-то немтырем молчать. Экой упорной! Хватишься потом, да некому будет…
– Ладно, мать, ладно. Не замай его. Это со сна он… И ты, Митрий, тож слушайся тут, не докучай. – Касьян притянул на грудь младшенького, потрепал, потискал и, поцеловав трижды в непросохшие глаза, опустил на пол. – Ну, ступай к мамке, ступай!
Бабушка снова украдкой прослезилась какой-то остатней слезой, не одолевшей морщинок: главные свои слезы, никем не слышанные, никем не виданные, она выплакала еще до этого дня в одиноком своем запечье.
– Ну, дак пора мне, – опять объявил Касьян, вставая с сундука и озирая напоследок углы и стены. – Миром живите.
Поочередно пообнимавшись с женой и матерью, которые снова ударились в голос, оделив их, не слушавших, торопливыми утешными словами, какие нашлись, какие попадя подвернулись, Касьян с перхотой в горле, стиснув зубы, нырнул в горничную дверь, схватил по пути картуз с кухонного простенка и вылетел во двор. Вслед на крыльце засумятились, запричитали, но он, кургузясь под тяжестью сумы, крепясь не обернуться, через силу порывая липучие тенета отчего дома, превозмогая хватавшую за ноги жалость к оставшимся в нем, топча ее сапогами, крупно, неистово пошагал, чуть ли не побежал к задней калитке.
И вдруг, уже ухватясь за спасительную щеколду, услышал звеняще-отчаянный голосок, пробившийся сквозь бабьи вопли:
– Папка! Папка-а!.. Я с тобой!.. Я с тобой, пап-ка-а-а!
Остановился Касьян, похолодел, сжался нутром, будто левым соском напоролся на вилы: перед сенечным крыльцом, отбиваясь от бабкиных и материных рук, барахтался на земле Сергунок, так и не успевший в суматохе натянуть своих покосных штанов, – крутился вертким вьюном, бил-колотил ногами, тянул к нему руки.
– Папка-а! Я с тобой!
Касьян хотел уже было вернуться, как-то успокоить мальца, но на него замахали сразу и мать и Натаха, закричав: «Нельзя, Касьян! Не вертайся, ради бога!» И он поспешно рванул калитку.
И когда, не обращая внимания на ветки, обдираясь вишеньем, уходил садом, и когда потом косил напрямки по чужой картошке, его долго еще настигал и больно низал этот тоненький вскрик, долетавший с подворья:
– А-а-а…
15Все это время, готовясь к последнему дню, наперед казнясь его неизбежной надсадой, Касьян все же мыслил себе, как пройдет он по Усвятам, оглядывая, запоминая и прощаясь с деревней, торжественно печалясь про себя, оттого что каждый его шаг будет необратим, а путь его неведом; как выйдут за калитки остающиеся тут старики, почтительно обнажат перед ним головы, наговаривая разное, вроде: «Час добрый тебе, час добрый! Не сплошай там, вертайся!»; как будут вослед торопливыми жменьками сыпать кресты на его заплечную суму глядящие в окна старушки, а деревенская детвора молчаливым поглядом проводит его, ступающего в последний раз мимо изб, ворот и палисадов.
С тем бы и уйти, переступить усвятскую черту…
Но пришел этот день, и бежал Касьян задворьями, обрывая сапогами ботву, сшибая сиреневые соцветия июльской картошки, не замечая, что бежит, мелькая далеко видным белым мешком. На Полевой улице, против Кузькиной избы, оглядываясь назад, на Сергунков крик, едва не угодил в какую-то ямину, вырытую рядом с тропой, и не сразу понял, к чему она тут, для чего она Кузьке. И лишь когда попалась и другая, и третья – вспомнил, что и сам вырыл такую же под своими окнами, когда собирались столбить радио. Ненужные теперь ямы желтели взрытой глиной почти против каждой избы, и он, обегая их, с неприятным чувством подумал, что следовало бы опять засыпать, заровнять перед уходом, негоже, нехорошо оставлять заготовленную яму, зиявшую против двора. Все равно теперь некому будет ни ставить столбы, ни тянуть проволоку.
На Селивановой свертке, одолев предел цепенящего тяготения, Касьян обессиленно и в то же время облегченно перевел дух. Под потным обручем картуза запаленно бухали виски, тело колотило мелким ознобом. В последний раз оглянулся назад, не нашел своего двора за сокрывшими его соседними садами, да особенно и не вглядывался туда, даже как-то рад был, что уже не видно, что наконец обрезалась пуповина и он теперь сам по себе с одной только своей ношей.
Деревня в этот уже неранний час была затаенно нема и безлюдна: все, кому предназначалось идти, еще досиживали свое по домам, обряжались в походное, завтракали, давали последние заветы, еще только подходили к прощальной маете, бабьему крику, и Касьян, окинув в последний раз пустую, будто выморочную улицу, свернул в заулок.
На все том же конторском выгоне, в полуверсте от деревни, вставала ровной соломенной крышей новая конюшня, затеянная там по генеральному Прошкиному плану. Рядом с ней желтела выведенными стропилами другая такая же хоромина – под молодняк. Оттуда натягивало радостным духом лошадиных стойл, к которому подмешивался запах уже обсохшего и засочившегося степной горечью низкорослого полынка, и Касьян, вольно расслабясь, распустив давивший его ворот, пошел уже ровнее, успокаиваясь и обретая себя.
На выбитом выгоне возле конюшни сгрудились бригадные телеги, нынче их еще никто не разбирал и, видно, теперь уж не тронут за весь день. Возле телег Касьян увидел дедушку Селивана, долговязого и молчаливого деда Симаку и босого, в коротковатых штанах Пашку-Гыгу. Дед Симака, подважив плечом бок бестарки, сдвинул с оси заднее колесо, давая Селивану промазать квачом ступицу. Пашка-Гыга, присев на корточки, с детским любопытством заглядывал в черную дегтярную дыру колеса. За его спиной поверх выпущенной рубахи висело на бечевке вытесанное из доски аляповатое подобие ружья.
Пашка-Гыга первым уловил шаги и, недобро остановив на Касьяне вытаращенные глаза, должно быть, не узнавая, цапнул было с плеча ружье, но, распознав-таки прежнего конюха, подскочил, миролюбиво и заискивающе протянул пухлую бескостную ладонь.
– А мы тут мажем… Чтоб немец не услыхал, – доложил он и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно, всеми внутренностями гыгыкнул.
– О, глянь-кось! Вот он воитель! В полном соборе! – обрадовался дедушко Селиван, любовно осматривая Касьяна. – На́ вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки.
– Уже смазаны, – сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги.
– Тади ладно, ежли так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет.
Дедушко Селиван и сам вырядился в невесть откуда взявшиеся у него чоботы – пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но вволю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нем была не та – мелким птенцом по блекло-синему застиранному ситцу, неглаженая, но чистая.
– А Ванюшка-то Дронов еще вчерась надвечер улепетнул, – сообщил он со свежей утренней бодростью. – Один да пеший. Да-а… Побег, побег, соколик… Заглянул я к ему перед тем – молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди, и тамотка, тридцать верст отсчитал по прохладцу. А то небось уж и в эшалоне едет.
– Моя бабка говорит, это его смертушка к себе кличет, – сказал Пашка-Гыга. – Иди сюды, иди сюды – пальцем, гы-гы-гы.
– А ну! – повел бровью дед Симака, и Пашка опасливо отскочил, продолжая мокророто лыбиться. – Выправь-ка лучше телегу на выезд.
Пашка готовно облапил дышло и поволок бестарку на свободное место.
– Двух извозов хватит ли? – спросил дедушко Селиван. – С полета мужиков ежли?
– Хватит. – Дед Симака кивнул-клюнул крупным вороньим носом, зачинавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жестких бровей. – Хватит и двух – не на Азов поход.
– Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? – весело поинтересовался дедушко Селиван. – Выбирай любых, напоследок проедешь.
– Все едино. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?
– А то как же, – степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды.
– Засыпали, засыпали овсеца, – уточнил дедушко Селиван. – Жуют! Я ить сюда чуть свет прискакал. А топчан сладим, дак и ночевать тутотка стану.
– Овес бы поберегли. Не зима – всем овес травить, – заметил Касьян. – Теперь сыпь, да оглядывайся.
– Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю небось на одной траве. Как посевную пошабашили, с той поры, поди, и не перепадало. А два дни дак и вовсе в ночном не бывали, незнамо чем и сыты.
– Это наладится, – покашлял дед Симака. – Нынче с Павлом и сгоняем. Некому ж было. Пришел, а кони брошены, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться надо. Благо хоть вон Павел попить привез.
Его жидкие восковые щеки, беспорядочно иссеченные годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полоскание и гонял туда-сюда днем и ночью, – прихварывал старик, маялся грудью.
– Позавчоры стучит в окно Дронов, – сказал он, откашлявшись. – Иди, говорит, побудь на конюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз надо. Ишшо ноги носють. А ногам все одно где топать – дома ли, тут ли. Мне б, конешно, стариков в подмогу. Ну да я сам и поговорю с которыми.
– Дак и я пособлю чего ни то, – отозвался дедушко Селиван. – Вот солдатиков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе насовсем. Э-э, Серафим, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим. – И распорядительно крикнул: – Павел! Слазь-ка, голубь, на сеновал, погляди, нет ли сенца на повозки постлать.
Пашка, сняв ружье и приставив его к конюшенной стене, ловко взбежал по стремянке.
– С сеном нонче разор, – проговорил дед Симака, уставясь в землю. – Ладно ишшо дожжей нет…
Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь вовнутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствие. Со света в конюшне было сумеречно и терпко. Солнечные лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной над кучками вычищенного навоза, сваленного в главном проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, но нынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозняков. Войдя, Касьян заглянул в шорницкую, отгороженную при входе. Там тоже наметились перемены. Деревянный ларь с инструментами, седельным войлоком и всякой починочной обрезью, на котором зимой конюха коротали дежурства, был отодвинут, а на его месте стоял еще не доделанный топчан, тогда как вокруг на полу валялись обрезки брусков и теса и было насорено щепой и опилками. На столе вперемешку с рубанком и долотами стоял чужой незнакомый чайник и глиняная черепушка, прикрытая лопухом. Надо всем этим, под узким, таким же, как и у лошадей, оконцем, торопко мельтешили жестяные ходики, должно, принесенные дедом Симакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и основательно, будто въезжал в новое жилье, но пока здесь было мусорно и неуютно, и все это кольнуло Касьяна, подчеркнув его окончательную отторженность и непричастность к конюшенному бытию. И было странно и неприятно слушать, как где-то на чердаке топал, стучал пятками разговаривавший сам с собой Пашка-Гыга.
За высокими перегородками, так что были видны одни только стегна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян, тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой все с тем чувством своей отторженности, и когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть напоследок и попрощаться.
– Данька! Данька! – позвал он еще издали.
Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он некрупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти, с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью игрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была нестарушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел ее в безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш и жил чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистил белым речным песком и еще раз выкупал и, неузнаваемую, сам в душе с праздником привел во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливали: «Хороша, хороша, но да вить корова – молоком, а конь – работой. Спробовать бы надо…» – «Спробуем, как не спробовать, – радовался Касьян. – Для того и куплена». На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких, стаканчиками, копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и не громоздок, – ладил в самый раз по кобылке.
Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок оставались при нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать, а не вступать – так и нечего голову морочить… Хорошо ему, Прошке, фигу показывать – сам-то он безлошадно, налегке вступил, и Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конем и с телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставишь? – вскинулся тогда Прошка-председатель. – Пан-барон нашелся, понимаешь!» Но, вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, «каприс» и назначил на должность временно, до общего собрания – как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом – вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой…
За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу Челку и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле – подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось, – Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка, – красота с огнем пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно – откуда… Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчелку вот-вот заберут…
Были у него и еще коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестерки – всякие, но Данька шла по особ статье: своя лошадь.
Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька – три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной, – от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит – видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочно-топленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное – получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезь в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме – лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет, а чуть что – и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету… И все ж любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут – молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье – свежие полосы, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И жалея, потом в ночи украдкой подсыплет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче…
Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.
– Данька, Данька! – позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.
Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и ненадолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.
– Это я! Али не видишь? – поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик. – Эк поспешает! – обиделся Касьян. – Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.
Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы – «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху написал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.
– Ну дак чего… Пошел я… – растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена. – Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































