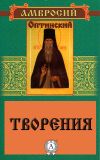Текст книги "Старец Амвросий. Праведник нашего времени"

Автор книги: Евгений Поселянин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
ГЛАВА VI
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
Каковы были черты духовной личности старца Амвросия?
Его постоянное нахождение на людях, его постоянное пребывание в таких тисках «молвы житейской», которой не знают и наиболее общительные мирские люди, не истребило в нем нисколько так глубоко проникшего в него иночества. Он усвоил себе и провел в свою жизнь слова святого Исаака Сирина: «Изливай на всех милость свою, и буди спрятан от всех». Келейные входили к нему по звонку, всегда с молитвой, так что и выражения лица его не могли застать, так сказать, врасплох. И о том, что он думал лично о себе, что он чувствовал, переживал, того он никому никогда не открывал.
Он любил говорить о том, какой спрятанности в своей жизни держался великий митрополит Филарет Московский, тоже проживший весь век на людях. Келейники не могли даже видеть, как он умывается – принеси воды и иди. Случалось, что келейник хотел остаться, помочь, но старец приказывал: «Говорено тебе: иди!»
Так же спрятанно жил и учитель его, старец Макарий, о котором о. Амвросий вспоминал: «Мудрец был старец. Я четыре года был его келейником, пользовался и руководствованием его, а так во всю жизнь разгадать его и не мог».
Единственно, чего не мог скрыть в себе о. Амвросий, – это слезы. Он плакал часто среди служб, отправляемых у него в кельях, особенно же когда читали акафист Богоматери. Тогда можно было видеть, с какой любовью глядит он на лик Пречистой Девы и как слезы обильно струятся по его исхудалым щекам.
Смирение его было так искренно, глубоко, что он взаправду считал себя ничего не сделавшим, повинным перед Богом человеком. Когда исполнилось 40 лет пребыванию его в Оптиной и к нему пришли с поздравлением и просфорами, он сказал: «Надо еще потолковать, с чем пришли вы поздравить. Прожил здесь 40 лет и не выжил 40 реп. Истинно чужие крыши покрывал, а своя раскрыта стоит».
Отголоски этого настроения часто встречаются в его письмах: «Давно собирался я успокоить вас касательно боязни вашей, что будто я оставил вас и не буду писать вам. Ежели я, по слабости моего характера, не отказался от вас, не знавши вас как должно, а согласился на предложение ваше, не желая оскорбить вас, в крайней нужде духовной находящегося, то теперь ли могу оставить вас, когда я, по недостатку истинного рассуждения, презрев свою душу и собственное спасение, оставил их на произвол судьбы, мняся заботиться о душевной пользе ближнего. Не знаю, есть ли кто неразумнее меня. Будучи немощен крайне телом и душой, берусь за дело сильных и здоровых душевно и телесно. О, дабы простил мне Великий Господь неразумие мое за молитвы блаженного о. нашего Макария!»
Приобщаясь по нескольку раз в месяц, о. Амвросий всегда исповедовался перед тем, и смиренная исповедь его, во время которой он каялся в таких грехах, которые и за грехи считать нельзя, была величественна и вместе детски трогательна. Великий старец стоял на коленях перед иконами, как преступник перед страшным судьей, быть может, со скорбным помыслом, отпустится ли грех. «Посмотрю, посмотрю на плачущего старца, – рассказывал духовник его о. Платон, – да и сам заплачу».
Та чистота малого дитяти, та великая кротость, которых он достиг, и великое упование на Бога поддерживали в нем чувство духовного, возвышенного дарования, которое озаряло его лицо и вовне проявлялось неизменной ласковостью и шутливостью.
Не мог быть по-мирски весел этот по обстоятельствам своим несчастнейший человек: старик, который был изнеможен изнурительной болезнью, вечно недосыпал, с желудком, не принимавшим пищи, чувствовал боль во всем теле, старик, которого, сверх того, постоянно теребили, который к вечеру лежал без языка в полуобмороке, человек, который видел жизнь во всем обнажении ее ран, который ежедневно выслушивал ужаснейшие признания или повесть бесконечных бедствий. Не весел, но радостен был он и своей бодростью, шуткой поддерживал других.
Даже когда окончательно изнемогал, когда надо было ему употребить много усилий, чтоб невнятно выговорить два-три слова, и тут не покидала его радостность.
Во время одной болезни старца скитский монах, имевший лысую голову, сильно унывал, и захотелось ему получить благословение старца.
Подошел он к койке, молча склонился за благословением. Старец слегка ударил его по голове и еле слышным шепотом, но все же шутливо произнес: «Ну ты, лысый игумен!» Радостно стало монаху, в восторге вернулся он в келью: «Батюшка еле дышит, а сам все шутит!»
Но где брал этот старец такие силы?
Воображая ту чрезвычайно напряженную духовную деятельность, которую в течение нескольких десятилетий проявлял о. Амвросий, невольно изумляешься тому, что у него хватало как физических, так и нравственных сил.
Какую вы деятельность ни возьмете: государственного ли человека, купца, промышленника, сельского хозяина, адвоката, писателя, артиста, ученого, – у всех есть не только дни, но порой и месяцы отдыха и передышки.
Такой передышки не было вовсе у о. Амвросия с тех пор, как он принял из рук старца Макария тяжелое бремя старчества. Ежедневная, изо дня в день, толчея народа, ежедневно обильный приток писем, ежедневно то же недомогание, та же слабость и те же ни на час не отступающие заботы, вопросы, недоумения. И каждый вечер от крайнего переутомления то же полуобморочное состояние, и после нескольких часов сомнительного отдыха с раннего утра начавшийся трудовой день, без малейшей свободной минуты. И так проходили все тридцать лет его подвига.
Невольно спросишь себя: «Да как же он мог все это выносить? Как при таких обстоятельствах мог он не только не умереть, но бодро продолжать свою деятельность?»
Но еще большее изумление вызывает его нравственная, душевная выносливость.
Ведь к старцам обращаются в самых трудных случаях, поверяют такие страшные тайны, такие великие грехи, которые человек не решится открыть обычному духовнику. С какого рода признаниями приходят к старцу, можно видеть из «Дневника писателя» Достоевского.
Там рассказано, как один человек побился с другим об заклад, что в доказательство своего бесстрашия он, приобщаясь, сохранит во рту Причастие и потом выстрелит в Него. Трагизм заключался в том, что человек этот верил во Христа. Ужасный замысел был исполнен, и часть Тела Христова пригвождена к дереву. Но когда человек стал уж наводить курок, он увидел распятым на дереве Самого Христа, на Которого он так безумно подымал руку. После этого ужаса он и пошел каяться к старцу[4]4
См.: Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1873. Глава V. Влас. (Прим. ред.)
[Закрыть].
Как в глубоком море, с которым так проникновенно верно Писание сравнивает внутреннюю жизнь человека, таятся «гады без числа»: так же много мути, много диких ужасов и леденящих тайн скрыто иной раз в глубине души человеческой, вдали неотвязных, гнетущих воспоминаний. Вспомните знаменитого некрасовского Власа:
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике
Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал <…>
Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кощеем-мужиком;
Нрава был крутого, строгого…
Наконец и грянул гром!
Не погиб еще человек. Придет минута, и станет жечь и эту падшую душу тоска по Богу – и вот тут-то и нужен старец.
А сколько невидных сердечных страданий, от которых невидимо задыхаются с виду, для постороннего взгляда, счастливые люди! Сколько невыносимых запутанных житейских положений, беспросветных, безвыходных, отчаянных! Кому довериться, к кому идти, перед кем выплакать душу, кто снимет с человека это каменное оцепенение долговременного безысходного страдания?
Вот с какими людьми и с какими житейскими положениями имел дело старец.
– Я гибну от нищеты.
– Я потерял все, что мне было дорого в жизни. Мне незачем жить.
– Я задыхаюсь в одиночестве. С душой, горящей сочувствием к людям, я всем чужой, и жизнь для меня – невыносимая тягость.
– Неизлечимая болезнь меня терзает. Я не могу не роптать.
– Мои дети, в которых я вложил жизнь и душу, стали мне врагами.
– Я потерял веру, я не вижу благости Божией. На моем языке одни проклятия.
С таким душевным состоянием, с такими стонами, выжатыми целыми годами ужасных неутолимых мук, приходили к о. Амвросию люди из мира. И все они приходили к нему как к последнему пристанищу, молча прося хоть капли утешения, хоть мига отрады.
И как самому не пасть духом перед этим бесконечным калейдоскопом людского горя? Как не утратить бодрость перед этим беспощадным обнажением всех язв души человеческой?
И между тем с сердцем радостным, ясен и мирен стоял отец Амвросий среди этих стремнин бедствия, греха, печали и отчаяния.
В чем же была тайна этой сверхъестественной силы, этого невероятного самообладания в человеке бесконечно нежном, сострадательном и любящем?
А тайна была только в том, что между людским страданием и Богом видел он Крест Христов, и этот Крест разгадал для него все великие загадки жизни, загладил ее великие несправедливости, примирил ее великие противоречия.
Он не впадал в отчаяние, слыша признание в неимоверном грехе, казавшемся клеветой на человечество, потому что для него не было греха, превышающего милосердие, не было греха, который бы не мог быть покрыт бесконечной ценой Креста Христова.
И все страдания мира, как бы ни были они сильны, жестоки, изощренны, не могли привести его в уныние, потому что все они были менее того страдания, которое некогда совершилось на Голгофе и в лучах которого, если только оно хочет к Голгофе приблизиться, тает и исчезает всякое людское страдание.
И страха в нем не было за людей, потому что всей душой он чувствовал реальность Божьего усыновления рода человеческого и не мог бояться за этих людей, оберегаемых вечной заботой их Отца.
Не какую-нибудь далекую отвлеченность чувствовал он в великом таинстве искупления. Но в его ушах вечно звучал тихий голос страдавшего Бога: «Жено, се Сын Твой», и перед его глазами вечно стекала из-под терна с Божественного чела все омывшая, все возродившая Пречистая кровь.
Он знал, что страдания страдающих – есть залог Божьей к ним любви, и меркла для него их сила в тех блаженствах, какие он так живо всей душой предчувствовал в христианском рае. И рукой мягкой и властной он врачевал страшные язвы души, врачевал, заражая больных жаром своей веры, подымая их громадою своих упований.
Ведь как бы вы ни страдали, какими бы клещами ни была сжата ваша душа, если б вдруг слетел посланец с неба и прошептал вам обещание отдыха, удовлетворения и блаженства, вам стало бы легко и отрадно. Таким же посланцем небесным казался людям измученный вконец и старец Амвросий. Страдание их утихало прежде, чем он начинал говорить. Туча душевная рассеивалась в лучах его святыни. То было что-то необъяснимое, но испытанное всяким, кто сколько-нибудь знал его.
Успокоение, больше того – какое-то тихое и вместе восторженное счастье давал душе один его вид. К чему тут были слова, когда перед вами был факт, живое доказательство живого неба, когда перед вашим утомленным от ничтожества земли взором в лице этого человека блистало само Царствие Божие, пришедшее в силе, и в его сиянии все становилось понятным, все – чистым, дорогим и Божьим?
Да, это был человек, с которого было стерто клеймо первородного греха и через которого чудным образом действовала благодать. В нем было прежде всего то, что больше и ярче всего выражает духовную высоту: любовь, неиссякаемые родники, неископаемые пласты любви. И как это чувство, с такой силой развившееся в нем, было выше того, что считает любовью мир!
В миру любят людей для себя: за то, что они милы, что их общество доставляет удовольствие. В самом деле, мы сами, наши интересы, инстинкты являются решающими мерилами наших чувств. Люди доставляют нам радость, удовольствие своим присутствием, и мы за то к ним стремимся, и вот это-то стремление к ним, основанное на искании пользы себе, на самоуслаждении, и принимаем за любовь.
Совершенно иные основы у любви христианской. Все мы братья во Христе, все мы Им одинаково спасены, все омыты Его драгоценной кровью. И как, при любви к Отцу, не будем любить Его детей? И как, любя их, не будем делать всего, что в силах, на их пользу?
Тут нет и не может быть никаких изменений, никаких «приливов любви и отливов», составляющих вечную историю любви эгоистичной. В миру мы то превозносим людей, любуясь в то же время собой, что вот так хорошо оценили их высоту и сами так хороши, что искренно этой высоте поклоняемся. Но, увидев малейшее пятно, рушим внутри себя недавнего кумира. А часто рушим и вовсе не потому, что он стал хуже, а потому, что пресытились известным чувством, будто оно любовь, влюбленность, или удивление ему человека, или поклонение его таланту и уважение его заслуг и добродетелей.
Меняемся потому, что любим «за что-нибудь», нам приятное, нас утешающее в нем, и, конечно, сами меняясь, меняем и свои взгляды на людей и отношения к ним, то есть меру нашей любви.
Но не то с любовью духовной. Там человек окружен для другого таким ореолом, которого снять не могут никакие падения этого человека, как бы ни казался он в мирском отношении недостоин и омерзителен. Этот ореол – есть высокое звание Сына Божьего, есть вера в то, что Бог «из камней может воздвигнуть детей Авраамовых», из всемирной блудницы – удивлявшую ангелов чистотою Марию Египетскую. Любящий по-христиански под толстыми наслоениями греха видит никогда ни в одном человеке не гаснущую искру Божию и на страшные его нравственные язвы накидывает все покрывающую, все исцеляющую ризу Христову.
Такова была в основе своей и любовь отца Амвросия.
Не потому он любил к нему приходящих, что их общество развлекало его и было ему приятно, не потому, что между этими приходящими были и действительно очень хорошие и приятные люди. Он любил их потому, что сам был Христов и что они тоже были все Христовы, любил их потому, что он и они от Одного изошли и к Одному вернутся.
Как много говорили и кричали о всеобщем братстве – и нигде, никогда это братство не было достигнуто, оставаясь везде чудным манящим звуком без содержания, и только дети Христовы, лучшие Его ученики, показали, что такое братство, и исполнили завет Учителя «любовь иметь между собой».
И чтобы достигнуть этого идеала, надо прежде много возлюбить Бога, всеми фибрами души к нему прилепиться, надо осязательно ощутить на себе эту тайну усыновления Богом человека, и лишь только тогда само собой возникнет в душе и это правдивое, не принудительное, не притворно, как маска, носимое, а залегшее глубоко в душу чувство братства.
Теперь, когда я вспоминаю свою первую встречу со старцем Амвросием и то, что рассказывали мне другие, я могу восстановить психологическую картину того, что тогда должно было происходить.
Вот подходит к нему «новый» человек, никогда его не видавший. Кто, уже много о нем слышавший, подходит с теплой, доверчивой душой, кто равнодушный, а кто даже и враждебный, стараясь быть самостоятельным и не поддаваться общему течению, остаться свободным перед тем обаянием, какое, согласно общему отзыву, производил старец.
И вот стоят они друг против друга: этот худенький, слабенький старичок, которого свалит с ног порыв ветра, но могучий духом, с безбрежным, широко открытым, все и всех вмещающим сердцем – и вновь пришедший человек. И всматривается старец в человека своим зорким взором, прямо в душу глядит, и какая-то радость на его лице.
Вот еще Божье творение. Еще разнообразие творческой мысли, быть может, думает он; и этот человек, отличный от всех других лицом, характером и жизнью, тоже создан для блаженства.
И он должен присоединить свой голос к великому хору, прославляющему Христа, и сколько хорошего вложил Бог в эту душу.
И пронзающий острый взор как бы вскрывает те пласты добра, что залегли в этой душе, и радуется старец этому добру.
Но все, и дурное также, видит вещий взор. Человек перед ним как на ладони. «Господи, помоги ему вполне развить то, что Ты дал ему».
А человек стоит перед этим сердцеведцем, и радость старца наполняет и его.
Есть язык без слов, когда одна душа в волнении говорит с другой, тоже встрепенувшейся, разбуженной душой.
Так, стоя перед созерцающим старцем, вдруг почувствовала человеческая душа,
и как высоко может взлететь она, и сколько счастья даст эта жизнь в Боге… И совершается раньше слов, раньше какого-нибудь мудрого, всю жизнь объемлющего совета, чудо возрождения. Растаяли грехи, стерты с души. Юна и светла она, как в детстве, и все это произведено взором любви, которая в этом человеке, быть может, мелком, невыдающемся, пошлом, отыскала Божью искру и ей поклонилась.
Так любил старец приходящих к нему.
Сколько верности, сколько, так сказать, цепкости было в этой ровной и прочной любви!
Он был в распоряжении человека, готов был ему служить, когда человек в нем нуждался, ничего не требуя взамен. А там можно было его забыть, не исполнить его совета, осуждать его, и снова при новой встрече была та же ласка и та же забота.
Как вы часто слышите в миру слова: «Как он мне надоел!» – и сколько есть выражений, означающих высшую степень отчуждения.
Так вот, этих отверженных, этих «оскорбленных и униженных» старец особенно лелеял. К людям, которых определяют выразительным словом «несносные», он относился особенно бережно.
Раз спросили его:
– Как это вы, батюшка, выносите эту личность с ее характером?
– Она и тут непокойна и недовольна, где я стараюсь ее успокоить, – отвечал он. – Каково же будет ей там, где все будут ей перечить?! Надо же ей где-нибудь приткнуться!
О, как мало даем мы людям к себе приткнуться, и вот почему, вместо того чтоб работа любви была распределена между людьми поровну, чтоб все люди посильнее пригревали многих других, выходит большей частью в мире громадная нравственная пустыня, и редко-редко где зеленеет благословенный оазис, как о. Амвросий, куда все и спешат «приткнуться».
Воздействие о. Амвросия на душу вовсе не обусловливалось его наставлениями, потому что он вообще мало читал людям, как говорится, мораль.
Его наставления были большей частью кратки, даже говорились как будто мимоходом. В чем же заключалась тайна его воздействия на душу, в чем заключалось объяснение того несомненного перелома к лучшему в жизни человека, вступившего с ним в общение?
Эта тайна состояла в воздействии великой, сильной, полной добра, веры и света души о. Амвросия на другую душу, воздействие, происходившее часто вне всяких слов и разговоров.
Законы духовной жизни так мало исследованы: все то, что мы чувствуем и переживаем, соотношение мысли, воли и чувства представляет собой далеко еще не разгаданные загадки. И только ощупью, путем разных косвенных соображений можем мы добираться до некоторых психологических гипотез. Одна из них, для меня несомненная, есть то, что область мысли и особенно чувства гораздо более реальна, гораздо менее отвлеченна, чем это обыкновенно принято думать. Какая-то духовная атмосфера, впитавшая в себя главные, пережитые человеком чувства, окружает всякую человеческую личность; эту атмосферу носит он всюду с собой, и она-то чувствуется нашим внутренним чутьем таким образом, что мы схватываем иногда сущность человека, прежде чем узнаем что-нибудь о нем, прежде чем услыхали от него хоть одно слово. И если чувство, кем-нибудь испытываемое, очень сильно, если человек, с которым мы встречаемся, находится под влиянием какого-нибудь могучего, цельного, стихийного настроения, – необъяснимой психологической тайной он и нас этим настроением охватывает, подчиняет нас ему, приобщает нас, помимо даже нашей воли, тому, что сам чувствует, тому, о чем сам мыслит.
И тут и там в разбросанных мыслях христианских аскетов вы найдете подтверждение только что высказанному положению. Они думали, что душа человеческая не только заражает своими чувствами другую живую душу, но сообщает известную психологическую силу и известную нравственную окраску и вещам человека.
Так, великий подвижник истекшего века, иеросхимонах Парфений Киевский пишет: «Старайся не только избегать сношений с человеком, коснеющим во грехах, но и к вещам его не прикасайся, потому что вещи страстного человека заражены его грехами».
Таким образом, если, по свидетельству этого опытного психолога, даже на неодушевленных предметах остается какая-то живая печать их хозяина, обладающая свойством воздействия на другую душу, то неужели возможно сомневаться в том, что человек без слов может оказывать влияние на другого человека?
Мне рассказывали, что Шарко[6]6
Жан-Мартен Шарко (1825–1893) – французский врач-психиатр, учитель З. Фрейда, исследователь истерии, создатель душа Шарко. (Прим. ред.)
[Закрыть], усыпив субъекта, переводил его чувствительность в стакан воды и, волнуя этот стакан, волновал тем самым и усыпленного субъекта. Вот как далеко простирается таинственная, мало еще понятая и исследованная область психологического воздействия. Что же странного в том, что лица, попадавшие к о. Амвросию, испытывали на себе сразу, часто даже прежде, чем успевали услыхать от него хоть одно слово, воздействие его личности, которое было тем внезапнее и глубже, чем более чутки и чем более восприимчивы к добру были эти люди.
При ближайшем же знакомстве как воспитательно действовала эта глубокая вера старца в человека, его христианское убеждение в высоком призвании, в прекраснодушии людей, в непрестанной заботе о них Провидения!
Человек, сбившийся, погрязший в грехах, человек, считавший себя никому не нужным отребьем мира, живший по инерции, получал у него убеждение, что он нужен и ценен для своего Бога, для того Христа, Который за его счастье принес величайшую жертву и Который пристально всякую минуту следит за его жизнью, для Которого радость – всякий его хороший поступок и новый укол терна – всякое человеческое падение.
Как должна была подымать людей эта вера, ничем не загасимая в старце, это горячее его убеждение, выдержавшее испытание всех страшных откровений греха и заблуждений, всей громады зла человеческого, которое он видел, как никто другой, во всем его обнажении, без всяких покровов, во всей его изощренности, – убеждение в том, что нет погибшего без возврата, пока душа живет в теле, что состояние греха есть исключение, а праведность есть правило, есть общее в жизни.
И невольно я сравниваю это здоровое, благотворное, распространяемое в деятельности старца Амвросия учение с тем, что в последнее десятилетие проповедуют самые распространенные писатели: о тщете человеческих порывов к добру, о самодержавной силе зла и пошлости, о бесцельности и ненужности нашей жизни и об отсутствии даже впереди каких-нибудь светлых чаяний и надежд.
О. Амвросий был оптимист, в христианском смысле этого слова. И вот почему этот всегда измученный, осаждаемый просьбами, удрученный страшными признаниями, с величайшей ношей на плечах человек казался всегда радостным, находил в себе силы для шуток даже в болезни, еле владея языком. Вот отчего этот изможденный семидесяти с лишком лет старик казался часто молодым, и юность, вечная юность сияла на лице его и в блеске его темных глаз. И вот эту-то нравственную бодрость свою он вливал в приближавшихся к нему людей.
Из сумерек жизни, холодные нравственно, замороженные людским безучастием приходили к нему. А вокруг него словно вечно был счастливый юг, и вечно блистало солнце, и все грелись, и все радовались.
Уясним теперь себе путем примеров, как действовал старец Амвросий в своей старческой деятельности, как обращался с людьми и что давал им.
О. Амвросий служил посредствующим звеном между своими состоятельными и бедными духовными детьми. Вещи, которые к нему по усердию приносили, распределялись им через келейников между монахами. Жертвуемые ему деньги он делил на три части. Одну часть употреблял на нужды скита и на помин жертвователей, малую часть – на лампадное масло и восковые свечи, самую же большую часть – на бедных.
Людские несчастья глубоко потрясали сердобольную, нежную душу старца. Часто бывали сцены, подобные следующей.
Спешно входя из хибарки в свою келью, старец говорит писарю: «Вот там пришла вдова с сиротами, мал мала меньше. Всех сирот человек пять, а есть нечего. Сама горько плачет, а самый маленький ничего не говорит, а только смотрит мне в глаза, подняв руки грабельками. Как же не дать-то ему!» И руки старца, достающие деньги, трясутся от волнения, лицо подергивается, в глазах выступают слезы, а на лице выражение радости, что Бог помог ему встретить и облегчить этих несчастных.
Старец старался помогать людям сообразно тому, как эти люди жили раньше, до постигшего их бедствия. Так, несколько последних лет своей жизни он содержал в Шамордине в довольстве целую многочисленную семью С., о которой по кончине старца много лет заботились его почитатели, пока все дети не стали на ноги.
О. Амвросий верил всякому несчастью и, когда у него просили милостыню, не начинал допытываться, нет ли обмана. В Козельске в его время много было молодых оборванцев, которые часто ходили к старцу и все просили у него на паспорт. Один из них стал даже смеяться над о. Амвросием: «Мы все о. Амвросия обманываем. Скажем, что на паспорт надо, – он по рублю нас оделит, а мы возьмем и пропьем».
«Не проведете вы батюшку, – отвечала им на это одна монахиня, – он все знает. А только он, жалеючи вас, подает вам, чтоб не пошли вы на большую дорогу».
Быть может, эта неистощимая доброта, эта никакими жестокими, некрасивыми уроками человеческого обмана, нескромности и злорадства неистребимая вера в добрые стороны человеческой души оказали в конце концов большее воздействие на душу падших, изолгавшихся, потерявших всякий стыд людей, чем могли бы оказать обличения, наставления и строгость.
Говоря о любимом создании старца Амвросия, Шамординской обители, мы вернемся еще к вопросу о добрых делах его. Теперь же перейдем к тому виду помощи, гораздо более важной и значительной, которую он оказывал людям своими советами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.