Текст книги "Соловьев и Ларионов"
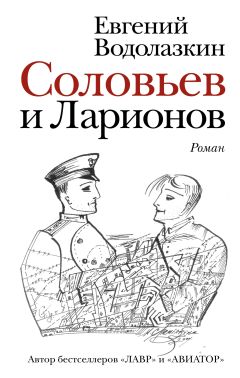
Автор книги: Евгений Водолазкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
7
Вечером она пригласила Соловьева к себе. Он пришел с букетом цветов, но уже с порога понял, что происходить будет вовсе не то, что он предполагал. Помимо Соловьева в Зоиной комнате находился виденный им вчера старомодный господин, а также худенькая старушка. На ней были черная шляпка с откинутой вуалью и черные же перчатки в сеточку. Через несколько минут позвонили, и в комнату вошел человек богатырского вида. На вид ему было за шестьдесят. Несмотря на возраст, под хлопковой, пенсионерского вида рубашкой навыпуск обнаруживались значительного размера бицепсы. Группа показалась Соловьеву живописной. В первый момент он так и не мог понять, что именно собрало здесь людей, столь непохожих друг на друга.
Их собрал генерал Ларионов. Это выяснилось, когда Зоя представила собравшихся друг другу. В первое мгновение Соловьев подумал, что ослышался. Старушка оказалась княжной Мещерской, хотя и – в голосе Зои послышался как бы оттенок извинения – родившейся уже после революции.
– Это никогда не мешало мне быть княжной, – сказала старушка и подала Соловьеву руку.
Он склонился над протянутой рукой и ощутил на губах сетчатую фактуру перчатки. Руку княжны (как, впрочем, дамскую руку вообще) он целовал впервые в жизни. Как и в случае с пляжем, ни в Петербурге, ни – тем более – на станции 715-й километр такой возможности ему не представлялось.
Два присутствовавших господина были детьми белогвардейцев, каким-то образом спасенных генералом от смерти. Последнее обстоятельство им позволило, по их выражению, не только глубоко почитать генерала, но и вообще родиться. Из нескольких произнесенных этими людьми фраз Соловьев заключил, что любовь и преданность генералу они перенесли на Зою, бывшую для покойного своего рода приемной – пусть и не увиденной им – дочерью. Это отрадное вроде бы обстоятельство Соловьева насторожило. Вспомнив о вчерашней встрече с Шульгиным (так его, оказывается, звали), он окончательно расстроился. В условиях опеки, понятой столь серьезно, шансов на развитие отношений с Зоей оставалось немного.
Готовясь подать чай, Зоя попросила Соловьева помочь ей, и они вышли на кухню. Там стоял лысоватый человек, лет на пять – семь постарше Соловьева. Его нельзя было назвать в строгом смысле толстяком – он был скорее рыхлым. Расслабленным. Грозящим то ли обрушиться, то ли сдуться. Он и стоял как-то не в полной мере, наискось, привалившись к твердой опоре у себя за спиной. Зоя едва заметно ему кивнула и включила под чайником газ. Чтобы избежать неловкости, Соловьев поздоровался. С ответным «здрасте» (оно было тихим и, пожалуй, даже стеснительным) неизвестный скрылся в своей комнате. Не будучи с ним знаком, Соловьев тем не менее узнал его сразу же: это был Тарас Козаченко.
Пока чайник закипал, Соловьев с интересом рассматривал просторную кухню, на которой ежедневно, в течение более чем полувека, появлялся легендарный генерал.
– Это был его стол.
Зоя указала на покрытое клеенкой деревянное сооружение, к которому прислонялся Тарас. Клеенка была мелко изрублена (крошили овощи) и обагрена засохшим соусом. У стакана с увядшим укропом лежал неправдоподобных размеров точильный камень, за ним – как иллюстрация его возможностей – два ножа с месяцеобразно сточенными лезвиями. В самом углу стола, перевязанная марлей, размещалась банка с чайным грибом. Это был его стол.
Соловьев осторожно отогнул липкую клеенку и коснулся поверхности стола. Он попытался представить генерала протирающим этот стол тряпкой. Регулирующим пламя примуса, на котором потрескивает яичница-глазунья.
– Генерал почти никогда не готовил, – сообщила Зоя.
По ее словам, во всех бытовых делах генералу помогала Варвара Петровна Нежданова, подселенная в его квартиру в 1922 году. Это была тихая, немногословная девушка, приехавшая в Ялту из Москвы, да так в Ялте и оставшаяся. Устроившись машинисткой в горсовете, она получила комнату в генеральском доме.
– Я могу для вас готовить, – сказала однажды Варвара Петровна.
– Готовьте, – коротко ответил генерал.
Через два года они обвенчались.
За чаем Зоя рассказала присутствующим о Соловьеве. Оказалось, что товарищ Шульгина – его фамилия была Нестеренко – Соловьева уже знал. Будучи по делам в Петербурге, он посетил конференцию в Институте русской истории и слышал там доклад Соловьева Изучение жизни и деятельности генерала Ларионова: итоги и перспективы, произведший на всех столь сильное впечатление. Самого Нестеренко поначалу огорчило, что итогов, подведенных молодым исследователем, оказалось гораздо меньше, чем этого хотелось бы истинным почитателям генерала. Разочаровывающее положение в области итогов компенсировалось, однако, обилием намеченных в докладе перспектив. Это в конечном счете и позволило Нестеренко вернуться домой в состоянии, близком к окрыленности.
Говоря на научные темы, вспомнили и о конференции Генерал Ларионов как текст, которая должна была состояться через несколько дней в Керчи. Ни Шульгин, ни Нестеренко не понимали, отчего конференция проводится в Керчи, а не в Ялте. Они подробно перечислили основания, почему местом посвященной генералу конференции должна была быть только Ялта. Мещерская, проявив неожиданный для княжны практический ум, предположила, что гостиничные цены в Керчи существенно ниже. Наряду с этим (и здесь обнаружилась начитанность княжны в области семиотики) она сокрушенно признала, что, в отличие от Ялты, Керчь для истории жизни генерала не была местом знаковым[32]32
См. подробнее: Труды по знаковым системам. Тарту, 1964–2003. Вып. 1–30.
[Закрыть]. Наконец, именно княжна выступила в защиту названия конференции – вопреки нападкам Шульгина и Нестеренко, наотрез отказавшихся представить себе генерала Ларионова в виде текста.
Беседа еще более оживилась, когда присутствующие узнали, что Соловьев собирается на этой конференции выступать. Поскольку не все (в частности, Зоя) имели возможность в дни конференции покинуть Ялту, Соловьева попросили прочесть свой доклад в этом доме. Соловьев – он так резко подвинул чашку, что немного чая выплеснулось на скатерть, – был, конечно же, не против. Читать доклад в таком обществе, а главное – в таком доме он считал для себя честью. Поскольку текста доклада на тот момент у него с собой не было (и, как заверили его присутствующие, обратная ситуация была бы странной), договорились, что чтение состоится в один из ближайших дней. О чтении в более знаковом месте трудно было и мечтать.
Что касается потенциальных соловьевских слушателей, то им и самим было о чем порассказать. За исключением Зои все они хорошо знали генерала лично. Впрочем, среда, в которой Зоя воспитывалась, снабдила ее сведениями о генерале в такой степени, что во время последовавших за чаем воспоминаний о генерале она позволяла себе дополнять и даже поправлять высказывания гостей. Отсутствие личного опыта сотрудница чеховского музея восполняла прекрасной памятью. Из рассказа лиц, собравшихся в доме генерала августовским вечером, послереволюционная его судьба представала в следующем виде.
Приход красных генерал встретил в стенах своей ялтинской дачи (указывая на стены, княжна Мещерская сделала круговое движение рукой). Во время, свободное от пребывания в бронепоезде, он жил именно там. Удивительным образом генерал не только избежал смерти, но даже не был выселен из дома. Генерал был подвергнут уплотнению.
На первом этаже его дачи расположилась местная комсомольская ячейка. Прежде никто и подумать не мог, что это помещение способно вместить такое количество лиц в буденовках. Встречаясь у крыльца, они оправляли гимнастерки и отдавали друг другу честь. На втором этаже комната была отведена уже упоминавшейся Варваре Петровне, комнату дали революционному матросу К. И. Серегину, и одна комната досталась генералу. Ввиду отсутствия на втором этаже кухни под нее была переоборудована размещавшаяся там зала.
Дом с готическими окнами семейством Ларионовых был построен в середине девяностых годов девятнадцатого века. Несмотря на богатые армейские связи семьи, дача строилась усилиями штатских рабочих, оплачивавшихся к тому же из собственных денег Ларионовых[33]33
Интересно, что даже столетие спустя на знаменитых процессах о генеральских дачах состязающиеся стороны не признали подобную практику дачного строительства устаревшей. См.: Самойленко Ю. А. На даче показаний // Человек и закон. 1996. № 12. С. 45–68.
[Закрыть]. Подобно большинству ялтинских дач, имела она всего два этажа, но каждый из них был высоким. Будущий генерал переступил порог дома уже в том возрасте, когда волшебные слова art nouveau, произнесенные его матерью в холле, не были для него пустым звуком. Два французских слова многократно звучали еще в Петербурге. Они сопровождали всё строительство дома и произносились родителями с каким-то особым прогрессивным выражением лица. Показывая дом ялтинским соседям, родители генерала держались несколько по-колумбовски и, строго говоря, имели на это право: не только в Ялте – в самой столице этот стиль был еще почти незнаком.
Незнаком был этот стиль и Серегину, въехавшему в генеральский дом в 1921 году. Впечатление, произведенное модерном на представителя флота, оказалось удручающим. Первые два дня своего пребывания в доме Серегин, бросив все дела (он входил в краснофлотскую расстрельную команду), занимался переоборудованием доставшейся ему комнаты. Отвергнув замысловатую лепнину как буржуазное излишество, он сбил ее с потолка зубилом. Дубовые панели закрасил жирной зеленой краской и, найдя такой цвет интересным, прошелся им по дубовому же паркету. За борьбой стилей генерал наблюдал спокойно и не сделал расстрельных дел мастеру ни единого замечания. В сравнении со всероссийскими переменами события в его собственном доме уже не могли его взволновать по-настоящему.
Будучи по натуре своей буяном, генерала Серегин, однако же, побаивался. Для него он был явлением не менее, а, может быть, даже более чуждым, чем модерн, но поступить с ним так же, как с потолочной лепниной, он не мог. Несмотря на революционное сознание и пристрастие к кокаину, в своем соседе матрос видел прежде всего генерала.
Холопский его рефлекс был усилен еще и тем, что однажды, предприняв попытку рукопашного боя с генералом, краснофлотец был немедленно сбит с ног, стащен к крыльцу и окунут в бадью с дождевой водой. Некоторое время он отыгрывался на Варваре Петровне как свидетельнице происшедшего, но, увидев благосклонность к ней генерала, бросил и это. Прежде чем окончательно успокоиться, по месту службы он потихоньку выяснил, каковы перспективы генерала на предмет расстрела. Чтобы не обременять товарищей лишней работой, он предлагал выполнить ее самостоятельно – так сказать, на дому. Получив категорический отказ, он по-настоящему удивился и зауважал генерала еще больше. Кстати говоря, именно Серегин был первым, кто задал ключевой для биографии генерала вопрос: почему его не расстреляли?
В генеральском доме Серегин прожил семь лет. Будучи однажды захвачен вихрем революции, этот человек так и не смог вернуться к мирной жизни. Революционное сознание, усугубленное потреблением кокаина, толкало его к действиям и словам (а слова – это тоже действия, как сказал член тройки ОГПУ Л. Б. Уманский), для молодой советской власти неприемлемым. Приговор тройки в отношении Серегина К. И. в исполнение привела его же собственная расстрельная команда. По воспоминаниям товарищей, для него это стало единственным утешением[34]34
См.: Булыга А. А. Последний из УДГ. М., 1956. С. 97.
[Закрыть].
В комнату Серегина въехал Л. Б. Уманский, в котором генерал узнал человека, командовавшего красноармейцами при аресте Серегина. Пока красноармейцы скручивали сопротивлявшегося квартиросъемщика, Уманский проверил состояние рам и дверей и уточнил у Варвары Петровны площадь освобождаемой комнаты. Как выяснилось впоследствии, Уманский, у которого в Ялте пока не было жилья, проделывал это при каждом проводимом им аресте. Не приходится сомневаться, что жилплощадь его устроила, поскольку Серегин был расстрелян в самые короткие сроки.
От Серегина Уманский выгодно отличался тем, что не устраивал ночных дебошей. Если порой он и приводил с собой дам, то заставлял их снимать обувь, выдавая специально приготовленные тапочки. Первое время это были комсомолки, умыкавшиеся Уманским из ячейки на первом этаже. Переспавшие с ним считали, что как честный человек Уманский должен на них жениться. Не вдаваясь в обсуждение своей честности, тот резонно заявлял, что при всем желании сразу на всех жениться он не может.
Руководство ячейки, привлеченное регулярными скандалами на втором этаже, начало было рассматривать вопрос об аморалке. Порядком струхнувший Уманский вынужден был прийти в ячейку и в присутствии комсомольского актива объяснять, почему брак следует считать явлением отжившим. На актив, сплошь состоявший из мужчин, речь его произвела неплохое впечатление. Женская часть коллектива отнеслась к ней более сдержанно, но на открытые возражения не решилась.
С этого дня в комнату Уманского не ступала нога комсомолки. С одной стороны, девушки из ячейки были слишком обижены, чтобы вновь подниматься на второй этаж. С другой – сам Уманский по зрелом размышлении решил обходиться дамами с набережной – идеологически, может быть, менее близкими, но гораздо более женственным. Несгибаемость комсомолок Уманского порядком раздражала.
Собственно говоря, из всех, кого довелось увидеть генералу в коммуналке, он был не самым плохим соседом. В годы соседства Уманского из туалета исчез ядреный запах мочи, появившийся там со вселением в квартиру Серегина. Уманский (обычно в лице одной из посещавших его дам) неизменно принимал участие в поочередном мытье пола на кухне и в местах общего пользования. С точки зрения генерала, внутренняя его нечистоплотность в какой-то степени компенсировалась стремлением к внешней чистоте и упорядоченности.
Генерал считал его прохвостом и особенно этого не скрывал. Вместе с тем в его отношении к Уманскому был и своего рода сентиментальный оттенок. В полной мере этот оттенок проявился впоследствии, когда генерал выразил сожаление в связи с преждевременным освобождением соседской комнаты. Что касается Уманского, то ему льстило, что он живет в одной квартире с лицом столь знаменитым. В какой-то момент, правда, у него возникло искушение расширить свою жилплощадь путем ареста генерала и его жены, но, к чести сотрудника ОГПУ, вкус к хорошей компании возобладал в его душе над сугубо меркантильными интересами.
Спустя годы, впрочем, выяснилось, что до победы лучших чувств Уманского над его худшими чувствами попытку освободить квартиру он все-таки предпринял. Но – некая таинственная сила воспрепятствовала аресту генерала и на этот раз. Более того, в ходе этой попытки Уманский выяснил также, что казавшийся ему безработным Ларионов числится консультантом в Музее истории города и даже получает за это зарплату.
Зная как никто другой, что генерал почти не покидает квартиры (исключение составляли его прогулки по молу), Уманский не поленился направить в Музей истории города запрос о трудовой деятельности бывшего генерала и о характере даваемых им консультаций[35]35
См.: Бюллетень Музея истории г. Ялты. Симферополь, 1929. С. 15–16.
[Закрыть]. Ответ неожиданно пришел из ведомства самого Уманского и, судя по его тону, дальнейших вопросов не предполагал. Прагматик Л. Б. Уманский, не принадлежавший, в сущности, к категории кровопийц по призванию, на этом остановился. Он решил, что квартиру, в конце концов, можно будет найти и в другом месте; другого же генерала ему найти не удастся.
Движимый этими соображениями, он даже попытался расположить к себе генерала. Интересно, что и генерал, сведший круг своего общения к совершенному минимуму, порой с Уманским беседовал. Будучи людьми полярных темпераментов и убеждений, они, вне всякого сомнения, интересовали друг друга. Они обсуждали тактику ближнего боя и допустимость Брестского мира, целесообразность службы в армии женщин и работу передвижных кухонь в осенне-зимний период, а в минуты философского настроения генерала – и нравственную проблематику Мертвых душ, названных Н. В. Гоголем поэмой.
Жизнь вблизи генерала показалась Уманскому столь познавательной, что на некоторое время даже отвлекла его от квартирного вопроса. Когда же по случаю ему представилась возможность переехать в отдельную и весьма благоустроенную квартиру, сотрудник ОГПУ поначалу даже сомневался. После того как его начальник, Г. Г. Пискун, сообщил ему, что для улучшения условий подчиненного был расстрелян целый этаж, не въезжать в освобожденную квартиру Уманский счел уже неловким. Получив ордер, по прежнему месту жительства он устроил прощальный банкет, для которого не пожалел умопомрачительного огэпэушного спецпайка.
Банкет превзошел все ожидания – и по количеству угощений, и по степени своей, так сказать, прощальности. Когда мероприятие близилось к концу, в дверь неожиданно позвонили, и квартира заполнилась людьми в кожаных куртках. Узнав в вошедших своих сослуживцев, виновник торжества счел это остроумной и соответствующей ведомству формой поздравления, растрогался и предложил вошедшим выпить. Будучи повален на пол и уложен лицом вниз, он заметил присутствующим, что шутка зашла слишком далеко, но в ответ никто не рассмеялся. Вопреки ожиданиям Уманского, вывод его из квартиры также не сопровождался весельем – как, впрочем, и расстрел, произведенный самым серьезным образом через неделю после ареста.
Позже стало известно, что непосредственной причиной ареста Уманского оказались приводимые им с набережной дамы. Об этих посещениях сигнализировали бдительные комсомолки, в свое время отвергнутые подследственным. После первой же очной ставки с указанными дамами (а также с комсомолками) он признал свои половые связи беспорядочными и чистосердечно в них раскаялся. В протокол допроса было также внесено его заявление о том, что, несмотря на обилие случайных связей, единственным органом, которому он, Уманский, был предан по-настоящему, являлось ОГПУ.
Проблема, собственно, была не в дамах с набережной. Она состояла в том, что в одно из редких посещений Ялты иностранными судами эти дамы успели пообщаться с сошедшим на берег экипажем и предположительно передать за границу сведения государственной важности. Было также установлено, что задуманные в качестве прикрытия беспорядочные половые связи были фиктивными, а посещавшие Л. Б. Уманского гражданки на самом деле являлись не более чем передаточным звеном между ним и одиннадцатью[36]36
Следствию удалось выявить одиннадцать посещавших Л. Б. Уманского лиц.
[Закрыть] иностранными разведками.
Уманский возразил было, что связи его были беспорядочными, но не фиктивными (это, кстати, подтверждалось всеми одиннадцатью фигурантками), – только это не помогло. Раздавленный тяжестью улик, подследственный в скором времени сознался во всем, что ему инкриминировали, и, к приятному удивлению следствия, даже добавил несколько неизвестных ранее эпизодов.
Генерал Ларионов и Варвара Петровна в эти дни также ждали ареста: факт соседства генерала в глазах следователей сам по себе должен был бы стать одним из важнейших доказательств вины Уманского. Но этого не случилось. Всё объяснялось тем, что начальник Уманского, Пискун, первоначально к нему благоволивший и даже освободивший для него большую благоустроенную квартиру, в какой-то момент был раскритикован собственной женой. Она указала на тот факт, что жилищные условия его подчиненного Уманского Л. Б. теперь превосходят соответствующие условия самого Пискуна. Потрясенный этим фактом, Пискун стал искать выход из создавшегося положения. Поскольку кодекс чести учреждения прямого перераспределения жилплощади не предполагал (лодочка плыла, подарок Тимофею не отдала, как заметил член РСДРП с 1903 года В. И. Твердохлеб), Пискун решил Уманского расстрелять. Только после этого, ввиду бесполезности для расстрелянного столь большой площади, он считал возможным въехать в данную тому квартиру. В этих условиях Пискуна не заинтересовали ни принадлежащая генералу комната, ни даже сам генерал.
Вскоре после расстрела Уманского в Ялту приезжала его мать – как ни странно, именно из Умани. Она упаковала вещи сына в три парусиновых чемодана, а то, что не поместилось, сложила в огромную бархатную скатерть, попарно связав ее концы. Добраться до автовокзала ей помог генерал. Неся в руке один из чемоданов, он толкал перед собой детскую коляску соседей с положенным на нее бархатным узлом. Два других чемодана (те, что полегче) несла мать Уманского. Солнечным октябрьским утром 1934 года, осыпаемые листьями тополей, они шли по Московской улице. Мать Уманского время от времени ставила чемоданы на землю и передыхала. В одну из таких передышек женщина сказала, что никогда не одобряла принадлежности своего сына к ГПУ, и с нежностью вспомнила время, когда он был известным в городе Умань карточным шулером. Такой род занятий казался ей более доходным и – несмотря на регулярные побои – не столь опасным.
В начале семидесятых эти осенние проводы слились в памяти генерала с другими, тоже осенними, но происходившими много позже и ставшими типичным случаем дежавю (что, в сущности, и позволило этим событиям слиться). Удивительным образом генерал называл год этих проводов – 1958-й, но сопутствующих им обстоятельств припомнить не мог. Он приводил даже имя провожаемой им дамы: ее звали Софией Христофоровной Посполитаки. Генерал и тогда нес чемодан и толкал коляску – на этот раз с ребенком. На фоне полнейшего молчания ребенка пружины коляски издавали пронзительный, почти истерический визг. София Христофоровна стеснялась этого неприятного, пусть и не ею производимого звука. С растерянной улыбкой она вжимала голову в плечи. Порой, вопреки хронологии, генералу казалось, что и во втором случае он сопровождал мать Уманского, от греха подальше увозившую из Ялты своего маленького и еще не расстрелянного сына.
Чей это был ребенок? По воспоминаниям генерала, вряд ли он мог принадлежать Посполитаки ввиду ее возраста. С достоверностью генерал способен был лишь утверждать, что ребенок этот был не его. На улице Московской на них так же падали тополиные листья. Порывом ветра несколько листьев задуло Софии Христофоровне за воротник демисезонного пальто. Остановившись, генерал извлек листья из-за воротника, и София Христофоровна благодарила его – неожиданно долго и горячо. Кем была эта дама и в связи с чем он ее провожал, генерал сказать затруднялся.
Это обстоятельство навело его на мысль о том, что большинство событий его долгой жизни успело повториться – и не по одному разу. Для того чтобы не дать им слиться окончательно, генерал решил вернуться к брошенному им было труду историка.
– Именно тогда, – сказала Зоя, – он начал диктовать маме продолжение своих мемуаров.
После расстрела Уманского его комната стояла незанятой. Действия Г. Г. Пискуна в отношении своего коллеги были столь стремительны, что последнего просто не успели снять с учета. Вносимая ответственным квартиросъемщиком Ларионовым квартплата заслонила от работников жилконторы кровавую, поистине шекспировскую драму, разыгравшуюся между двумя чекистами. О смерти уроженца города Умань в жилконторе просто не узнали. Большой поклонник Гоголя при жизни, расстрелянный Уманский по странному стечению обстоятельств обратился в мертвую душу, освободив генерала от грозившего ему подселения. Безмолвное инобытие Уманского Л. Б. в списках жилконторы протекало целых двенадцать лет – вплоть до послевоенной ревизии жилья в 1946 году, когда в квартиру въехал человек, ставший впоследствии отцом И. М. Колпакова.
В свободной от соседей квартире у генерала родился сын. Факт ли освобождения квартиры вдохновил генерала на рождение ребенка, были ли это обстоятельства более личного характера (по слухам, до 30 лет Варвара Петровна была бесплодна), – узнать уже, видимо, не удастся. По мнению княжны Мещерской, не будучи уверен в том, что останется жив, ранее генерал просто не хотел заводить ребенка. Мысль о возможном аресте сидела в его голове так прочно, что, даже обвенчавшись с Варварой Петровной в 1924 году (это было сделано тайно), генерал не стал регистрировать их отношения в советских органах, чтобы не подвергать ее опасности. С другой стороны, – и здесь точка зрения княжны была фактически опровергнута Шульгиным – почему бы именно в середине тридцатых взгляды генерала на собственное будущее должны были измениться? Беспристрастный анализ общественно-политической обстановки не давал к этому ни малейшего повода.
Как бы то ни было, ребенок появился. Встречая Варвару Петровну в холле роддома, генерал с отвращением рассматривал грязно-желтый кафель пола. Мелкий квадрат этого кафеля вкупе с запахом хлорки нес в себе что-то невыносимо советское, лишенное человеческих черт. Генерал пытался вспомнить, чем пахло в виденных им военных госпиталях – там ведь тоже мыли хлоркой, чем же им было еще мыть? – но такого гнетущего запаха почему-то не было. От кровати к кровати неслышно ходили сестры милосердия, волосы их были убраны под белые с красными крестами посередине платки.
Стеклянные, но (разнонаправленные мазки белилами) потерявшие прозрачность двери открылись. Первой из них вышла толстая медсестра со свертком, перевязанным голубой лентой. Из-за ее спины на мужа стеснительно смотрела Варвара Петровна. Генерал взял у сестры сверток и заглянул в него. Он смотрел долго и внимательно, словно в сморщенном, почти уродливом лице новорожденного пытался прочесть его дальнейшую судьбу.
– Похож, – поняла его взгляд по-своему сестра. – Похожей не бывает.
Генерал молча протянул ей пятьдесят рублей. Накануне ему было сказано, что медперсонал благодарят: за мальчика – пятьдесят рублей, за девочку – тридцать. О равноправии полов в 1936 году еще не могло быть и речи.
Нет, мальчик не был на него похож. Точнее сказать, черты его – форма носа, линия губ, разрез глаз – вполне отражали генеральские, но это внешнее подобие лишь подчеркивало всю степень их общего несходства. Так восковые двойники великих не имеют со своими оригиналами ничего общего как раз потому, что не передают в них самого главного – их необъятного силового поля. Когда годы спустя восковая фигура генерала была выставлена в музее мадам Тюссо, он не проявил к этому никакого интереса. Рассеянно взглянув на присланную ему фотографию, генерал вложил ее в какую-то книгу и забыл о ней навсегда. Восковая копия не могла его удивить. Долгие годы он видел ее в своем собственном сыне.
Мальчика назвали Филиппом. Он был рожден в то время, когда, по мнению генерала, мужчиной лучше было не рождаться. По большому же счету, лучше было не рождаться вообще.
– Рабское время, – коротко определял его генерал, толкая коляску с Филиппом вверх по улице Боткинской.
Это была та же соседская коляска, на которой вещи Уманского доставлялись на автовокзал. По случаю рождения первенца соседи окончательно передали ее семье генерала. К моменту передачи коляска имела вполне музейный вид, но ведь и генерал тогда уже числился музейным консультантом. При таком положении вещей он не нашел причин отказываться от подарка.
Из своего походного планшета генерал аккуратно вырезал четыре узких полоски и заменил ими истершиеся ремни в крепежах. Из вещмешка тончайшей телячьей кожи он сшил новый полог и приклепал его края к металлическому остову коляски.
– Это не коляска, – повторяла сотрудница молочной кухни Циля Борисовна Прозумент. – Это шедевр прикладного искусства.
На молочной кухне генерала уважали. Ему выдавали самое лучшее молоко, называли его папочкой, а Варвару Петровну мамочкой, и генералу это нравилось. В свою очередь, сотрудникам молочной кухни нравилось, что настоящий боевой генерал занимается вещами столь мирными. В этом им виделся символ чего-то такого, что они и сами не умели толком выразить, отделываясь (и что вы скажете за такого генерала?) лишь риторическими вопросами и междометиями.
В отличие от отца, говорить Филипп начал рано. Вместе с тем из всего произнесенного Филиппом в раннем возрасте (как, впрочем, и впоследствии) в памяти свидетелей не задержалось почти ничего. На этом фоне темпераментное молчание будущего генерала было более красноречивым. Справедливости ради стоит отметить, что и Филипп, несмотря на свою раннюю способность говорить, пользовался ею не очень охотно. Речь Филиппа сводилась преимущественно к называнию необходимых ему предметов, а поскольку потребности его всегда были на удивленье малы, соответственно скупыми оказывались и его фразы.
Филипп не был глупым ребенком. При необходимости он справлялся с самыми сложными задачами – в школьном и нешкольном смыслах. Главное отличие его от отца состояло в том, что очень мало задач на свете он осознавал как необходимость. Всё, что ни делал в своей жизни генерал, было для него необходимостью – других причин для своей активности он попросту не имел. Что (спрашивала в свое время А. Дюпон)[37]37
Дюпон А. Загадка русского генерала. С. 11.
[Закрыть] в генеральской жизни можно превращало в нужно, что выковывало эту жизнь как непрерывную цепь необходимостей? Чувство долга? Честолюбие? Жажда деятельности? Все эти качества вместе, определяемые как жизненная сила? Это (утверждала А. Дюпон) было в генерале. И этого (утверждала Зоя) не было в Филиппе.
Подумав, мать отдала десятилетнего Филиппа в филателистический кружок. Мальчика научили брать марки пинцетом, но интереса к филателии у него не возникло.
– Это развивает, – любила повторять Варвара Петровна.
– Это свивает, – сказал однажды генерал.
Собирание марок ему казалось делом убогим. В филателистический кружок Филипп ходить перестал.
Окончив школу, Филипп, по настоянию матери, поступил на заочную учебу в Институт легкой промышленности. Легкая промышленность не была призванием Филиппа и в сферу его интересов (остается неизвестным, существовала ли эта сфера вообще) никогда не входила. Вместе с тем какого-то специального неприятия легкой промышленности Филипп также не проявлял (в самом определении промышленности слышалась ему какая-то воздушность) и против поступления в институт не возражал.
Будучи студентом-заочником, Филипп работал лаборантом в институте Магарач. Получив высшее образование, он стал старшим лаборантом. И хотя на этом карьерный рост Филиппа остановился, впервые в своей жизни он обрел настоящее увлечение: это была дегустация вин. Не вполне правы те, кто объясняет это увлечение его якобы изначальной склонностью к алкоголизму. В определенном смысле такая точка зрения основывается на высказывании самого генерала, предположившего однажды, что алкоголизм – удел людей низкоэнергетичных. Сказано это было по другому поводу, без особых пояснений того, что следует подразумевать под энергетичностью, но спустя какое-то время фраза была отнесена к сыну генерала.
На деле же первоначальной страстью Филиппа была именно дегустация. Уже через несколько лет работы в Магараче он без труда не только определял на вкус любую марку крымского вина и год урожая, но называл даже точное место расположения виноградника на склоне горы. Сотрудникам института Магарач запомнились проводимые им сеансы дегустации, когда он, рассказывая об особенностях сорта, волновал вино легким движением кисти и наблюдал его медленное жирное стекание по стенкам бокала[38]38
Шор И. Я. Записки дегустатора. Симферополь, 1975. С. 209.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































