Читать книгу "Соловьев и Ларионов"
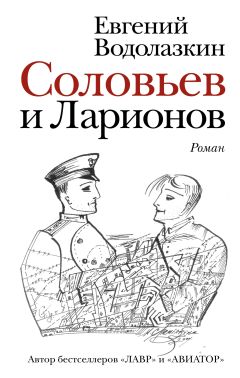
Автор книги: Евгений Водолазкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
5
После обеда Соловьев отправился в Музей Чехова. Он долго поднимался по раскаленной извилистой улочке. Чтобы оставаться в тени, переходил с одного тротуара на другой. Это восхождение напоминало ему научную работу, которая, как он успел усвоить, никогда не движется по прямой. Ее траектория непредсказуема, и рассказ о ней имеет сотню вставных новелл. Всякое исследование подобно движению собаки, идущей по следу. Это движение (внешне) хаотично, порой оно напоминает кружение на месте, но оно – единственно возможный путь к результату. Исследованию необходимо сверять свой собственный ритм с ритмом изучаемого материала. И если они входят в резонанс, если пульсы их бьются в такт, кончается исследование и начинается судьба. Так говорил проф. Никольский.
Наконец Соловьев увидел то, что искал. Перед ним лежала небольшая площадь, в сплошной ялтинской застройке напоминавшая воронку от взрыва. По ее периметру располагалась компания бронзовых уродцев, изображавших, по мысли скульптора, самых известных чеховских персонажей. Впрочем, скульптуры на прямом отношении к Чехову как бы и не настаивали. Будто стесняясь подойти к дому писателя вплотную, они сиротливо жались у обрамлявших площадь деревьев.
Сам музей состоял из бетонного административного здания и изящного коттеджа начала века (это и был чеховский дом). В бетонном сооружении Соловьев спросил Зою Ивановну. На него посмотрели с любопытством и куда-то позвонили. В ожидании Зои Ивановны Соловьев вышел на воздух. Через несколько минут звякнула калитка чеховского сада, и оттуда появилась смуглая девушка. Шоколадный тон ее кожи и темные волосы не оставляли сомнений: появившаяся и была Зоей Ивановной. Именно ее отчество ставили под сомнение в горсовете. В ней было что-то от мулатки, от карнавала в Рио. Что-то докультурное и уж совершенно точно не чеховское. Ей ничего не стоило бы сыграть в вестерне. Дочь вождя, например. Ее лицо было невозмутимо.
Сквозь тонкое, почти нематериальное платье Зои Ивановны просвечивали самые интимные подробности ее туалета, отчего молодой исследователь почувствовал смятение. Он стал сбивчиво рассказывать о своих занятиях генералом Ларионовым, опять зачем-то упомянув об аспиранте Калюжном. Рассердившись на самого себя, он вдруг перешел к анализу ошибок в книге А. Дюпон и неожиданно закончил ответом проф. Никольского латышским ветеранам.
– Хотите, я покажу вам музей? – строго спросила Зоя Ивановна.
– Хочу, – сказал Соловьев.
Он последовал за Зоей (только не называйте меня Ивановной!), машинально копируя ее легкую индейскую походку. Какая уж тут Ивановна…
В чеховском доме было прохладно. Войдя сюда из ялтинской жары, Соловьев мысленно поблагодарил русскую литературу. Ему подумалось, что прохлада дома отражала живительное, какое-то родниковое начало отечественной словесности. Фраза ему понравилась, и он произнес ее Зое.
– К сожалению, – она коснулась ладонью стены, – здесь было прохладно не только летом.
Зоя рассказала, что и зимой этот дом невозможно было протопить как следует. Его возводил московский архитектор, не знакомый с особенностями ялтинского климата и неспособный, стало быть, построить здесь что-либо удовлетворительное. Тонкие Зоины пальцы красиво скользили по ромбам обоев. Фоном ее рассказа проступал образ бескрайней России, планомерно разрушаемой Москвой. В лице петербуржца Соловьева она имела благодарного слушателя.
Экскурсия оказалась очень подробной. Гость музея побывал во всех помещениях чеховского дома – даже в тех, которые обычно не предназначались для посещений. Ему позволено было снять телефонную трубку, в которой некогда звучал голос Л. Н. Толстого, звонившего Чехову из Гаспры. В спальне он прикоснулся к простыням с вышитой прачечной меткой АЧ. С видом фокусника, достающего из шляпы последнего и самого красивого голубя, Зоя усадила его рядом с собой на постели писателя. Сидя на музейном экспонате, Соловьев напрочь забыл о Чехове. Его вниманием владело смуглое тело экскурсовода, просвечивавшее сквозь белизну платья.
Затем они вышли в сад (вышли в сад, прошептал Соловьев). Минуя посаженный Чеховым бамбук, Зоя вывела посетителя к двум скамейкам, буквой «г» вписанным в самый угол сада. По предложению Зои (сдержанный президентский жест) они сели на разные скамейки, словно на переговорах. Соловьев еще раз рассказал о цели своего прибытия в Ялту – на этот раз более спокойно и внятно.
Зоя слушала его, откинувшись почти к самой спинке скамейки, но не прислоняясь к ней. Соловьеву припомнилось, что в кадетских корпусах так было принято вырабатывать осанку. Он также сообщил ей о походе в Ялтинский горсовет, умолчав, правда, о подробностях, касавшихся Зои лично. На рассказе о возвращении Нины Федоровны из роддома Зоя его перебила:
– Когда мы с мамой приехали домой, его комната была подчистую разворована. Новый жилец встретил нас в тапочках генерала.
Для человека, в момент прибытия перевязанного розовой лентой, Зоя оказалась очень наблюдательна.
В комнату генерала въехала семья Козаченко. Они не были ялтинцами. На русскую Ривьеру Козаченко попали из каких-то глухих мест – то ли с Тернопольщины, то ли со Львовщины. Сама по себе жизнь в провинции вряд ли была способна поднять их с места. Она их не тяготила. Просто случилось так, что Петр Терентьевич Козаченко, специалист по гражданской обороне, заболел туберкулезом – болезнью, для подобных специалистов не характерной и несколько даже богемной.
Находясь на излечении в Алупке, Петр Терентьевич сумел выяснить, что ялтинский институт вина Магарач срочно нуждается в специалисте его профиля. Предложив свои услуги, он был немедленно принят и на историческую родину вернулся сотрудником винного института. Для семьи Козаченко его трудоустройство оказалось полной неожиданностью. Жена Петра Терентьевича, Галина Артемовна, была изумлена самоуправством мужа и переезжать наотрез отказалась. В последовавшей семейной сцене она поместила между собой и Петром Терентьевичем сына Тараса. Указывая на Тараса, она обвинила Петра Терентьевича в безответственности. Десятилетний Тарас смотрел вбок, и из глаз его катились обильные беззвучные слезы.
В другом случае Петр Терентьевич, возможно, и уступил бы (то есть наверняка бы уступил), но возникшая борьба за переезд неожиданно представилась ему борьбой за его собственную жизнь. Он проявил непреклонность, в отношениях с женой ему в общем-то несвойственную. Под ее ежедневные проклятия он снимался со всех учетов, на которых состоял, увольнялся со своей прежней работы и озабоченно ощупывал лимфатические узлы в области подмышек.
Галина Артемовна, еще до крымской поездки мужа его мысленно оплакавшая (к его болезни она отнеслась со всей серьезностью), упорством Петра Терентьевича была озадачена. С возможной смертью мужа женщину примиряла надежда сохранить за собой ведомственную жилплощадь, предоставленную ему как представителю ГО и, по слухам, некоторых других аббревиатур. Испугавшись его переездной горячки, она потихоньку выяснила свои права на указанную жилплощадь и с горечью установила, что в случае смерти или отъезда мужа недвижимость автоматически возвращается государству. В результате позиция Галины Артемовны смягчилась. Смерти она предпочла отъезд.
При институте Магарач семья Козаченко первоначально получила всего лишь комнату в общежитии. Раздосадованный этим, Петр Терентьевич стал искать поддержки в иных ведомствах и даже предложил составлять отчеты о брожении умов в принявшем его учреждении. Соответствующие ведомства реагировали довольно вяло. По информации общавшихся с П. Т. Козаченко ответственных работников, единственным, что бродило в институте Магарач, было молодое массандровское вино. Умы института пребывали в состоянии полного покоя. Впрочем, сама по себе бдительность Петра Терентьевича была признана похвальной, и в качестве поощрения ему выделили освободившуюся комнату в коммунальной квартире.
– И они въехали к нам, – вздохнула Зоя.
Она поправила свое прозрачное платье, и взгляд Соловьева невольно остановился на ее коленях. Крон чеховских кипарисов коснулся первый вечерний ветер.
Въезжали Козаченко налегке. Отправляясь в неизвестность, они продали мебель на родной Тернопольщине. В просторную комнату генерала были внесены лишь три раскладушки, несколько тазов разного размера и купленный на ялтинской барахолке фикус. В дальнем от окна углу под рушниками был повешен портрет украинского поэта Т. Г. Шевченко (1814–1861). Оставалось еще очень много свободного места.
Ощущение пространства увеличивалось посредством того, что за день до вселения семьи Козаченко вещи из комнаты генерала были вынесены соседом Иваном Михайловичем Колпаковым. Операция по захвату имущества покойного была проведена по-военному стремительно. В одну из ночей Иван Михайлович отклеил от генеральской двери бумажку с печатью и при пособничестве жены, Колпаковой Екатерины Ивановны, перенес в свою комнату всё вплоть до генеральских очков и книги Г. В. Кривуляка Каменная нога. Эту книгу по просьбе Нины Федоровны генерал в свое время согласился пролистать.
Особую сложность представлял дубовый шкаф с резными двуглавыми орлами, поднять который супруги оказались не в силах. После полутора часов бесплодных усилий (за низкую грузоподъемность Екатерине Ивановне был нанесен удар по спине) изрядно покореженный шкаф кое-как протащили на подложенных под него пластмассовых крышках. Пол в генеральской комнате Екатерина Ивановна тщательно подмела.
Разумеется, предпринятые супругами действия оказались слишком наивными, чтобы не быть раскрытыми. Раскрытыми они оказались хотя бы уже потому, что, ввиду величины шкафа, дверь маленькой комнаты Колпаковых не закрывалась. В образовавшийся сектор обзора попадали стоящие друг на друге кровати и связки книг, отродясь Колпаковыми не читавшихся. Заключительная попытка Екатерины Ивановны замести следы уже никого не могла ввести в заблуждение.
Пытливый ум работника гражданской обороны представил ему произошедшее в деталях. Обвинив Колпаковых в присвоении перешедшего к государству имущества, он сообщил им о своем намерении проинформировать государство о нанесенном ему ущербе. Недипломатичный Колпаков тут же нанес Козаченко удар в лицо. Мальчик Тарас, стоявший в дверях выделенной комнаты, заплакал. К присвоению государственного имущества добавлялось нанесение тяжких телесных повреждений.
Колпаков почувствовал себя загнанным в угол и напился до беспамятства. Каково же было его изумление, когда наутро его разбудил сам Петр Терентьевич с бокалом пива в руке. Глядя на радужный синяк вокруг глаза соседа, Колпаков, возможно, счел его пришельцем. Иван Михайлович вначале даже отвел державшую бокал руку. Лишь выпив пиво и справившись с первым волнением, он оказался способен выслушать Козаченко.
П. Т. Козаченко давал И. М. Колпакову понять, что в деле возможны варианты. Загромождавшие колпаковскую комнату вещи покойного – рука Козаченко взмыла над отчужденным имуществом – следовало разделить поровну между конфликтующими сторонами. Шкаф как вещь заметную нужно было бы, во избежание скандала, отдать государству. Кроме того (здесь голос Козаченко обрел прокурорские тона), в качестве компенсации за нанесенные увечья семье Козаченко передавались книги генерала из части Колпаковых.
Козаченковский проект Колпаков безоговорочно одобрил. Вещи были разделены пополам, книги отданы в полное владение Козаченко (за исключением сборника Каменная нога, заинтриговавшего Колпакова своим названием), а шкаф предложен государству.
К шкафу государство первоначально проявило интерес, но в конце концов было вынуждено от него отказаться. Будучи внесен в квартиру до уплотнения и связанных с ним ремонтных мероприятий, шкаф попросту не подлежал выносу. Выяснилось, что за истекшие десятилетия советской власти входная дверь уменьшилась. Вещь, препятствующую закрытию двери, держать у себя Колпаков отказался, и после долгих сомнений Петра Терентьевича (которые были связаны с наличием двуглавых орлов) она была водворена на прежнюю территорию.
Более сложной оказалась судьба трофейной литературы. Просмотрев книги генерала, Козаченко потерял к ним интерес и тайно отнес их в букинистический магазин. Впоследствии, когда вернувшаяся Нина Федоровна настойчиво расспрашивала соседей о генеральских книгах, он лишь угрюмо отмалчивался. В конце концов правда вышла наружу, и Нина Федоровна бросилась в букинистический, чтобы выкупить хотя бы то, что осталось. Осталось, к сожалению, не так уж много.
Что касается Каменной ноги, то Колпаков попробовал было ее читать, но быстро разочаровался. Не будучи знаком с основами стихосложения, он не понял, отчего тексты в ней расположены столбиком[27]27
Об этом см.: Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975.
[Закрыть]. В равной степени чужда ему осталась и образность Г. В. Кривуляка, довольно, вообще говоря, незатейливая. Наконец, он так и не выяснил, почему попавшее к нему издание называется именно так. Не сговариваясь с Козаченко, он отнес книгу в букинистический магазин, и на том, казалось, истории ее приходил конец, но – habent sua fata libelli[28]28
Книги имеют свою судьбу (лат.).
[Закрыть].
В один прекрасный день в букинистический зашел Г. В. Кривуляк и, увидев на полке Каменную ногу, прочел на ней собственноручную дарственную надпись. Директор и поэт Г. В. Кривуляк купил свою книгу и вновь подарил ее Нине Федоровне со словами, что у каждого человека должно быть то, что не продается. Вообще говоря, в его поэтической практике это был не первый случай: время от времени он выкупал у букинистов некогда подписанные им книги и дарил их нерадивым владельцам с пометкой Повторно. Наличие в магазине Каменной ноги он наловчился определять уже с порога. Продавцы это знали и охотно принимали Каменную ногу на комиссию.
– Зоя, мы закрываемся! – крикнули откуда-то из-за пределов сада.
– Мы закрываемся, – грустно подтвердила Зоя.
Открыв калитку, она подождала, пока петербургский гость не вышел, и закрыла ее с уже знакомым Соловьеву звяканьем. Не говоря ни слова, вошла в административное здание. Оставшийся на месте Соловьев смущенно жался у калитки. Его не приглашали войти в помещение, но с ним ведь и не попрощались…
Ему не хотелось быть навязчивым. Не хотелось спрашивать, можно ли Зою проводить до дома, хотя проводить, конечно, хотелось. С другой стороны, было бы странно и даже неприятно, если бы Зоя сама об этом попросила.
– Вы еще здесь? – спросила Зоя без всякого удивления.
Соловьев кивнул, и они двинулись к выходу. Зоя направилась не к тем ступенькам, по которым с площади спустился в музей Соловьев. Обогнув административное здание, они вышли к другим воротам. От этих ворот, петляя между корпусами какого-то санатория, уходила пешеходная дорожка.
– А что произошло с воспоминаниями, которые генерал продиктовал Нине Федоровне? – спросил Соловьев. – Они тоже находились в комнате генерала?
Девушка рассеянно пожала плечами.
– Наверное… Тогда была такая неразбериха.
Они спустились к речке Учан-Су и, пройдя вдоль нее с полсотни метров, оказались на каменном мосту. Облокотившись о перила, Зоя наблюдала, как сквозь булыжники и коряги речка Учан-Су неутомимо пробивалась к морю. Она спокойно посмотрела на Соловьева.
– Эти воспоминания для вас очень важны?
– Да.
На противоположном берегу располагался маленький базар. По предложению Зои они купили арбуз и пошли с ним в близлежащий парк. Устроившись на скамейке, Зоя достала из сумочки складной швейцарский ножик. Необходимые предметы у этой девушки всегда были с собой.
Разрезав арбуз пополам, одну половину Соловьев положил рядом на целлофановый пакет. От второй половины он отреза́л аккуратные тонкие полукружия, делил их на более мелкие доли и выкладывал на том же пакете. В его обращении с ножом было что-то изначально мужское, и следящий за его руками взгляд Зои это, несомненно, выражал. Соловьев и сам видел, что всё у него получается ловко, хотя немного этому и удивлялся. Арбуз был по-настоящему сладким.
– Ваша мама не предъявляла прав на имущество генерала?
– У нее не было никаких официальных прав.
– И как же она жила дальше с теми, кто…
– …кто ее обворовал? Нормально. Это жизнь.
Жизнь справлялась и не с такими вещами. Не только предъявлять претензии, но даже высказывать обиду Нине Федоровне было затруднительно. Так можно было бы поступать, видясь со своими обидчиками в суде или, по крайней мере, встречаясь с ними изредка на улице. Но имея их рядом с собой ежедневно, посещая общий с ними туалет и оставляя кастрюлю с супом на общей кухне, это было совершенно невозможно. Обида Нины Федоровны не то чтобы прошла, скорее – притупилась. Это чувство еще воспламенялось при виде разных генеральских мелочей (многие из которых были ему подарены именно ею), всплывавших то у одной, то у другой супружеской пары, но в целом считалось погасшим.
Более того. Как это ни странно, в свободное от медицинских процедур время с ней начал вести беседы Козаченко. Полуприсев на доставшийся ему кухонный стол, он рассказывал Нине Федоровне об изготовлении респиратора в домашних условиях и накладывании шины на перелом, об антибактериальных инъекциях и воздействии паров хлора на верхние дыхательные пути. Никому в своей жизни ничего не даривший, он вдруг подарил ей план эвакуации завода железобетонных изделий, а также собственноручно выполненный макет оголовка запасного выхода. В день рождения Нины Федоровны он даже хотел подарить ей свою коллекцию отравляющих веществ, но, случайно узнав о намерении мужа, этому решительно воспротивилась Галина Артемовна. Кстати говоря, контакты мужа с соседкой она про себя немедленно отметила. Галина Артемовна смотрела на них иронически, но вслух никак не высказывалась. Порой создавалось впечатление, что такое положение вещей ее даже устраивает.
В сущности, волновавшие Петра Терентьевича профессиональные темы Галину Артемовну всегда оставляли равнодушной. Ни подробнейшая классификация нервно-паралитических газов, которой он владел в совершенстве, ни его умение с закрытыми глазами определять тип и размер противогаза не производили на нее никакого впечатления. Возможно, что обращение к Нине Федоровне, вежливо его выслушивавшей, как раз и было поиском того, чего специалисту недоставало в собственной семье. Играло роль, вероятно, и сочувствие Петра Терентьевича позднему материнству Нины Федоровны. Это напоминало ему о том, что и они с Галиной Артемовной смогли завести ребенка, будучи почти сорокалетними.
Что касается супругов Козаченко, то с ними произошли определенные перемены. Их можно было бы охарактеризовать как отдаление друг от друга – если бы, конечно, они прежде были близки. Но близки они не были. Окончательно увлекшись своей болезнью (не такой, судя по всему, страшной, как это показалось супругам первоначально), после работы Козаченко обходил ялтинские аптеки. Он сравнивал стоимость лекарств, пытаясь всякий раз выяснить их отпускную цену на базе.
В один из таких вечеров его жена подверглась сексуальной атаке И. М. Колпакова, принявшего ее в состоянии опьянения за собственную жену. Отсутствие со стороны Г. А. Козаченко сопротивления утвердило его в этом заблуждении, и он проделал с соседкой всё, что ему подсказала его небогатая фантазия. С тех пор ошибки Ивана Михайловича стали повторяться регулярно – с той лишь разницей, что теперь уже сама Галина Артемовна подсказывала ему те небольшие изыски, которых она так и не дождалась от специалиста по ГО.
Не подозревая о происходящем, Петр Терентьевич продолжал свое платоническое общение с Ниной Федоровной. По просьбе Козаченко ему была пересказана пьеса Вишневый сад, живо напомнившая ему любимое стихотворение Садок вышнэвый коло хаты. Однажды он даже попросил показать ему Музей Чехова, о котором (Чехове) он неоднократно слышал. В то время как дядя Ваня (Колпаков) предавался любовным утехам с его женой, Козаченко с группой экскурсантов стоял в чеховском кабинете. Со слезами на глазах он внимал рассказу о смертельной схватке Чехова с такой же, как у него, болезнью и в ту минуту чувствовал себя немного Чеховым. В глубине души Петр Терентьевич тоже, возможно, хотел сказать немецкому врачу: “Doktor, ich sterbe”[29]29
«Доктор, я умираю» (нем.).
[Закрыть], но – немецких врачей в его жизни не было и не могло быть.
Задумавшись в чеховском музее о смерти, он решил заказать себе похороны с музыкой. Это было единственным, что он мог себе позволить в области прекрасного. В составленном им завещании специально для этой цели отводилось пятьсот советских рублей на отдельной сберкнижке. За исполнение Шопена на открытом воздухе сумма казалась ему более чем достаточной. И хотя умирать он вообще-то не собирался, сделанное распоряжение внесло в его жизнь определенные трагизм и возвышенность.
Жизнь его оборвалась не по-чеховски. Вернувшись в один из дней в неурочное время, в своей собственной постели он застал безобразную любовную сцену. Такое определение происходящего вырвалось у самого Петра Терентьевича. Вне себя от гнева, он бросился с кулаками на Колпакова и принялся осыпать его ударами. Находясь под воздействием алкоголя, Колпаков вначале сносил удары довольно кротко. В конце концов он вышел из себя и с нецензурными выражениями отшвырнул Козаченко. Падая, Петр Терентьевич ударился затылком об одну из голов вырезанного на шкафу двуглавого орла и потерял сознание.
Врач скорой помощи, приехавший часа через полтора после вызова, констатировал, что травма П. Т. Козаченко несовместима с жизнью. Колпаков, не сумевший разобраться в такой формулировке, схватил врача за шиворот и потребовал ответить на простой вопрос: жив Козаченко или мертв?
– Мертв, – коротко ответил врач и уехал, не прощаясь.
Стремясь упредить милицейские расспросы, Иван Михайлович решительно увлек Галину Артемовну к себе. Он уговаривал ее не упоминать о действительной причине смерти мужа. Собственно, уговаривать-то ее особенно и не требовалось. Сомнения в долгожительстве Петра Терентьевича она испытывала уже давно, так что впечатлить здесь ее могла разве что форма смерти, но не ее факт. Протрезвевший Колпаков проявил неожиданные для него ораторские способности. Первые же сказанные им слова оказались выстрелом в десятку: он пообещал на вдове жениться.
Без колебаний и даже без особого кокетства она пошла ему навстречу. Приехавшей милиции было сказано, что у ослабленного болезнью Петра Терентьевича закружилась голова. Взмахнув руками, Галина Артемовна показала, как неудачно упал ее супруг. Безутешную вдову усадили на постель (уже заправленную, с тремя – одна на другой – взбитыми подушками) и велели соседям отпаивать ее валерьянкой. В углу комнаты стоял четырнадцатилетний к тому времени Тарас и держал в руках отломившуюся голову орла. Из глаз его капали крупные медленные слезы.
Похоронили Козаченко не так, как ему мечталось. Обнаружив у мужа неучтенные пятьсот рублей, Галина Артемовна была до крайности возмущена и похоронила его без музыки. Кроме Тараса и Галины Артемовны за гробом шли Иван Михайлович, Нина Федоровна с малолетней Зоей и представитель некой организации (на все расспросы он таинственно прикладывал к губам палец), с которой, как выяснилось, была связана вся сознательная жизнь Козаченко.
Именно эта организация позаботилась о подобающей торжественности события. С учетом того, что покойный был поселен в комнату белогвардейского генерала, смерть Петра Терентьевича от двуглавого орла была расценена как почти геройская и в высшей степени антимонархическая. На могиле Козаченко незнакомцем была установлена алюминиевая тренога со звездой и буденовкой. Представителей основного места работы покойного почему-то не было. Вместе с тем на поминки институтом Магарач было выделено пятнадцать литров вина, но, ввиду отмены поминок Галиной Артемовной, все пятнадцать литров были выпиты обручившимся с ней втайне Колпаковым.
Что касается Колпакова, то тайное он вовсе не торопился делать явным. То ли опасность разоблачения он считал преодоленной, то ли цена вопроса показалась ему слишком уж высокой, только о данном вдове обещании он попросту перестал упоминать. Более того, даже маленькие постельные радости, связывавшие его с Галиной Артемовной, в скором времени прекратились. Контакты свелись к кратким посещениям Колпакова, опохмелявшегося по утрам оставшимся от Петра Терентьевича медицинским спиртом.
Утром же произошла и другая безобразная сцена, во многом ускорившая развязку. Ожидая, когда Иван Михайлович освободит умывальник (мылся он подробно, полоща горло, хрюкая и отхаркиваясь), вдова с укоризной заметила, что другим тоже нужно умыться. С возгласом «Умывайся!» Колпаков плеснул ей в лицо водой из стоявшей здесь же большой жестяной кружки. Вода была чистая, но холодная.
Галина Артемовна почувствовала себя оскорбленной и потребовала объяснений. Она указала грубияну на недопустимость подобных действий, напомнив заодно о его обещании вступить с ней в брак. Со свойственной ему нелицеприятностью Иван Михайлович подвел облитую женщину к зеркалу и предложил вспомнить, сколько ей, вообще говоря, лет. Нарушитель брачного обещания порекомендовал ей думать не о свадьбе, а о похоронах. В ответ на угрозу рассказать в милиции всю правду Колпаков гомерически расхохотался.
Он недооценил Галину Артемовну. Она действительно не пошла в милицию, ибо что же она могла там сказать после своих красноречивых заявлений? Но фраза Ивана Михайловича о похоронах дала ее уму неожиданное направление. В итоге недолгих размышлений она решила умереть со своим суженым в один день. Дождавшись очередного посещения с похмельными целями (дождаться его было делом несложным), Галина Артемовна развела в спирте мужнину коллекцию отравляющих веществ и вручила раствор Колпакову. Через несколько минут Иван Михайлович скончался на руках Екатерины Ивановны, своей законной жены, до которой он еще успел дойти. Убедившись в действенности препарата, Г. А. Козаченко выпила весь его остаток.
– Они были похоронены в разных могилах, – закончила свою печальную повесть Зоя. – А Тарас остался совсем один. Он до сих пор живет в нашей квартире.
Коротким, но ровным клином на скамейке вытянулись арбузные корки. Соловьев аккуратно их собрал и перенес в стоявшую неподалеку урну (для вытирания рук в сумочке Зои тут же нашлась пачка бумажных платков). Оставалась еще ровно половина арбуза, которая была положена в целлофановый пакет.
Выйдя из парка, они направились к морю. В вечернем полумраке сигнал маяка всё явственней принимал форму растущего вширь луча. Ритм его мерцания притягивал к себе внимание, заставлял ожидать новой вспышки и невольно отсчитывать секунды до ее появления. Под легким сумеречным бризом стало окончательно понятно, до чего жарко было днем.
– У меня завтра выходной, – сказала Зоя. – Хотите, пойдем на пляж?
– Я не умею плавать.
Он произнес это почти обреченно. Так в постели с видавшей виды дамой сообщают о своей неопытности.
– Я вас научу, – пообещала Зоя после паузы. – Это совсем несложно.
Когда они подошли к Зоиному дому на улице Боткинской, совсем стемнело. Это было двухэтажное здание с высокими готическими окнами. Вот, оказывается, где жил генерал, подумалось Соловьеву. От заросшей виноградом стены дома отделилась фигура, в первый момент незаметная.
– Добрый вечер, Зоя Ивановна. Проходил, увидел, что нет света в окнах, – решил подождать.
Соловьев рассмотрел незнакомца в свете фонаря. Перед ними стоял человек лет за шестьдесят в светлой полувоенного покроя рубахе. Его облик – от тщательно отутюженных брюк до зачесанных назад волос – был образцом особого старомодного лоска, каким он предстает в лакированных студебеккерах и испано-сюизах, нет-нет да всплывающих в автомобильном потоке Ялты.
– Всё в порядке, – сказала Зоя без удивления.
Она сделала несколько шагов к двери парадного и, ни на кого не глядя, добавила:
– Спокойной ночи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































