Текст книги "История всех времен и народов через литературу"
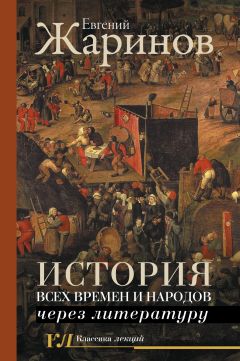
Автор книги: Евгений Жаринов
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Странные сближения»
Обратимся к образу Дон Кихота. Почему в его доме живут одни женщины: племянница и ключница? Даже образ Дульсинеи дель Тобосо и платоническая любовь к ней как причина подвигов и бед Дон Кихота лишь усугубляет картину, перегружая несчастную жизнь рыцаря присутствием тяжёлого женского компонента. Это груз колоссальной ответственности перед действительностью, от которой есть лишь один выход – уйти с головой в книгу, в роман. Что и пытаются сделать автор и его герой. Герой запирается у себя в кабинете и читает сто рыцарских романов, а автор упорно пытается стать профессиональным писателем, рассчитывая на хорошие гонорары, хотя перо его вечно хромает.
Ни Лопе де Вега, ни Гонгора, именитые современники Сервантеса, не признавали его как писателя. Даже в соответствии с литературными нормами того времени творчество создателя «Дон Кихота» выбивалось из всех правил.
Вспомним, что Дон Кихота его женщины, племянница и ключница, изо все сил с помощью лиценциата и священника пытаются удержать от безумных подвигов. Они сжигают часть книг и замуровывают библиотеку. Здравый смысл, таким образом, наносит серьёзный удар по благородному помешательству.
А что происходит в судьбе самого Сервантеса? Он собирает провиант для знаменитой Непобедимой армады. Кстати сказать, именно эта самая Армада и победа над ней всколыхнёт английское общество, в результате чего возникнет эпоха так называемой «елизаветинской драмы», самым ярким представителем которой будет Шекспир. Что это, как не великий творческий импульс, посланный во вселенную? Смерть этих титанов возрождения, Шекспира и Сервантеса, в 1616 году положит конец целой эпохе. И Дон Кихот, и Гамлет при этом отличаются одной чертой, которой похожи друг на друга как братья: и тот и другой – великие безумцы в том смысле, что отваживаются поставить перед человечеством очень неудобные вопросы, на которые до сих пор нельзя найти однозначный ответ. Воистину, как сказал А.С. Пушкин: «В истории бывают странные сближения».
Итак, Сервантес собирает провиант для Непобедимой армады. Дважды его отлучают от церкви за то, что он в патриотическом порыве посягнул на её закрома. А разве не обвиняют самого Дон Кихота в ереси, разве сама идея странствующего рыцарства не еретическая по своей сути? Ещё как еретическая! А затем, по преданию, всё кончается тюрьмой в Севилье, куда будущий автор «Дон Кихота» попадёт за растрату. И там в возрасте 58 лет, почти в возрасте своего героя (Дон Кихоту чуть больше 50), Сервантес начинает писать первый том своей бессмертной книги. У Дон Кихота замуровали вход в библиотеку и сожгли большую часть её, а Сервантес оказался замурованным в тюрьме. Тема заточения, как мы видим, станет навязчивой, приобретёт маниакальный характер. Сервантес, начиная писать книгу, всё больше и больше погружается в сумасшедший мир своего героя. Это форма эскапизма, эскапизма творческого. Увлекаясь романом, мы уходим из мира реального в мир вымышленный. Мир – это текст, а жизнь – это книга. Приблизительно это и утверждает роман. Не случайно Х. Борхес назовёт «Дон Кихот» первым романом, написанным в эстетике постмодернизма. Постмодернисты вслед за Ницше утверждали эту тотальную власть языка и слова как знака над миром. Книга Сервантеса настолько начинает оказывать влияние на действительность, что навязывает этой самой реальности свои законы. Что обычно и случается, когда речь идёт об эзотерическом тексте.
Кто кого? Бой с ветряными мельницами
Известно, какое количество революционеров всех мастей было вдохновлено образом Дон Кихота. Троцкий, Дзержинский, Луначарский, Че Гевара – все они воспринимали роман Сервантеса чуть ли не как свой собственный жизненный сценарий. Некоторые горячие головы видят даже в образе Усама бен Ладена черты Дон Кихота. Здесь не лишним будет упомянуть, что автор бессмертного романа прибегает к литературной мистификации и снимает с себя всякое авторство, утверждая, что он лишь хранитель перевода с арабского рукописи некоего мавра Сидома Ахмеда Бен Инхали. Связь с мавританской культурой налицо, поэтому нет ничего удивительного в том, что и мусульманский экстремизм использует тот же образ. А Дон Кихот ведёт себя как истинный экстремист, подавая пример всем горячим головам, которые решили простым действием, одним актом исправить все несправедливости мира.
Испанский философ Унамуно даже стал основоположником новой религии, называемой кихетизмом. Дон Кихота он считал вполне реальным человеком и называл его испанским Христом.
Как уже было сказано выше, главная проблема романа – это проблема читателя, а не писателя. Именно читатель, его роль, его субъективное восприятие текста выдвигается в «Дон Кихоте» на первый план.
Обычный роман, написание которого доступно любому графоману, выстраивается, в основном, по монологическому принципу. Автор-гуру, автор-демиург поучает своего читателя. Он, читатель, для такого автора – лишь объект приложения эстетических, этических и прочих мировоззренческих авторских установок. В случае с «Дон Кихотом» дело обстоит гораздо сложнее. Сервантес нарочито отказывается от своей доминирующей роли и передаёт эту функцию либо Сиду Ахмеду Бен Инхали, либо бесчисленным своим читателям, которые сами являются героями романа, находящегося в процессе становления. Роман поражает ощущением своей незаконченности и даже небрежности. На ум приходят знаменитые «Опыты» Монтеня, где принцип необязательности, случайности и даже хаотичности оправдывается глубоким и неожиданным ассоциативным рядом свободной творческой мысли.
Нелепости текста
Возьмём, к примеру, знаменитую сцену с ослом по кличке Серый Санчо Пансы. Этого осла у него воруют. Но как? Неизвестно. Читателя просто ставят перед фактом, что Серого у Санчо уже нет. В воровстве повинен каторжник по имени Пасамонте де Хинес, освобождённый самим Дон Кихотом (сцена с каторжниками). Как он это сделал? Об этом поначалу умалчивается. Затем в качестве объяснения Сервантес в самом начале второго тома (глава 4) с помощью Санчо Пансы пускается во всякого рода неспешные рассуждения о том, что разбойник сначала поставил палки под седло, а затем вывел Серого прямо из-под спящего Санчо. Объяснение, согласитесь, нелепое и не выдерживает никакой критики. Тут следует заметить, что осёл Санчо к этому времени уже перестал быть Серым. Настоящего Серого оруженосец уже давно сменил на более молодое животное, забрав его у цирюльника, на которого и напал Дон Кихот (случай со знаменитым шлемом Мамбрина). Но Санчо, как и сам автор, напрочь забывает об этом факте и льёт по поводу Серого-Несерого крокодиловы слёзы, рассказывая о том, что он знал своего ослика с самого рождения.
Профессор Счевил в своё время сделал предположение, что Сервантес, перечитывая первый том, готовящийся к изданию, решил добавить упоминание о воровстве Серого. Лист этот он вложил в манускрипт, забыв подправить предшествующие сцены – вот и получилась несуразица. Какой-то странный манускрипт получается? Напоминает бездонную бочку, или алхимический тигель, куда можно сваливать или сливать практически всё подряд, не очень заботясь о логике повествования. Нашёл под ногой исписанный клочок бумаги, прочитал, понравилось – и к себе в личную копилку. Вот эта небрежная манера повествования и роднит «Дон Кихота» со знаменитыми «Опытами». Пришла нелепая идея о воровстве Серого – вот и вставляй её в «свободный» роман. Читатель сам разберётся, сам оправдает, сам придаст смысл этой нелепице. Ведь именно читатель – главная проблема романа.
Помимо Серого естественно возникает вопрос по поводу реалов, найденных странствующим рыцарем и его верным оруженосцем на опушке леса в оставленном кем-то сундуке. Деньги исчезают бесследно, словно растворяются в воздухе. Автор упомянул о целом кладе, а в следующих главах наши путешественники продолжают нуждаться в средствах. Отдай Дон Кихот эти деньги Санчо Пансы, и тому бы никакого губернаторства не захотелось. Это явный просчёт, нарушение логики повествования, которое недопустимо не только в таком великом повествовании, как «Дон Кихот», но и в любом другом куда более скромном тексте.
Примечателен в этом смысле эпизод со львами. Известно, что львы могли попасть в тогдашнюю Испанию только из Туниса. Животных везли непосредственно в Мадрид. Получается, что повозка со львами никак не могла оказаться на пути странствующего рыцаря, ведь он в этот момент направлялся на турнир в Сарагосу.
Небрежен автор и там, где речь идёт о конкретных цифрах. Сначала он уверяет нас, что Санчо семь дней провёл в роли губернатора на острове, а через несколько страниц эта цифра превращается уже в 10 суток.
В главе 45 первого тома сначала упоминаются три офицера «Святого братства», а в конце 47 главы этих офицеров становится уже только двое.
Во время приключений в замке Герцога (второй том) нам говорят, что рычаг, с помощью которого можно было управлять мощным конём, располагался на лбу вырезанного из дерева животного. Буквально через несколько страниц мы узнаём, что рычаг уже расположен на шее.
В главе, повествующей об освобождении каторжников, нам сообщают, что галерников сопровождают два конных стражника, вооружённых мушкетами, и два стражника пеших – всего четыре. А в момент нападения на охрану, которое совершает Дон Кихот, у всадников таинственным образом исчезают заряженные мушкеты, и они становятся довольно лёгкой добычей для странствующего рыцаря и разбойников.
В горах Сьерра-Морена Санчо Панса пеняет на то, что у него вместе с ослом украли и запас корпия. Автор словно забыл, что этот корпий находился в дорожной сумке оруженосца, а сама сумка пропала ещё на постоялом дворе, то есть еще задолго до мнимой кражи Серого.
И таких нелепостей можно найти ещё больше. Но теперь попробуем разобраться в психологической причине подобных промахов. А причина, возможно, заключается в том, что автор этого романа особую роль отводит читателю, то есть переводит ещё не дописанный до конца роман в бесчисленное множество возможных читательских трактовок. Отсюда и результат: ощущение, что процесс написания романа ещё далек от завершения.
Книга о Книге
И вновь обратимся непосредственно к тексту. Принято считать, что роман «Дон Кихот» изначально задумывался как пародия на рыцарский роман. Действительно, в то далёкое время рыцарские романы знали даже люди неграмотные. Их читал не только Дон Кихот – ими увлекались все. Хозяин того трактира, в который попал Дон Кихот при втором своём выезде, был безграмотен, но ему читали рыцарские романы постояльцы, и он искренне удивился, когда узнал, что Дон Кихот сошёл с ума от чтения таких хороших книг.
Этими же романами увлекалась и бедная служанка Мариторнес. Дочь трактирщика разделяла с ней эту страсть.
Сумасшедший, которого в горах Сьерра-Морены встретил Дон Кихот, после того, как он назвал своё имя (Кардение) и отчество (Андалюсио), сразу заговорил о рыцарских романах и подрался со странствующим рыцарем из-за несогласия трактовок некоторых сюжетных линий. Возлюбленная этого сумасшедшего девушка из знатного рода, Луинда, тоже была до этих романов большая охотница.
Дочь незнатных, но богатых родителей, Доротея, героиня одной из вставных новелл, прочла много рыцарских романов и превосходно разыгрывала перед Дон Кихотом роль королевы.
Все действующие лица в произведении Сервантеса – страстные поклонники рыцарских романов, а некоторые из них даже сумели стать героями той книги, которую мы сами держим в руках. В результате получился какой-то гипертекст и метатекст одновременно. Видно, прав был Борхес, который назвал «Дон Кихота» первым постмодернистским произведением мировой литературы.
В результате в романе воображаемый мир, мир книги, и так называемый реальный мир словно поясняют друг друга, комментируют, что и является главной особенностью метатекста. Такое взаимопроникновение мира воображаемого, мира книги, в мир реальный оказывается настолько глубоким, что между этими мирами почти невозможно провести разграничений. Это и позволяет говорить об эзотерическом характере данного текста.
Создаётся впечатление, что пока пишется «Дон Кихот», на его страницы все время хочет попасть всё новое и новое количество героев. Сама книга, сам роман словно вербуют их из числа читателей. И из этих читателей, желающих стать частью текста, выстраивается даже целая очередь.
Так в самом начале второго тома появляется некто Самсон Караско, который сообщает Дон Кихоту, что первый том, где описываются подвиги рыцаря, уже вышел из печати, и что он, Караско, готов заменить Санчо Пансу и стать новым оруженосцем. Вторая часть буквально пишется у нас на глазах. Она самая «сырая», самая неоформленная что ли.
Получив отказ, Караско все равно хочет любой ценой попасть на страницы романа. И если ему отказали в роли помощника, то тогда он готов сыграть роль палача пишущегося прямо у нас на глазах текста. Вспомним, Караско берёт на себя роль рыцаря-противника. Если он выбьет из седла Дон Кихота, то может заставить его прекратить свои странствия и вернуться назад, домой. Дульсинея потеряет ореол вечной женственности, статус божественной Софии, Прекрасной Дамы, а жизнь Рыцаря печального образа должна потерять всякий смысл. Вспомним, что после первой неудачной попытки победить Дон Кихота и тем самым закончить его странствия, а следовательно, прекратить процесс написания самой книги, Самсон Караско уже в обличии Рыцаря луны во второй раз выбивает всё-таки из седла бедного Алонсо Кихано, таким образом вырывая его из воображаемого мира фантазий и химер, пытаясь вернуть героя в мир реальный. Дон Кихот едет домой, становится нормальным и умирает. Действительность одерживает верх над безумием, то есть творчеством.
В книгу пытаются попасть герцог и герцогиня. Когда в их владениях оказываются Дон Кихот и Санчо Панса, то они на ходу сочиняют сюжет с избавлением заколдованной девушки.
Затем два богатых идальго наперебой приглашают к себе странствующего рыцаря с его окружением, чтобы придумать с их участием новые приключения.
Благородный разбойник Роке (второй том, главы 50–51), оказывается, уже сумел прочитать первый том романа, и теперь он тоже старается вписать свою часть сюжета в общую эпопею.
Даже то, что Сервантес добровольно отдаёт своё авторство некоему мавру, делает его самого читателем собственного текста.
Это стремление к постоянной, порой, навязчивой саморефлексии, эта игра в зеркала, в которых увеличивается внутреннее скрытое пространство всего повествования, достигает своего апогея в самом начале второго тома, когда во второй главе мы узнаём, что Дон Кихоту становится известно о существовании книги, описывающей его подвиги, и вместе с Санчо он пускается рассуждать о достоинствах романа-подделки. Такой роман реально существовал.
Первый том уже всеми прочитан, и во втором томе героям-читателям остаётся лишь на свой страх и риск импровизировать на заданную тему и таким образом вместе с автором, который все время сам хочет быть читателем, двигать вперёд тяжеловесное сюжетное колесо.
Но вторая часть «Дон Кихота» рождена не только своей законной первой частью, являясь её продолжением, но и появлением на свет так называемого «Лже-Дон Кихота», этой книгой-загадкой, опубликованной под псевдонимом Алонсо Фернандес Авельянеда. Этот «Лже-Дон Кихот» был опубликован в июле 1616 года, когда дописывалась 53-я глава второго тома.
Во втором томе (глава 61) Дон Кихот, оказавшись в Барселоне, ненароком заходит в печатню и видит, как из-под пресса выходят всё новые и новые тома «Лже-Дон Кихота». Отношение между выдумкой и реальностью совсем запутались. Что теперь управляет миром: книга или реальность? Скорее всего, книга. Если мы станем на позицию книги, то окажемся такими безумцами, как и Дон Кихот, если нет, то мир теряет всю свою загадочность, и мы столь скучны и примитивны, как и хозяин постоялого двора, вокруг которого и плетётся почти вся событийная канва романа.
Войти и выйти
Но концепция книги, управляющей реальностью, – концепция достаточно древняя. Проблема постижения этих сложных отношений книги и реальности также связана с безумием.
В одном из древних текстов приводится следующая притча: «Всё началось с путешествия (это почти как странствия Дон Кихота. – Прим. автора). Четыре учителя попали в сад. Один из них скончался. Второй сошёл с ума. Третий стал Другим, а четвёртый вошёл и вышел из сада как ни в чём не бывало». Создаётся впечатление, что Сервантес, намереваясь написать свой роман ради денег, уподобился Христофору Колумбу, мечтавшему открыть короткий путь в Индию и неожиданно наткнувшемуся в своём плавании на Новый Свет. Так и Сервантес не столько пародировал отжившую форму рыцарского романа, сколько залил новое вино в старые мехи и создал книгу, которая, как некая матрица, породит целый ряд романов Нового времени. Это будут и творения Д. Дефо, и Филдинга, и Л. Стерна, и Руссо, и Пушкина, и Толстого, и Достоевского.
Пушкин и наследие средневекового рыцарского эпоса и итальянского Ренессанса
Русская литература еще в XVIII веке, то есть задолго до Пушкина, обращается не только к античной традиции, например, Горация («Памятник» Ломоносова и Державина, творчество Хераскова и Сумарокова), но и к стихии рыцарского эпоса, рыцарского романа и в связи с этим итальянского Ренессанса. Так, Пушкин еще лицеистом усвоил сложившееся в XVIII веке мнение, что лучшими героическими поэмами у «древних» народов являются «Илиада» и «Энеида», а у «новых» – «Освобожденный Иерусалим» Тассо и «Генриада» Вольтера. Имена четырех великих эпиков перечислены в стихотворении «Городок» (1815):
На полке за Вольтером
Вергилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
По мнению В.В. Сиповского, «еще в родительском доме начал он сочинять подражания Мольеру и Вольтеру. Но особенно увлекала его „легкая поэзия“ французов с ее жизнерадостными настроениями, веселым, не всегда приличным содержанием. Обладая с детства феноменальной памятью, Пушкин „выучил наизусть“ всю эту литературу – оттого так сильны были ее влияния на первых опытах его своеобразного творчества»[1]1
Сиповский В.В. История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1. С. 25.
[Закрыть].
По меткому замечанию Ю.М. Лотмана, уже в середине XVIII века произошло серьезное изменение во взглядах русских интеллектуалов, до этого в большей степени ориентированных на православие. Современник Вольтера и читатель Гельвеция русский человек середины XVIII столетия с улыбкой превосходства отвернулся от отцовских верований: «Взамен он получил сомнения или отчаяние. Но зато он приобрел и огромную свободу. Он как бы вырос до гигантских размеров и оказался один на один, лицом к лицу с вечностью»[2]2
См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994. С. 151.
[Закрыть].
В какой-то степени это может объяснить, почему в домашней библиотеке отца Пушкина оказалось так много вольных поэм Вольтера и, в частности, его знаменитая «Орлеанская девственница», написанная в жанре ирои-комической поэмы и под непосредственным влиянием Ариосто и его «Неистового Роланда».
Но почему именно жанр ирои-комической поэмы приобрел такую популярность в век Просвещения? Почему поэты и мыслители начали относиться с нескрываемой иронией к героическому и даже сакральному прошлому? На наш взгляд, все объясняется тем, что в век разума интеллектуалы Европы открыли для себя некий ящик Пандоры, ведь, разум – это не только свет, но и сомнения. Однако до кризиса рациональности было еще очень далеко, и Мишель Фуко напишет свою знаменитую «Историю безумия в классическую эпоху» лишь в далеком ХХ столетии. Европа же в это время буквально упивалась еще не до конца раскрытыми возможностями рацио. Наука находилась еще в зачаточном состоянии, ньютоно-картезианская парадигма воспринималась как догма, и человеческий Разум, его почти божественная сила, казалось, не знали себе равных и готовы были преодолеть и осветить любую тьму:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Вот тут и настала пора вспомнить о таком великом ернике, как Лудовико Ариосто, которого современники, кстати сказать, считали сумасшедшим, опираясь в качестве доказательства в основном на его великую поэму «Неистовый Роланд» с ее безумными перипетиями, бесконечными отступлениями от главной темы повествования и сбивчивым ритмом, больше похожим на речь безумца, а не на размеренные фразы классического ритора. Это обращение к Ариосто как к образцу для подражания самим Вольтером свидетельствует, на наш взгляд, о том, что разум и Просвещение в целом не обошлись без диалектических противоречий, когда в тени рацио, как змий в раю, скрывалось и веселенькое безумие. Или, выражаясь словами того же М. Фуко, «безумие ушло из чувственно воспринимаемого мира, укрывшись в тайном царстве всеобщего разума»[3]3
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Университетская книга, 1997. С. 98.
[Закрыть].
Но сначала все-таки был Вольтер, а не Ариосто, Вольтер, кумир юного Пушкина, которому он пытался подражать в своих ранних сомнительных поэмах еще в лицее («Бова», «Монах», скандальная сказка «Царь Никита и сорок его дочерей» и, конечно же, «Гавриилиада»), видно, в юношеском запале стараясь удивить своих сверстников собственным свободомыслием. Типичное проявление подросткового нигилизма, только в отличие от современной ситуации, ситуации смерти книжной цивилизации в эпоху компьютерных технологий, подросток пушкинской поры был, наоборот, перенасыщен плодами этой самой книжной цивилизации, он жил, что называется, «приизлиху насытившись сладости книжной». Жил, сызмальства «себе присвоив ум чужой». И поэтому подростковый нигилизм Пушкина – это явление большой культуры, а не какой-нибудь там современной тусовки полуграмотных отроков. Этот подростковый нигилизм лицеиста начала ХIХ века соревнуется в своих первых поэтических опытах с самым известным циником столетия, с Вольтером. Это не то же самое, что подражать какому-нибудь эстрадному фрику современности, кумиру всех, кто находится в пубертатном периоде своей непутевой жизни.
Возьмем, к примеру, поэму юного Пушкина «Монах». Источники творческого воображения, создававшего «Монаха», как установили пушкинисты, сводятся к трем группам впечатлений. Первая группа дана чтением и изучением литературных образцов (те же скабрезные поэмы Вольтера и традиция французского либертинажа); вторая – созерцанием картин, которые Пушкин видел на стенах дворцовых покоев, и гравюр, которыми была так богата французская книга XVIII века, и, наконец, третья возникла из непосредственных возбуждений реальной действительности. Несколько слов о действительности, питавшей эротику 13–14летнего мальчика, воспитанника закрытого учебного заведения, которое казалось ему монастырем. Источником ее были сцены домашнего театра графа Варфоломея Васильевича Толстого. Тынянов в своем знаменитом романе «Пушкин» прекрасно описал этот первый опыт чувственной любви поэта. Каждый может еще раз перечитать замечательные строки романа.
Сюжет поэмы «Бова», который принято относить лишь к русскому фольклорному сказанию, поведанному няней поэта Ариной Родионовной еще в детстве Пушкина, на самом деле является не чем иным, как «бродячим сюжетом», то есть общенародным фольклорным текстом. Повесть является аналогом средневекового французского романа о подвигах рыцаря Бово д’Антона, известного также с XVI века в лубочных итальянских изданиях поэтических и прозаических произведений. Старейший вариант французского романа, дошедший до наших дней, – «Бэв из Антона», датируемый первой половиной XIII века, написан на англо-нормандском диалекте. Наряду с русской повестью о Бове аналогичные произведения были созданы и на многих других европейских языках. Из всех рыцарских и авантюрных произведений, бытовавших на Руси в допетровское время, повесть о Бове пользовалась наибольшим успехом. Известно около 100 рукописей и около 200 лубочных изданий, последние из которых выходили даже после революции в 1918 году. Образ Бовы был очень популярен в фольклоре.
«Гавриилиада» написана 22-летним Пушкиным в апреле 1821 года в Кишиневе. Исследователи связывали сюжет «Гавриилиады» с поэмой «Война старых и новых богов» Эвариста Парни, поэта, высоко ценимого Пушкиным; возможна также связь с одним эпизодом «Сказки о Золотом петухе» Ф.М. Клингера. В самой же интриге, связанной с Девой Марией, явно проступают мотивы, взятые непосредственно из Вольтера и его «Орлеанской девственницы», в которой вся трагедия Столетней войны цинично рассматривается как борьба за обладание Жанной д‘Арк. Сказка же Клингера потом напрямую будет практически пересказана Пушкиным стихами под тем же названием, а «Гавриилиада» в дальнейшем доставит поэту немало хлопот в связи с ее атеистическим содержанием. Поэт откажется от нее по причине изменившихся взглядов на религию, но в молодости фривольная французская поэзия будет безраздельно владеть умом молодого гения.
«Орлеанская девственница» (фр. La Pucelle d‘Orléans) – сатирическая пародийная поэма Вольтера, где события жизни национальной героини (тогда еще не канонизированной святой) Жанны д’Арк представлены в сниженно-комическом ключе, столь же иронически показаны французские рыцари и церковь. Изданная анонимно «Девственница» стала одним из самых популярных неподцензурных произведений Вольтера, она получила известность и за пределами Франции как образец скептически-иронического «вольнодумства» XVIII века. «Орлеанская девственница» в молодости была одной из любимых книг Пушкина, он подражал ей в «Руслане и Людмиле», начал ее перевод, а впоследствии посвятил «преступной поэме» свое последнее произведение. Незадолго до дуэли с Дантесом в январе 1837 года Пушкин работал над статьей «Последний из свойственников Иоанны д’Арк», предназначавшейся для журнала «Современник». Статье было суждено стать его последним произведением. Это мистификация («пастиш»), стилизованная под перевод переписки Вольтера с вымышленным «господином Дюлисом» (фамилия от национальной лилии Франции – Флер-де-лис), якобы потомком брата Жанны д’Арк, которому Карл VII действительно даровал дворянство и фамилию дю Лис. Увидев скабрезную поэму о сестре своего пращура, «добрый дворянин, мало занимавшийся литературою» Дюлис вызывает Вольтера на дуэль (следы размышлений Пушкина о своей собственной ситуации). Знаменитый же писатель уходит от ответственности, сказавшись больным и заверяя, что никогда «Девственницы» не писал (исследователи видят отзвук истории с «Гавриилиадой»). В конце Пушкин вкладывает в уста «английскому журналисту» такую оценку творения Вольтера: «Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? Раз в жизни случилось ему быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня. Он как римский палач присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. <…> Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д’Ольбаха и M-me Joffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримулья. Жалкий век! Жалкий народ».
Очень важное, на наш взгляд, заявление, которое свидетельствует, какие кардинальные изменения произошли во внутреннем мире великого поэта. От слепого юношеского подражания своему кумиру в начале жизни до горького признания разрушительной силы его цинизма, или кинизма. Но Вольтер в данном случае нам будет интересен тем, что во многом именно через него молодой Пушкин и смог рассмотреть и проникнуться очарованием поэзии Ариосто как представителя позднего итальянского Возрождения, с одной стороны, а с другой – прекрасного продолжателя и интерпретатора общеевропейского рыцарского средневекового эпоса. Так, через слепое юношеское подражание главному цинику Европы Вольтеру во многом благодаря Пушкину в русскую литературу XIX века буквально ворвалась стихия литературного прошлого западного мира, того самого прошлого, без которого не было бы нашего национального самобытного романа «Евгений Онегин». О связи «Онегина» и «Неистового Роланда» мы поговорим немного позднее. А пока все-таки Вольтер.
Его «Девственница» написана силлабическим двенадцатисложником, однако в отличие от классического эпоса (в том числе, например, «Генриады» самого Вольтера), где рифмующие строки объединяются попарно (александрийский стих), в поэме рифмовка вольная, что придает рассказу большую естественность и непринужденность. Поэма состоит из 21 «песни» (chants). В начале (эти строки переведены Пушкиным) Вольтер иронически отрекается от Шаплена:
О ты, певец сей чудотворной девы,
Седой певец, чьи хриплые напевы,
Нестройный ум и бестолковый вкус
В былые дни бесили нежных муз,
Хотел бы ты, о стихотворец хилый,
Почтить меня скрыпицею своей,
Да не хочу. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь из модных рифмачей.
Вольтер травестирует сюжет девы-воительницы, выпячивая его эротический подтекст – «под юбкою» Жанны хранится «ключ от осаждаемого Орлеана и от судеб всей Франции». Враги Франции охотятся за девственностью Жанны, не отстают от них в разврате и окружающие Жанну французские служители церкви всех уровней; она дает им отпор то при помощи кулаков, как деревенская девица, то различных уловок. На ее невинность посягает даже осел, что совсем уж выходит за рамки всякого приличия:
Трубя, красуясь, изгибая шею.
Уже подседлан он и взнуздан был,
Пленяя блеском золотых удил,
Копытом в нетерпенье землю роя,
Как лучший конь фракийского героя;
Сверкали крылья на его спине,
На них летал он часто в вышине.
Так некогда Пегас в полях небесных
Носил на крупе девять дев чудесных,
И Гиппогриф, летая на луну,
Астольфа мчал в священную страну.
Ты хочешь знать, кем был осел тот странный,
Подставивший крестец свой для Иоанны?
Об этом я потом упомяну,
Пока же я тебя предупреждаю,
Что тот осел довольно близок к раю[4]4
Вольтер. Орлеанская девственница. Политиздат Украины, 1989.
[Закрыть].
Как мы видим, в этом отрывке Вольтер упоминает одного из главных героев поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», а знаменитый Гиппогриф в дальнейшем в русской литературе превратится в такой любимый народом образ, как конек-горбунок.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































