Читать книгу "Воспоминания"
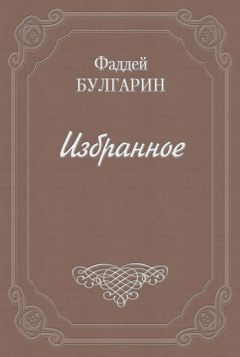
Автор книги: Фаддей Булгарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
ГЛАВА II
Четыре стихии древней Польши. – Две главные пружины общества в Польше, за сорок лет пред сим: женщины и евреи – Еврейские известия о политических и военных событиях. – Дядя, приор Доминиканского монашеского ордена. – Состояние католического духовенства е то время. – Фундуши. – Тогдашнее состояние духовных католических школ. – Обманчивые прокламации Наполеона. – Здравая политика моего дяди. ~ Монастырская жизнь. – Переход за границу и прибытие в армию. – Взгляд на Восточную Пруссию и Самогитию или Жмудз. – Фуражировка. – Насильственное знакомство, превратившееся в тесную женскую дружбу. – Французский бивак в нашей полковой штаб-квартире. – Нежное обращение с французами. – Бездействие Наполеона, удивлявшее всю Европу. – Роскошная жизнь его в Финкенштейне. – Полька утешительница. – Неудачные переговоры о мире. – Начало военных действий. – Взгляд на театр войны. – Очерк главной квартиры. – Провиантские чиновники. – Карточная игра и дуэли. – Жизнь на карте. – Передняя главнокомандующего, – Знакомства с генералом бароном Беннигсеном. – Дежурный генерал, А.Б.Фок. – Обманутые надежды. – Обед у главнокомандующего и занимательная военная беседа за столом. – Французские биваки под Гутштадтом. – Изувеченный. – Дело при Пассарге. – Геройский подвиг Лейб-гвардии егерского полка. – Отчаянное дело тайного советника графа П.Л.Строганова. – Характеристика этого вельможи. – Отступление от Пассарги к Гейльсбергу. – Блистательные подвиги подполковника Кульнева и майора Атаманского казачьего полка Балабина. – Гейльсбергское сражение. – Первый убитый возле меня человек. – Атаман войска Донского, М. И. Платов. – Атаманский полк. – Искусный маневр Наполеона. – Отступление русской армии от Гейльсберга. – Беннигсен в Шипенбепле. – Превосходный план Беннигсена. – Кавалерийское дело под Фридландом, 1 июня. – Геройский подвиг уланского поручика Старжинского. – Несчастный случай, имевший влияние на участь генерального сражения, 2 июня. – Свалка с французскими драгунами. – Наша счастливая атака французских кирасиров и драгун. – Кавалерийское сражение на правом фланге – и победа. – Отчаянное положение нашего правого фланга и всей кавалерии. – Геройское намерение князя Горчакова. – Переход чрез реку Алле, вплавь. – Ретирада. – Переход чрез реку Неман всей русской армии и окончание военных действий.
Добрый мой ротмистр, Василий Харитонович Щеглов, дал мне на дорогу плаш, из солдатского сукна, с башлыком (капюшоном), сшитый нарочно для бивак. Пока я доехал, правильнее доплыл по грязи до Россией, плащ этот сделался жесткий, как кора. Грязь засохла на нем на два пальца толщиной. На последней станции узнал я, что дяди моего нет в городе, но что его ожидают на другой день, к празднику, не помню какому. Станционный смотритель, знавший все городские сплетни, советовал мне заехать к богатому еврею (не помню его имени), который поставлял вино и пряности в монастырь Доминиканский, следовательно, примет хорошо племянника приора, т. е. настоятеля, Я так и сделал. – Здесь я должен сделать отступление для полной характеристики тогдашнего времени.
В хаосе, называемом древним польским правлением, господствовали четыре стихии или силы, подчиняя себе ход общественных дел. Эти четыре силы принадлежали богатым панам, католическому духовенству, женщинам и евреям, имевшим в руках своих все торговые обороты и все произведения земли, единственное богатство тогдашней Польши. – Влияние панов и духовенства чрезвычайно уменьшилось после падения Польши: но сила жидов и женщин, сила невидимая, сила неосязаемая, действующая скрытно, была еще весьма велика в ту эпоху, о которой я говорю. Евреи действовали умом, хитростью и деньгами; женщины подчиняли все своему влиянию, умом, любезностью и красотою. – Женщина с малолетства дрессировали к интригам (по-польски па forsy), как дрессируют канареек делать разные штуки. – На дворянские выборы (seymiki), во время суждения тяжб, искатели приезжали в город с женами, дочерьми, кузинами и их приятельницами, которые везли с собой полный арсенал нежных взглядов, сладких речей и всевозможных искушений. Поляки с материнским молоком всасывали в душу рыцарское уважение, повиновение и преданность к женскому полу. – Отказать в просьбе даме – почиталось или совершенной дикостью или непреклонностью Катона, а как Катоны везде и всегда весьма редки, то поляки владычествовали самовластно в своем отечестве.
Евреи составляли особое государство В государстве (Status in Statu). Общественные еврейские дела управлялись общинными правлениями или кагалами, которые имели между собой беспрерывные сообщения, и в общем деле действовали всегда общими силами. – Если надобны были деньги для общего дела, кагалы налагали подать на общины, по-стольку, то с души, и в самое короткое время собирался миллион рублей, или сколько было нужно. Эта денежная сила невидимо держала все в своей зависимости. Сверх того, евреи, посредством сношений между кагалами, знали все, что им нужно было знать, потому что богатые евреи, по торговым сношениям с панами, а избранные хитрецы факторством выведывали все тайны, между тем, как шинкари держали в рабстве слуг[66]66
Поляки верили, что беи жидов невозможно обойтись в жизни. Существует старинная пословица: «Kiedy trwoga, w tcdy do Boga, a kiedy bicda w tedy do Zuda», т. е. В тревогу, прибегают к Богу, а в беду – к жиду. – Здесь должно заметить, что trwoga. тревога, означает несчастье, a hieda (произноси бида), т. е. беда – нужду. – Жид всегда поможет человеку в нужде, если надеется, что получит хотя отдаленную выгоду.
[Закрыть].
Жиды никогда не переписывались через почту, в важных делах, но всегда через нарочных посланцев. Газет почти не читали в Польше, не доверяя печатным новостям, и евреи заменяли газеты. – Во время войны или политических переломов и борений, евреи держали всегда ту сторону, от которой надеялись получить для себя более пользы. – В это время Литва и все возвращенные к России от Польши провинции были для евреев гораздо прибыльнее Обетованной Земли, в которой, по закону Моисееву, надлежало добывать насущный хлеб в поте чела, и потому в войне России с Наполеоном евреи держали русскую сторону.
Хотя я приехал в Россиены поздно (часу в одиннадцатом вечера), но еврей, узнав кто я, принял меня весьма хорошо, отвел мне чистые комнаты, велел подать ужин (разумеется, маринованную рыбу, всегда готовую для подобных случаев), сам принес бутылку вина, сыр и т. п., и просил позволения присесть. Началась между нами политическая беседа. – Имя полка, и котором я служил, по видимому, придало мне важность в глазах еврея, и он, быть может, в той надежде, что преданность его к России сделается известной государю, излил передо мною чувства своей приверженности и рассказал о положении края. От него узнал я, впервые, что французы не были разбиты, наголову, при Пултуске, Голымине и Прейсиш-Эйлау; что в Варшаве учреждено временное польское правление и сформировано польское войско в 30 000 человек; что прокламации Наполеона ходят здесь по рукам, что до двенадцати тысяч польского юношества, из хороших фамилий и мелкой шляхты, перешло в польскую военную службу, из всех польских провинций, возвращенных России и присоединенных к Австрии, особенно из Волынской губернии и Галиции, что главная пружина этого энтузиазма – женщины, и что здесь нетерпеливо ожидают вторжения французов. Обо всем этом я не слыхал в Петербурге и в нашем военном кругу, и потому не весьма доверял приверженному к России еврею.
Проспал я богатырским сном, после дороги, до полудня, и когда проснулся, еврей уведомил меня, что дядя мой приехал, и что экипаж его ждет меня у подъезда. Немедленно отправился я в Доминиканский монастырь.
Дядя мой был человек лет за пятьдесят, высокого роста и красивый мужчина. Он славился умом своим, пользовался общим уважением, хотя светские качества превышали в нем иноческие добродетели. Знанием света и связями с знатнейшими фамилиями и правительственными лицами, он приобрел влияние и в своем ордене и в обществе. Он был из числа тех людей, которые, не предаваясь политическим мечтам, почитали Польшу умершею, и все счастье польских провинций полагали в сближении поляков с Россиею и в беспредельной преданности к русскому престолу. Не знаю, по какому случаю дядя мой сделался известным императору Александру, но как в крае, так и между доминиканами, сохранившими предания своего ордена, известно, что дядя мой пользовался особенною милостью императора. Когда только государь проезжал через Литву, дядя мой всегда ожидал его на какой-нибудь станции и допускаем был к нему. Кроме того, император позволил ему писать к себе, в собственные руки. – Однажды, в Стрельне, когда я представлялся государю на ординарцы, он, узнав о моей фамилии, спросил: "не родня ли я приору? На утвердительный мой ответ, государь благоволил сказать: "Когда будешь писать к нему, не забудь сказать, что я помню и люблю его". – Это чрезвычайно много!
Дядя мой вступил в духовное звание прежде падения Польши, когда в ней, как и во всех западных католических государствах, дворяне поступали в духовное звание не столько по набожности, сколько по расчету. Дворянству в Польше открывались три поприща для приобретения значения: военная служба, гражданская, или служба по выборам, и духовное звание. Духовенство в Польше обладало несметными сокровищами. Духовные фундуши, т. е. денежные суммы и недвижимые имения, образовались из пожертвований частных лиц на церкви и монастыри, и в этом случае даже особы королевского дома обогащали церковь только в звании прихожан или богомольцев. Почти все эти пожертвования делаемы были с похвальною целью, для блага человечества. Жертвовали духовенству огромные суммы и вотчины на проповедование христианства в странах языческих или магометанских, на выкуп христианских невольников из плена у неверных, на учреждение госпиталей и безвозмездных школ и т. п. Но цель первых учреждений, впоследствии, была совершенно забыта или исполнялась весьма слабо, только для вида. Миссионеры не проповедовали христианства в далеких странах, но довольствовались обращением в христианскую веру нескольких из самых превратных евреев или обнищалых татар. Невольников вовсе не выкупали из плена неверных, а, напротив, покупали богатые вотчины. Вместо госпиталей при монастырях содержали по нескольку старцев (koscielnych dziadow), как вывеску благотворительности. Правда, иезуиты, пиары, доминиканцы и некоторые другие монашеские ордена содержали школы, но и лучшие из них были не в духе времени – и схоластика в этих школах затмевала свет наук и истинной философии. Латынь заменяла всю премудрость.
После учреждения министерства просвещения в России, преобразования Виленского университета и основания уездных школ и гимназий, и после благоразумного изгнания иезуитов, духовные школы совершенно упали и сделались бесполезными, и вся ученая деятельность католического духовенства сосредоточилась в семинариях. Между тем фундуши все возрастали. Некоторые епископы имели более ста тысяч рублей дохода. Каноники пользовались плебаниями (приходами, в которых они никогда даже не появлялись), приносящими по нескольку тысяч червонцев. Монастыри имели богатые вотчины и капиталы, и управлялись почти безотчетно. Такой ход дел привлекал многих дворян в духовное звание, для поддержания фамильного значения. Многие из духовных лиц оставляли богатые наследства своим родным и поддерживали их. Всей Литве известна история одной фамилии, к которой перешли все богатства одного картезианского монастыря близ Слонима. Скажу мимоходом, что хотя дядя мой управлял богатыми монастырями и потом был провинциалом (так называется глава Доминиканского ордена), но не оставил наследства своей фамилии. Он жил хорошо, делал много добра – но не хотел или не умел составить благоприобретенного имения из чужой собственности.
Может быть, некоторым людям не понравится сказанное мной здесь о богатстве католического духовенства: но что же делать – я не умею лгать, и привык излагать мою образ мыслей о каждом предмете по убеждению. Я верю, что обе крайности, богатство и бедность, вредят священному призванию духовенства, и что от него именно должно почерпать благие примеры умеренности.
Дядя принял меня радушно, в разговорах подтвердил все сказанное евреем, и сверх того показал мне прокламации Наполеона, которыми он приглашал поляков к восстанию в прусской Польше, утверждая, что Костюшко прибудет вскоре для принятия начальства над польским войском. – "Это ложь и обман", – сказал мне дядя: "я знаю Костюшку лучше, нежели Наполеон, и твердо убежден, что он никогда не примет на себя роли искателя приключений (aventurier), и не нарушит честного слова, данного им императору Павлу: не воевать против России. Костюшко любит отечество, как каждый честный человек должен любить мать свою; но он убежден, что общая мать наша, Польша, умерла, и что нам остается только чтить память ее в могиле. Это и мой образ мыслей", – примолвил дядя. "Я убежден", – продолжал он, "что Наполеон вовсе не помышляет о восстановлении древней Польши. Ему нужны солдаты, а не народы! Да хотя бы Наполеон и желал, то не в состоянии этого исполнить, потому что для этого надобно уничтожить или довесть до последней крайности три первоклассные державы в Европе, Россию, Австрию и Пруссию, которых невозможно победить, когда они будут действовать вместе всеми своими силами. Сверх того, выгоды Англии в сопротивлении могуществу Франции и в союзе с Россиею. Счастье поляков в сердце Александра! Там они должны искать его. Говорю тебе все это для того, чтобы охранить от соблазна, от женского вербунка, примолвил он, улыбаясь. "Наши дамы и девицы (panic и panny) помешались на патриотических мечтах, и молодому человеку весьма трудно покорить логикою их поэзию!.."
Сознаюсь, в то время я несовершенно понимал всю важность этих слов моего дяди. Последующие события оживили в моей памяти первый политический разговор мой о Польше и убедили в справедливости мнения дяди. Слова его были пророческие!..
Я пробыл в Россиенах трое суток, и только однажды был в обществе, на вечере у богатого помещика Прже…го. Дамы с любопытством смотрели на мой уланский мундир, и явно провозглашали свои патриотические чувства. Здесь я впервые услышал знаменитую песню польскую, о возвращении из Италии польских легионов. Превосходно пела ее прелестная девица… и многие из присутствовавших проливали слезы.
В тот же день переехал я в монастырь, и поместился в одной из квартир, всегда готовых для значительных помещиков и чиновников. Только однажды обедал я за общею трапезою. Стол был превосходный и блюда такие огромные, что можно было бы насытить вдвое более людей с хорошим аппетитом. Обыкновенно за столом пили одно пиво, а вино подавали только в праздники; но в этот день, хотя будний, подано было вино, ради гостя, племянника приорова. Сколько я мог заметить, монахи были люди веселые и добродушные. После обеда время посвящаемо было разговорам или шахматной игре в кельях. Один старый доминиканец вязал чулки с утра до ночи, другой старик занимался деланьем бумажных коробочек. Ученых занятий я не заметил.
При прощанье, дядя подарил мне, на дорогу, сто червонных и снабдил огромным коробом, наполненным съестными припасами и разным лакомством, не забыв и венгерского вина, и дал мне монастырскую бричку, до Юрбурга. Он был в самых дружеских сношениях с главнокомандующим, генералом бароном Беннигсеном[67]67
Барон Беннигсен был женат на польке Андржейковичской. Фамилия наша издавна находилась в близких сношениях с Андржейковичами, и даже теперь один мой родственник женат на Андржейковичской, из той же фамилии.
[Закрыть], еще со времени первой польской войны, и потому дал мне к нему рекомендательное письмо. Я догнал полк в Юрбурге, где была дневка и где нам розданы были боевые патроны и отдан приказ отпустить (техническое слово) сабли, навострить пики и осмотреть огнестрельное оружие. На другой день мы перешли через границу. Это было 9-го марта, следовательно, в тридцать семь дней мы перешли около 750 верст.
Мы шли поспешно в главную квартиру, имея, однако ж, ночлеги по селениям, и к половине апреля прибыли в окрестности Шипенбейля. Полк наш расположился на кантонир-квартирах, и полковой штаб был в селении Гроссенфельде.
Восточная Пруссия есть древняя Литва, покоренная орденом Меченосцев. Пруссаки до сих пор называют Литвою (Litthau) часть страны, прилегающую к России. По деревням говорят языком самогитским или латышским. Народ, населяющий большую часть Ляфляндии, всю Курляндию (латыши), Самогитию (Жмудины) и восточную Пруссию, происходит от одного Литовского племени, и везде сохраняет свои характеристические черты. Латыши и жмудины трудолюбивы, бережливы, способны к высшему умственному развитию и мануфактурной промышленности, набожны и привержены к своему племени. Во время древнего польского правления не было в Польше провинции богаче Самогитии или Жмуди, и в десять лет, по разделении Польши, т. е. в 1807 году, мы застали еще в Самогитии общее довольство. Тогда жмудинам позволялось свободно (т. е. с письменным позволением капитан-исправника) возить свои земные произведения в Мемель и Тильзит, и они за лен и пшеницу получали хорошую плату, и вблизи запасались, за весьма дешевую цену, солью, железом и грубыми мануфактурными изделиями. Многие поселяне на Жмуди имели тогда по нескольку тысяч талеров в запасе, и все вообще жили хорошо, при обилии домашнего скота и хороших лошадей отличной породы, вроде нынешних финляндских. Когда границу заперли, источник богатства иссяк.
В прусской Литве поселяне были еще богаче, жили в чистых и просторных домах и были вдесятеро более просвешены, нежели их соплеменники в Курляндии, Лифляндии и Самогитии. Даже в это время, когда вся русская армия и остатки прусского войска сосредоточены были в восточной Пруссии, не было еще недостатка в съестных припасах и фураже. Только к весне, именно во время нашего прихода, оказался недостаток в тех местах, где расположена была кавалерия, и мы, стоя на кантонир-квартирах в дружеской стране, принуждены были фуражировать, т. е. разъезжать по окрестностям, искать съестных припасов и фуража и брать то и другое насильно, выдавая, однако ж, квитанции, по которым впоследствии обещана была уплата русским правительством[68]68
По окончании войны, в Кенигсберге учреждена была Ликвидационная комиссия, и по всем форменным квитанциям уплачено наличными деньгами.
[Закрыть].
Это была крайность: иначе невозможно было прокормить войско и содержать кавалерию, потому что хотя в Кенигсберге и были запасы, но доставка представляла большие затруднения. Разумеется, что фуражировка никогда не может быть подчинена строгому порядку, потому что между отрядами фуражиров, посылаемых с офицерами, шатаются всегда шайки мародеров, из денщиков, фурлейтов и т. п. Некоторые молодые офицеры также не весьма хорошо понимали важность фуражировки в дружеской земле, и вместо правильных квитанций за забранные съестные припасы и фураж, давали бедным жителям, на память, русские стишки, песни, или писали плохие шутки. Мне самому случалось видеть в руках шульцев (деревенских старост) и даже помещиков, вместо квитанции, песню: "Чем тебя я огорчила", или: "Предъявитель сего должен получить 200 палочных ударов", и т. п. Эти глупые и вредные для жителей шутки были строго запрещены, однако ж беспрестанно повторялись. Меня, хотя я не знал тогда по-немецки вполовину против нынешнего, однако ж мог говорить, весьма часто посылали фуражировать, и в одну из этих командировок, я свел знакомство, которое едва не имело решительного влияния на всю жизнь мою.
В тылу и по флангам армии было мало поживы. Тут надлежало уже искать добычи по лесам или в ямах. Однажды, я решился пуститься за черту, далее которой нам не приказано было ездить, по направлению к Гутштадту, между Гейльсбергом и Бишофштейном, проехал верст тридцать, и под лесом увидел деревню. Лишь только мы показались на пригорке, в деревне сделалась суматоха. Часть жителей, особенно женщины и дети, бросилась бежать в лес. Я поскакал во всю конскую прыть в деревню, с уланом Соколовским, знавшим по-немецки, и мы стали кричать, изо всей силы: Wir sind Freimde, wir sind Russen! т. е. мы друзья, русские. Но это, казалось, не успокаивало жителей. Несколько стариков и хозяев, из смелейших, стояли толпой перед одним большим домом, и когда я прискакал к ним, они сняли шляпы. В толпе находился шульц. Я стал уверять их, что поселянам не будет нанесено ни малейшей обиды, что ничего не будет тронуто без воли хозяина, что я требую только фуража, за который будет заплачено, что я свято исполняю волю и намерение моего государя, приславшего нас защищать Пруссию и т. п. Поселяне успокоились. Я слез с лошади, и вошел в дом шульца рука об руку с ним, стараясь всеми мерами успокоить и расположить его в нашу пользу, и он послал в лес, чтобы бежавшие воротились оттуда. Межу тем уланы мои прибыли в деревню. Я расспросил о неприятеле, и узнал, что верстах в двадцати, по дороге в Зеебург, была накануне стычка французских разъездов с казаками; но поселяне не умели мне сказать, чем это кончилось, и куда пошли казаки и французы. Шульц примолвил, что в деревне приняли нас за одну из этих партий. Юность моя и ласковое обхождение внушили поселянам полную ко мне доверенность, и они сознались, что по пикам нашим приняли нас за казаков, которых они боятся гораздо больше, чем неприятелей своих, французов… Они совершенно успокоились, когда я сказал, что мы не казаки, а уланы, полка брата русского императора.
Вскоре я был окружен толпой женщин и детей, которые с любопытством рассматривали мой наряд и вооружение. Шульц советовал мне заехать на господский двор, в двух верстах от деревни, под самым лесом, и переговорить с госпожой насчет моих требований. Я последовал этому совету и, поручив моих улан (всего двадцать человек) исправному унтер-офицеру, отправился с одним Соколовским на господский двор. Для предосторожности, я расставил ведеты, и велел одной половине улан кормить лошадей и самим пообедать на улице, а другой половине, не отлучаясь, стоять во фронте, при замундштученных лошадях. Не зная вовсе местности и расположения своих и неприятельских войск, я должен был предполагать, что французские фуражиры также могут попасть сюда. Меня учили, что первое правило военного человека, от которого он никогда не должен отступать, – осторожность. Храбрый и многочисленный отряд может быть разбит меньшим числом, в нечаянном нападении.
Помещица приняла меня на крыльце дома своего, и, кажется, весьма удивилась моей молодости. Хотя мне было уже почти семнадцать лет, но по лицу я казался гораздо моложе. В кратких словах объяснил я помещице причину моего посещения, и просил снабдить овсом, сеном, хлебом и мясом на целый эскадрон, уверяя, что за все будет заплачено, по существующим ценам. Это была еще первая фуражировка в этом поместье, и потому не было ни в чем недостатка. Помещица, однако ж, начала было отговариваться – но я объявил ей решительно, что если из снисхождения к ее просьбе, не возьму ничего, то другие возьмут вдвое, и притом насильно, без всякого порядка, а с моим свидетельством она может уже отговариваться перед другими, что все взято. После переговоров с шульцем, решено было удовлетворить меня, но для этого надлежало прождать до другого утра, пока успели испечь хлеб, свезти сено и приготовить подводы. Хотя я и так уже был целые сутки в отлучке из эскадрона, однако ж должен был согласиться. Между тем помещица велела подать завтрак.
Она была вдова прусского майора Даргица. На вопрос мой, есть ли у нее дети, она улыбнулась и сказала, шутя. что я издали показался им так страшен, что дети скрылись от меня в лесу, как от волка, но что за ними уже послано. Едва успел я усесться за завтрак, в комнату вошли две девицы… нет… два воплощенные ангела! Это были дочери помещицы… Я вскочил с места, как будто меня обдало кипятком… – "Вот старшая моя дочь, Албертина, а вот младшая, Леопольдина!" – сказала хозяйка. Я поклонился и ничего не мог сказать, а только смотрел на красавиц… Живы ли они теперь, и вспомнили ли хоть раз об нашем знакомстве?.. Много прошло времени с тех пор, и если они живы, то теперь уже почтенные старушки… Старшая, С темно-каштановыми волосами и голубыми глазами, с ярким румянцем на лице, была годом старше меня, а младшая, томная блондинка, годом моложе. Это были пышная роза и нежная лилия. Ничего не видел я прелестнее этих двух сестер! Мать пошла распоряжаться по моему делу и оставила нас одних. Старшая сестра, видя, что в замешательстве я забыл о завтраке, стала приглашать меня шутливым тоном, и продолжая разговор, наконец возбудила и во мне смелость. Мы говорили по-французски. После завтрака девицы предложили мне прогуляться с ними в саду. Постепенно становился я смелее и разговорчивее, и наконец вошел в мой обыкновенный характер. Они показали мне свои цветы, свои любимые деревья, свой птичник, свои любимые места в саду, расспрашивали меня о России, о Петербурге – я расспрашивал их об их житье, занятиях, о книгах, которые им более нравятся – и через два часа, когда нас позвали обедать, мы были так коротко знакомы, как будто прожили несколько лет в одном семействе. Мать удивилась, слыша, что мы за столом называем уже друг друга по имени, шутим и хохочем вместе, как старые знакомые. Особенно была весела и шутлива Албертина, но и томная Леопольдина оставила за обедом свою застенчивость. – Вообще говорят, что немки слишком манерны, застенчивы, неловки, принужденны в обращении (steif), неразговорчивы. Все это относится к среднему сословию – но в лучшем кругу весьма много женщин и даже девиц свободного обращения. Г-жа Даргиц воспитала дочерей своих во всей чистоте нравов сельской, патриархальной жизни, и была так счастлива, что в гувернантке, француженке, нашла и познания и нравственные качества. Девицы, в невинности чувств и понятий, следовали простодушно своим впечатлениям, и с первого знакомства стали обходиться со мной без всякой церемонии, как с родным братом. Очевидно, что моя молодость, откровенность и веселый нрав расположили их к такому обхождению.
На другой день я отправился с богатым транспортом в эскадрон, дав г-же Даргиц формальную расписку в полученном фураже и провианте, и для большей верности обещал доставить расписку ротмистра. Разумеется, что меня пригласили навешать дом, а я, со своей стороны, дал слово приехать при первой возможности.
Около шести недель простояли мы на кантонир-квартирах, в окрестностях Шипенбейля. В это время в главной армии не происходило никаких важных дел, и только отдельные отряды сталкивались с французскими партиями. Атаман Платов летал вокруг нашей армии, со своими казаками, тревожил повсюду неприятеля нечаянными нападениями, разбивал и забирал в плен французских фуражиров, отбивал транспорты и т. п.
Каждую неделю ездил я к госпоже Даргиц, только в сопровождении одного моего ординарца, и проводил в этом доме по два, иногда и по три, а однажды, сказавшись больным, прожил там целую неделю. Ротмистр позволял мне это. – Несколько раз спасал я господский дом и деревню от фуражиров и мародеров – и раз дело дошло даже до обнажения сабли. Я называл себя залогом… Наконец, я стал в доме, как родной. Г-жа Даргиц называла меня сыном, и старая гувернантка звала по имени (monsieur Thadee), точно так же, как и девицы, не прибавлявшие только monsieur. В свою очередь, я называл их просто Албертиной и Леопольдиной, а мать – maman.
Это знакомство послужило впоследствии основой к романтическому рассказу, под заглавием: "Первая любовь", напечатанному в первой части, моих Сочинений, несчастного издания книгопродавца Лисенкова. Разумеется, что этот рассказ прикрашен вымыслом и небывальщиной, как в большей части романов и повестей. В нем справедливо только то, что я здесь рассказываю, а именно, что я был влюблен в обеих сестер и никак не мог предпочесть одну другой, ни в сердце моем, ни в голове. Когда я был с одной, мне хотелось видеть другую – а обе вместе они составляли какое-то совершенство, которое восхищало меня и привязывало к ним всею душой. Многим покажется это странным, но так было на деле – и эти психологические случаи хотя редки, но не невозможны. Если б я женился на одной из сестер, я был бы несчастлив, потому что мне не доставало бы другой половины ангельского существа… Кажется, что и обе сестры расположены были ко мне одинаково, т. е. любили меня равно, братнею любовью.
После семейного счастья, нет выше блаженства, как дружба с умной, любезной и прекрасной женщиной. Это настоящий рай души! – Нет спора, что такая дружба не может быть без примеси любви, равно как и любовь не может существовать без дружбы, но все же дружба и любовь различествуют между собой. – Привязанность моя к дочерям госпожи Даргиц было не то судорожное, беспокойное чувство, которое пожирает сердце: но тихое, братское влечение… Быть может, если бы я долее пожил вместе с ними и приехал к ним из России, на несколько месяцев, как я обещал, – то я бы и женился на одной из них и, вероятно, на томной, романической, чувствительной Леопольдине. Но в то время я одинаково любил обеих сестер – и это счастливое, хотя и короткое время составляет одно из сладостнейших моих воспоминаний. Это были первые цветы в моей жизни!..
В полковой штаб-квартире его высочество устроил бивак, в котором стояли двадцать четыре французских дезертира, присланных к нему атаманом Платовым. Его высочество разделил этих французов на два капральства, дал им ружья, и приказал им исполнять службу, как во французском лагере, с той целью, чтобы узнать порядок французской службы[69]69
Эти французские солдаты отосланы были в Стрельну, и по возвращении его высочества из похода, стояли биваком в стрельнсиском саду. Многие из жителей Петербурга, особенно дамы, приезжали смотреть наполеоновских солдат, одетых и вооруженных по французской форме.
[Закрыть].
Кроме того, в штаб-квартире находилось несколько пленных французских кавалеристов, которые также должны были ездить верхом перед его высочеством и делать все эволюции. Этих пленных и дезертиров содержали как по четных гостей. Вообще русские обходились, в то время, весьма хорошо с французскими пленными, словно с какими-нибудь гувернерами, и нашим солдатам строжайше было запрещено обижать пленных. Только одни казаки поступали всегда по-своему. Наши офицеры давали пленным деньги и одежду, делились с ними съестным, и вообще не обнаруживали никакой неприязни. – Несколько раз я слышал от французских воинов, и тогда и после, похвалы русской вежливости и человеколюбию, и похвалы эти были заслуженные. Отечественный война разрушила это согласие…
Несколько раз собирался н проситься в главную квартиру, в Бартенштейн, чтобы вручить письма главнокомандующему, генералу Беннигсену, и дежурному генералу, Александру Борисовичу Фоку, старинному другу всего нашего семейства: но не мог расстаться с милыми моими сестрицами, как я называл двух дочерей госпожи Даргиц, с которыми проводил все время, свободное от дежурства или ученья. Наконец, пришлось нам расстаться. В половине мая мы выступили в поход.
Мать, дочери, гувернантка, даже слуги заплакали, когда я только вымолвил, что приехал прощаться. День провели мы печально, и в полночь я уехал в эскадрон, в экипаже г-жи Даргиц. В шапку мою наложили разных сувениров, в коляску набросали цветов. Все провожали меня за ворота. Я прижал к сердцу мать и милых ее дочерей – и не мог вымолвить слова от слез…









































