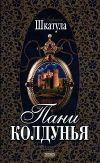Текст книги "Шопен"

Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Приготовления к отъезду, близость разлуки с семьей, неуверенность в будущем и смутное сознание, что ехать сейчас, значит навеки потерять Констанцию, – все это мучило Фридерика и лишало главного: сосредоточенности. Он не мог сочинять и чувствовал себя разбитым.
В конце августа Констанция уехала к родным в Ра-дому, а Шопен, изнывавший без нее в пустой и пыльной Варшаве, решил навестить Тита Войцеховского в его деревне. У Тита он застал довольно большое общество– варшавских и краковских студентов. Многие были ему незнакомы. Сначала это расхолодило Шопена: Тит не принадлежал ему больше. Но то, что занимало этих молодых людей, было интересно и Фри дерику, и вскоре он перестал их чуждаться.
Один из гостей Войцеховского, постарше других, понравился Шопену умным лицом и живыми, ясными глазами. Его звали Богдан Стецько, он был родом из Кракова.
– Вы собираетесь за границу? – спросил Богдан. – Плохое же выбрали время! Вся Европа как на вулкане, и нет страны, где не волновался бы народ. Не до концертов теперь. К тому же ни в Австрии, ни в Пруссии вы не найдете никакого сочувствия. Знаете ли вы, что немцы говорят о нас? «Бог сделал большую ошибку, создав на свет поляков!» Это пословица мирного времени. А уж теперь!..
– В прошлом году меня очень хорошо приняли в Вене, – сказал Шопен.
– В прошлом году поляки были смирнее, и Европа не волновалась.
– Верно, так не волновалась, – вставил Тит.
– Да и дадут ли вам еще паспорт? Вы – житель русской провинции, а что сейчас происходит в России, я знаю.
– Он недавно оттуда… – пояснил Тит.
– Значит, вы полагаете, что сейчас не время заниматься музыкой? – спросил Фридерик.
– У кого есть призвание к музыке, тот все равно будет заниматься ею… Но – концерты, музыкальные собрания… сомневаюсь, чтобы они были возможны. Впрочем, вам виднее.
После таких разговоров нечего было и думать, чтобы играть при гостях Тита. Но сам Тит непременно хотел, чтобы Фридерик сыграл им свой новый концерт. Шопен давно не играл при людях. Ощущение невысказанное знакомое всем художникам, острое, похожее на голод, томило его, и он согласился. Сыграл первую часть.
Богдан Стецько слушал очень внимательно.
– У вас много прелестных и тонких украшении, – сказал он. – Должно быть, школа Гуммеля. Но должен сказать, что у Гуммеля эти узоры не казались мне необходимыми. Один легко можно было заменить другим. А у вас эти пассажи не являются фоном. Они сами по себе – ваши мысли.
– Браво! – воскликнул Тит. – Ты попал в цель. Я всегда говорил, что надо уметь слушать музыку. А слушать музыку – это значит следить за каждым звуком, а не только за главными мелодиями!
Под окнами у Тита росла одинокая береза. Фридерик не подозревал тогда, что многие годы будет вспоминать ее как образ невозвратной поры. Он сделал несколько зарисовок березы в своем альбоме: она стояла то на свету, вся пронизанная солнцем, то в вечернем надвигающемся сумраке, когда листья чуть видны и только белеет ствол. Ночью Фридерик опал на застекленной террасе, перед которой стояла береза, а когда не спалось от дум, открывал окошко террасы и прислушивался к шелесту листьев. По утрам, просыпаясь, он первым делом взглядывал на березу, словно желая удостовериться, тут ли она.
В одну из ночей Фридерик долго не мог заснуть. Береза стояла, облитая лунным светом. Через полуотворенную дверь террасы, ведущую в дом, видно было, что в соседней комнате горит свет.
– Ты не спишь, Тит?
– Нет еще, – коротко отозвался Войцеховский.
– Который может быть час, как ты думаешь?
– Нечего думать: недавно пробило три. Что это ты слоняешься?
– А ты?
– Я пишу письма.
– Самое время!
Тит писал письма и рвал их. Это были не только деловые письма. Фридерик знал сердечную тайну Тита, которая была не менее глубока и мучительна, чем его собственная.
Фридерик оделся и вышел в сад. Прямо за оградой начиналась степь. Она простиралась далеко-далеко и манила неразрешимой загадкой. Грустный свет луны как бы сковывал просторы. Сама луна глядела сквозь дымку. Неподвижность ночи, тишина, свежесть охватили Шопена. Он остановился, вздохнул всей грудью. Но завораживающий час безмолвия и покоя, как видно, подходил к концу. Началась вторая половина ночи. Зашевелилась трава, поднялся ветерок, дышащий влагой. В отдалении резко и тревожно пропел петух.
Днем здесь работали девушки, убирая свеклу, и до вечера то в одном, то в другом конце поля раздавались мелодичные украинские песни. И теперь Фридерику слышались отголоски этих мелодий, плывущих издалека и замирающих в степи.
Если прав Богдан Стецько и музыка никому не нужна в эти предгрозовые дни, то почему же не смолкает песня в народе и так живуча любовь к ней? И почему сам Богдан с таким волнением слушал музыку, несмотря на свою озабоченность и скептицизм?
Отголоски «бураковых» песен долго не смолкали. Фридерик вспомнил, что в варшавских салонах тоже увлекались «бураковым искусством» – молодые люди из высшего общества лихо отплясывали казачка. Не он ли сам плясал его вместе с Титом? А паненки пели «Зозулю». Но как это было далеко от подлинной украинской музыки, от этих степных напевов, которые плыли в воздухе и сливались в одну тихую, заунывную песню!
Фридерик долго бродил по степи. Вернувшись, он зашел к Титу, который уже не писал писем, а сидел задумавшись.
– Я только запишу тему, которая пришла мне в голову, – возбужденно сказал Фридерик. – Это ноктюрн.
– Счастливец! А я просидел тут зря! Ну вот, садись на мое место. – И Тит подошел к окну.
Через несколько минут Фридерик спросил:
– О чем ты думаешь, Тит?
– Я? – Тит потер кулаком лоб. – Я думаю о том, что люди редко женятся на тех девушках, которых сильно любят. Женятся на других.
– Которых не любят?
– Нет, зачем же? Любят. Эти, вторые, им больше подходят. Но первое счастье не повторяется.
– Кто знает, в чем оно, это первое счастье! И когда оно возникает! Для меня это была музыка…
– Да, для тебя! Оба помолчали.
– Вот мы и не спим всю ночь. Отец сказал бы, что это от роста. Оказывается, мы еще растем!
– Ах, Тит, мне кажется, что все вокруг прощается со мной! Все я вижу в последний раз. И ты кажешься мне таким бледным, туманным, как будто таешь на глазах…
– Ну, начинается!
– Тяжело должно быть, умереть на чужбине!
– Стыдись! Ведь ты вернешь.
– А может быть, остаться, Тит?
– Ни в коем случае! – воскликнул Войцеховский почти с испугом.
– Можно подумать, что ты кровно заинтересован в моем отъезде!
– Нельзя весь век зависеть от родных, – сказал Тит уже спокойнее. – Здесь ты никогда не станешь на собственные ноги. Другое дело, когда вернешься от туда!
– А что такое возвращение? Бывает ли оно? Вернется ли эта ночь?
– Для тебя-то вернется! Ведь ты написал ноктюрн!
– …Странно, что вы такой мелодист – и не пишете песен, – сказал Шопену через несколько дней Богдан Стецько. Теперь он часто просил Фридерика играть.
– Он пишет песни, – сказал Тит.
– Да? Тем лучше. Но я хотел обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Первый… мотив вашего концерта, – он затруднялся, как сказать: мотив, тема или мелодия, – не только очаровал меня, но и поразил сходством с другим… мотивом. Конечно, я не сравниваю, у вас все шире…Но недаром же говорят, что есть идеи, которые носятся в воздухе!
– Да о чем ты говоришь? Мы ничего не понимаем!
– Я встречал в Москве одного русского музыканта, очень образованного и милого человека. Представьте, он был крепостным и только недавно получил волю. Один из его романсов…
И Богдан, попросил разрешения наиграть начало.
Фридерик подвинулся, чтобы дать ему место. Богдан закашлялся и запел тихим приятным голосом, аккомпанируя себе – тоже тихо и верно:
На заре туманной юности Всей душой любил я милую, Был в глазах ее небесный свет, На щеках горел любви огонь…
– А дальше? – спросил Тит. Богдан спел романс до конца, а потом отдельно наиграл первую тему концерта.
Оба приятеля согласились, что сходство есть.
– Вот видите, мы часто и не знаем наших друзей! Этот Александр Гурилев живет так далеко и понятия не имеет о пане Фридерике. И вы его не знаете. А мелодия этой «Разлуки» напоминает вашу! Что же это такое, как не родство душ, разделенных пространством? Слушая ваш меланхолический, но полный свежести концерт, я думал: у юности есть свой язык, который можно узнать на всех материках мира! А тем более в странах родственных! Не сетуйте, пан Фридерик, если я в какой-то степени задел вашу, душевную тайну. Но мне сдается, что и вы пели нам разлуку! Я разумею – в широком смысле: разлуку с друзьями, с родиной, с самой юностью, наконец!
Но Тит Войцеховский не желал длить эти прощальные настроения. Он помнил ночной разговор с Фридериком.
– Прощанье с юностью! – воскликнул он. – Помилуй, давно ли она началась?
– Все бывает, – ответил Богдан, нахмурясь. – Иногда человек переходит через такой рубеж, что становится зрелым и даже старым в какие-нибудь сутки!
Не раз приходилось Шопену вспоминать эти слова.
Глава двенадцатаяДля Фридерика новый год начинался не первого января, а, как для многих, первого сентября. Начало учебного года. Начало концертного сезона. Стены пестрят свежими афишами. В полях собран урожай, и отдохнувшие за лето учащиеся снова принимаются за дело.
В сентябре Фридерик обычно подводил итоги года. Друзья, которых он не видал в течение лета, казались ему выросшими, возмужавшими. За летние месяцы люди менялись заметнее, чем после зимы.
Но в том году, восемьсот тридцатом, все было иначе. Приехав из Потуржина, Шопен застал Варшаву не готовой к приему своих обитателей. Она была в беспорядке, в тревоге. На улицах толпилось слишком много народу, и эта многолюдность носила зловещий характер. Горожане собирались группами прямо на площадях и что-то горячо обсуждали. Кофейни, рестораны, особенно студенческая «Дзюрка», были переполнены, и жандармы часто совали туда нос. Начавшиеся было публичные лекции Бродзиньского внезапно прекратились. У ворот университета всегда стояла толпа.
Все это было продолжением того беспокойства, которое ощущалось весной, во время бурных заседаний сейма. Но внешне жизнь шла своим порядком. Были объявлены спектакли, балы, свадьбы. Перед отъездом Шопен обсуждал с Эльснером программу будущих концертов, репетировал с оркестром. Но все время чувствовал, словно разматывается какой-то клубок, длинная нить подходит к концу. Скоро все размотается и начнется новая, грозная жизнь, когда никто не захочет ходить в театр и слушать музыку. Наступят серьезные события, и от них будет зависеть дальнейшая судьба страны.
И он не раз говорил себе: «Что же делать музыкантам, поэтам, актерам – тем, кто облегчает и украшает жизнь, – когда самой жизни угрожает опасность? Многие скажут: «Уходите с дороги, вы мешаете!» И, может быть, они будут правы! И как напрасны эти усилия: все дни проводить в мастерской, у мольберта, или за роялем, забывать обо всем на свете, думать, что это цель жизни, – и вдруг очутиться банкротом со всем своим обесцененным богатством на руках!»
Все эти дни перед отъездом Шопен болезненно запоминал каждую мелочь, каждую подробность, связывающую его с домом и родными: блестящие глаза Изабеллы, удивительно и внезапно похорошевшей в последнее время; склоненную над шитьем седеющую голову матери; особенную манеру отца высоко поднимать левую бровь в минуты раздумья или недовольства собой; озабоченный вид старшей сестры. Людвика все Лето усердно работала – переводила на польский «Парадокс об актере». Но Шопен догадывался, что к этой работе Людвика прибегла, чтобы скрыть внутреннее смятение. Всех было жаль до боли, и воспоминания об этих последних днях потом, на чужбине, долго мучили Фридерика, усиливая чувство непоправимой утраты…
Расставание началось задолго до его отъезда. Он с болью отрывался от родины и семьи. И с каждым днем они становились все дороже. И те, кого он уже не любил по-прежнему, – и их было грустно покидать! Доминик Дзевановский… Шопен разошелся с ним в последнее время из-за сестер Доминика, высокомерных и неприятно светских: их разговоры о балах, туалетах, о чистоте шляхетской «расы» были несносны. Сам Домек подпал под их влияние, лихо закручивал ус над губой, охотно пускался толковать о скачках и достоинствах породистых лошадей. Но даже этот, изменившийся Домек, встреченный Шопеном на улице, показался ему приятным. И Домека стало почему-то жаль.
Все было дорого: Краковское предместье, ботанический сад, сквер перед театром, где Фрицек с сестрами качался на качелях в детстве и где росли два одинаковых ясеня – «Яси-близнецы», как называла их Эмилька…
И споры, отвлеченные споры о жизни, какими важными казались они сейчас, приобретая особый смысл! Фридерик запомнил один такой спор, возникший у них в доме. Это было как раз после того, как Фридерик сыграл для гостей первые две части концерта.
– Что было бы с нами, бедными людьми, если бы в мире не существовало искусства! – воскликнул профессор Бродзиньский. – Мы не могли бы жить!
И тут пан Миколай высказал мнение, которого никто не ожидал:
– Когда-нибудь, я думаю, наука вполне заменит искусство. Она может доставить человеку не меньше, а, пожалуй, больше радости!
Он этого не думал. Но в кружке Шопенов слишком любили искусство, и ему, как отцу выдающегося музыканта, следовало из чувства справедливости уравновесить объективным суждением эту чрезмерную, одностороннюю страсть.
Пан Бродзиньский сверкнул глазами из-под очков.
– Никогда этого не будет! Никогда! Как ни увлекательна наука и ее грядущее, она доставляет радость лишь тем, кто ею занимается непосредственно. Другие же, непосвященные, только пользуются ее плодами. Что же касается искусства, то оно дает неоценимое блаженство всем людям на свете!
– О, далеко не всем! – возразил Каласанти Енджеевич. – Сколько людей живут вокруг вас, не имея понятия об искусстве!
– Так приобщите! Сделайте так, чтоб узнали! И тогда увидите, как скоро вас поймут! А наука – нет! Наука не так доступна!
Спор продолжался. И удивительно было то, что как раз люди искусства утверждали, что наука в будущем победит и музыку и поэзию.
– Я часто слышу, что искусство – это предрассудок, – сказал Эльснер, – детское, простодушное суеверие. Оно мило нашему сердцу, мы привыкли к нему, да мало ли к чему мы привыкли! Язычники долго не расставались со своими богами! Может быть, искусство всесильно до тех пор, пока не познаны тайны природы? Но по мере познания их многие наши пристрастия должны отмереть. Пан Яроцкий часто говорил мне: что может открыть младенческий лепет человеку, вооруженному точным, безошибочным знанием? Я склонен признать правоту его слов! Вы думаете, мне не горько? Весьма! Но что ж делать?
– Конечно, если признавать, что искусство приносит только пользу, то с наукой оно никогда не сравнится! – сказал Бродзиньский. – Так называемое «полезное» искусство совершенно бессильно: это шаманство, колдовство, знахарство!
– Что ж, по-вашему, искусство совершенно бесполезно?
– Да, если стать на вашу точку зрения, то музыка, например, – самое бесполезное занятие!
– Польза разная бывает…
– Нет! – вскричал Бродзиньский. – Если уж сравнивать нас с язычниками, то мы и уйдем с нашими идолами в пещеры, в глубокие гроты и будем ждать, когда раздастся клич Великого Пана! И он раздастся! Ибо искусство никогда не умрет, как бы иные этого ни хотели!
Тут в разговор вмешался новый гость, поклонник Людвики, которого она пригласила в дом родителей впервые. Это был молодой адвокат, известный в городе своими смелыми выступлениями на суде. Сам пан Жирмунский к тайному обществу не принадлежал, но, как говорили, состоял под негласным надзором полиции… Он был самоуверен, умен и имел большой успех у женщин.
– Полагаю, – сказал он, – что искусство не может вполне исчезнуть. Изменятся лишь его функции. Может быть, оно станет развлечением для людей, утомленных наукой или государственной деятельностью, и будет играть, так сказать, лишь второстепенную роль?
– Оказывается, и старость имеет свои преимущества! – неожиданно заговорил Живный своим скрипучим голосом. – Вот я, например, счастливец: не доживу до тех времен!
Все засмеялись, кроме Жирмунского.
– Нам очень трудно судить о будущем, даже близком, – сказал он, нахмурясь. – То, что теперь кажется нам значительным, будущие поколения, возможно, целиком отвергнут. Или пройдут мимо.
– Отчего же мы до сих пор любим музыку Моцарта? – спросил пан Миколай. – И даже далекого Баха? И она волнует нас?
– Она волнует немногих, – ответил Жирмунский. – Есть люди, которые уже совершенно равнодушны к Баху и к Моцарту…
– Уже или еще? – вызывающе бросил Фридерик.
– Не совсем понимаю…
– Уже равнодушны или еще не научились понимать их? Или вы полагаете, что люди, равнодушные к Моцарту, вполне достойны будущего?
– А я не понимаю другого! – откликнулся молчавший до сих пор Ясь Матушиньский. – Отчего это люди так боятся изобилия, богатства, счастья? Никак не могут допустить существования двух прекрасных явлений одновременно! А между тем наука и искусство взаимно питают друг друга, мы это видим на каждом шагу!
Бродзиньский был совершенно утешен.
– Твою руку, милый Ясь! Твое мнение тем более ценно, что ты врач, именно представитель науки. Верно! Абсолютно верно! Наука, развиваясь, влияет и на искусство!
Фридерик почти не смотрел на Людвику, но он знал ее мысли, он читал их. «За что они ненавидят его? – думала она об Альберте Жирмунском. – Правда, он очень неловко высказался сегодня, я его не узнаю! Но Фрицек сердится, и это нехорошо с его стороны! И потом – Каласанти… он не избегает меня, он такой же дружелюбный и спокойный, как всегда. Но ведь он не может быть спокоен!»
Благородная выдержка Каласанти, его преданная любовь к ней – все это мучило Людвику и мешало ей сделать окончательный выбор, хотя еще сегодня ей казалось, что все уже решено. Ее щеки горели, она нервически перебирала складки платья. Фридерик встретил ее беспомощный взгляд…
А об искусстве в тот вечер больше не спорили, ибо все страшились перспективы, нарисованной Эльснером, – поглощения искусства наукой. И более всех страшился этого пан Миколай, положивший начало спору.
Глава тринадцатаяВсе время до отъезда Шопен был в смятении. Самые разнородные чувства тревожили его. Варшава казалась ему провинциальной, убогой, но он не мог себе представить свою жизнь в другом городе. Его тянуло в студенческую кофейню именно потому, что там уже не говорили об искусстве, там решались другие вопросы, более важные. И Шопен был горд, что в нем видят не музыканта, а, может быть, участника будущих восстаний. Но когда поздно ночью он возвращался домой, открывал свое фортепиано и начинал играть – потому что его непреодолимо влекло к этому, – он сознавал, что музыка для него важнее всего на свете.
Он вспоминал прошедший год, как хорош он был, как насыщен поэзией! Трудный год, полный сомнений, несбывшихся надежд, неоправданных восторгов – и такой плодотворный, полный значительных мыслей, полный музыки!
Но сомнение не оставляло Фридерика по мере приближения решительных сроков. Он любил Констанцию и желал разлюбить ее. И чувствовал, что это невозможно. Он закончил ми-минорный концерт, был им доволен – и сомневался в нем. Дымка грусти, романтический порыв, любовное томление, радость жизни – нужно ли это теперь? Он перечувствовал все это… И Богдану Стецько понравилось… И вот теперь будет судить Варшава… Но, может быть, никто не придет? Может быть, публике теперь совсем не до музыкальных новинок? А если придут, то удивятся: какой смысл сочинять и играть, если завтра, может быть, заговорят пушки? Он готовился к отъезду, знал, что уехать необходимо, и втайне надеялся, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство задержит его в Варшаве.
А главное – как он ни уверял себя, что уезжает только на полгода, что это только гастрольное путешествие, как было в прошлом году, только более длительное, тайный голос говорил ему, что это совсем-совсем другое!
А время шло. Как назло, ни с родными, ни с Констанцией он не мог говорить о том, что его тревожило. Какая-то злая сила мешала ему и заставляла его и других притворяться, что ничего особенного не происходит. А многое надо было сделать! Посоветоваться с отцом, как быть в том случае, если европейские события надолго задержат его вдали, поблагодарить Живного за всю его доброту, за то, что направил его первые шага и до сих пор любит. Может быть, они не увидятся больше? Но нельзя же волновать старика! Надо было сказать Людвике, что она по молодости лет не понимает собственного сердца, что она не может любить того, кто ей сейчас нравится, что она ослеплена. Она поймет со временем, кто ей нужен, но лучше поняла бы сейчас!
И если уж вмешаться в жизнь сестер – ведь никогда не было такой разлуки! – то еще необходимо поговорить с Изабеллой. Антек Барциньский не так терпелив, как Енджеевич, и не любит капризов. Антек задержался за границей, и вот Белла уже перестала отвечать на его письма! А ведь она любит его! Ой, сестра, смотри!
Если бы можно было все время сидеть у ног матери, пока она работает у себя в комнате, готовя его к отъезду! Но это значило бы выдать свою тревогу и мрачные предчувствия. А все делали вид, что никаких тревог нет и все будет хорошо. Сколько слов не было сказано! Сколько драгоценных минут упущено! А время все увлекало его вперед, осуждая на неизвестную судьбу!
Наступил день последнего концерта Шопена в Варшаве. Гладковская и Волкова выступали вместе с ним; он уговорил Эльснера назвать этот вечер «концертом молодых». Эльонер сначала заупрямился: – Ведь это твой концерт! Ты прощаешься с Варшавой, а не эти паненки! Не лучше ли пригласить кого-нибудь из больших?
Но Фридерик настоял на своем. Он не мог упустить последнюю возможность еще раз увидеться с Констанцией. Было похоже на то, что они уже простились… Но он хотел проститься как следует, а это значило – в последний раз выступить вместе. Музыка когда-то сблизила их – пусть благословит на разлуку!
Он играл свой ми-минорный концерт в переполненном зале, и ни один человек не думал, что эта музыка неуместна теперь. Напротив, накануне близких грозных испытаний каждый упивался этой мечтательной и нежной музыкой как напоминанием о собственных, самых счастливых годах жизни. Вдвойне дорого то, над чем нависла угроза! Не только для Фридерика, для всех варшавян, внимающих ему, это был час расставания, прощания. Скоро наступят суровые дни, может быть горести, беды! А музыка была символом счастья, мира, надежд! И, предчувствуя близкий конец этому, люди слушали музыку, ловя каждый звук. Кто знает, не в последний ли раз? И – боялись, что очарование будет коротко и концерт скоро кончится, как кончается все на свете…
Сознавая эту власть над душами, Фридерик был счастлив. Слезы застилали ему глаза. Но в час разлуки он оглядывался на прошедшее и брал самое прекрасное с собой в дорогу…
Он играл и прощался с Варшавой, с Желязовой Волей, с родными и друзьями, с девушками, которые были добры к нему, с могилой сестры… Помните ли вы, пан Живный, наш первый урок и мои детские опыты? А вы, мальчики, – наши забавные игры, звон бубенчиков и карусель на ярмарке в Плоцке? Вы, панна Мориоль, ты, Олеся, – я действительно называл тебя так, один раз вслух и много раз мысленно, – вы были правы, что никогда не вернется к нам наша беспечность, и не потому, что мы выросли, а потому, что скоро начнется для нас жизнь, полная испытаний. Но я так благодарен вам за дружбу, за милые отроческие дни!
А ты, товарищ тех дней, Домек Дзевановский, – хорошо, что ты все-таки пришел! – помнишь ли ты запах свежего сена в Шафарне и тот вечер, когда нам открыл истину «Казимеж, Хлопский круль»?
И если жива ты, Ганка Думашева, дочь каретника, прими еще раз привет брата – ведь ты хотела быть моей сестрой – и глубокую благодарность за тот напев, который я развиваю здесь, в середине этой части: ведь я не раз слышал его от тебя!
А вы, Констанция…
Он не видел, что она стоит у самого входа на сцену. Она не могла усидеть в артистической и вышла. И всю вторую часть концерта прослушала, стоя в дверях. Это было то самое адажио, о котором говорил ей Фридерик на свидании в ботаническом саду: «Тысячи прекрасных воспоминаний, всплывающих в лунную ночь»… И засурдиненные скрипки придавали этому ноктюрну нежную, серебристую звучность… Да, он был, этот вечер, и темное небо, и крупные, сочувственно мерцающие звезды на нем.
Констанция вышла на сцену уже перед финалом фортепианного концерта, чтобы спеть свою арию. Она была вся в белом, с белыми розами в волосах. И, глядя на нее, Тит Войцеховский внезапно и обрадованно вспомнил:
Был в глазах ее небесный свет, На щеках горел любви огонь…
Когда ее и Фридерика вызывали уже в конце, они вышли вместе, держась за руки. И пока они стояли рядом, кланяясь в ответ на приветствия, но не размыкая рук, он на мгновение поверил, что наступил перелом: с этой минуты они неразлучны. А сидящие в зале – так казалось ему – своими рукоплесканиями поздравляли их как счастливых влюбленных. Но он скоро опомнился. Что бы ни думали там, в толпе, как бы ни умилялись, любуясь их молодостью и принимая их за счастливую пару, для них двоих это было не так. Могли подумать, что это их помолвка, необычная, необъявленная, тайная, но верная – но как это обманчиво! Помолвка была тогда, в ботаническом саду, теперь же – горькая разлука.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








![Книга Версия про запас [Дело с двойным дном] автора Иоанна Хмелевская](/books_files/covers/thumbs_100/versiya-pro-zapas-delo-s-dvoynym-dnom-9406.jpg)