Текст книги "Сандро из Чегема"
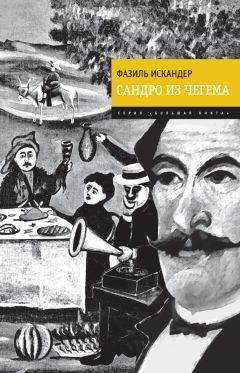
Автор книги: Фазиль Искандер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 92 страниц) [доступный отрывок для чтения: 30 страниц]
Да, все это получилось как-то странно и неожиданно. Чтобы так влюбился он, двадцатишестилетний парень, на которого девушки поглядывали уже давно, при этом они свои быстрые взгляды старались сделать маленькой частью долгого взгляда, и он это чувствовал и знал еще до того, как приобрел кировские часы, а уж после того, как он купил часы, у него стали спрашивать время и те девушки, которым, в сущности, время было так же безразлично, как, скажем, возраст земли. А те девушки, которые раньше поглядывали на него, выдавая свои быстрые взгляды за маленькую часть долгого взгляда, теперь осмеливались бросать на него долгие взгляды, правда, выдавая их за короткие взгляды, продленные по рассеянности.
И вдруг он стал по ночам вспоминать об этой девочке? Правда, улыбка, как солнечная щелочка в облачном небе. Но до чего же худая, господи!
И все-таки он не злился на себя в засушливые часы бессонницы, ему было приятно вспоминать ее голос, такой звонкий, вызвавший его улыбку еще до того, как он ее увидел, и потом вдруг такой низкий, грудной, когда она разозлилась и сказала:
– Иди куда идешь!
Вспоминать то упрямое и быстрое движение, с которым она спрятала руки за спину, вспоминать, как она влетела в кухню с кукурузным початком и внезапно замерла на пороге, когда он там торговался с ее дедом! И, как это ни странно, все, что он о ней вспоминал, казалось ему или забавным или смешным, но никак не достойным восхищения. Тем не менее это забавное и смешное томило и не давало спать.
Однажды, придя на мельницу, он увидел мула ее деда, привязанного там. Он почувствовал такой испуг, что хотел тут же повернуть назад, но потом, устыдившись своей робости, решил войти в мельницу. Мул, обернувшись на его шаги, посмотрел на него так, словно что-то знал о его тайне.
На мельнице, кроме мельника Гераго, сушившего над огнем костра табачные листья, никого не оказалось.
– Чей это мул? – мотнул он головой наружу, чтобы узнать, кто из них пришел с кукурузой.
– Хабуг оставил, – сказал Гераго, кивнув на дощатые нары возле мельничного жернова, где стояли, дожидаясь своей очереди, мешки с кукурузой. Хабуг всегда приход на мельницу связывал с какими-нибудь делами, которые ему предстояло сделать в селе Напскал, ближайшем от мельницы.
Баграт посмотрел на нары и сразу же с какой-то звериной безошибочностью узнал мешки Хабуга из козьей шкуры, хотя там были и другие такие же мешки. Эти ему почему-то напомнили ее (пушистостью, что ли? – мелькнуло у него в голове), и, словно проверяя свою догадку, он кивнул на них:
– Эти?
– Да, – кивнул Гераго, медленно поворачивая у самого огня ладонь с распластанным на ней табачным листом. Не сказав больше ни слова, Баграт вышел с мельницы.
С расчетливой хитростью безумца он стал, проходя по верхне-чегемской дороге, следить за Большим Домом. Увидев ее, он как бы разочаровывался ее внешностью и на некоторое время успокаивался. Внешность ее уступала тому образу, который создавало любовное воображение, и он каждый раз был рад уличить свою страсть в смехотворных преувеличениях, и она, страсть, как бы устыдившись явности недостатков ее внешности, на несколько часов замолкала, а потом все начиналось сначала. Он сам удивлялся той жадности, с которой он искал и находил в ней недостатки. Одно время она ходила с прямо-таки рябыми ногами: так бывает, если слишком близко и слишком часто с голыми ногами стоять у огня. Поиски недостатков немного успокаивали самолюбие, они как бы убеждали его, что он не сидел сложа руки, пока страсть не охватила его, а деятельно сопротивлялся ей. Он даже не подозревал, что это не он говорит своей страсти: «Пойдем посмотрим на нее, увидишь, чего она стоит…» – а сама страсть внушала ему идти и искать в ней недостатки, чтобы, воспользовавшись этим его безопасным занятием, ей, страсти, глазеть на нее, испуганно любоваться, радоваться, что она жива!
Однажды он вошел в табачный сарай, где работали женщины их бригады. Он пришел туда со смутной надеждой встретить ее здесь.
В самом деле, она сидела рядом с матерью и тоже низала табак. Увидев его, она с молниеносной быстротой опустила глаза и, пока он там стоял, так и не подняла их ни разу. Про себя он смутился и не знал, как быть, но тут тетя Маша попросила его помочь вкатить в сарай табачные рамы, потому что начиналась гроза. Это дало ему возможность овладеть собой и достойно уйти.
Но он был сильно смущен. Ему казалось, что она догадывается о его чувстве, злится на него! Как быстро она опустила глаза! Не знал он, что только восходящая звездочка еще неосознанной любви способна на эту молниеносную быстроту, ласточкину чуткость!
* * *
Иногда, когда старый Хабуг брал своего пастуха на какие-нибудь хозяйственные работы, она пасла дедушкиных коз. Над домом Хабуга возвышался холм, покрытый густой травой, зарослями лещины, кизила, ежевики. Там-то она и пасла дедушкиных коз. Чуть повыше начинались сплошные папоротниковые пампы, где он прятался и откуда следил за ней.
Она беспрерывно что-нибудь пела или перекрикивалась со своими сестрами, дочерьми тети Маши, или играла с козами – то с одной, то с другой, за какие-то малопонятные заслуги надевая им на шею цветочный венок и за еще более непонятные провинности отнимая его, если они сами не успевали сбросить его, что они пытались сделать, как только она их отпускала.
Иногда она приставала к огромному вожаку с пожелтевшей от времени длинной бородой, с огромными рогами, вершины которых сходились, как бы образуя триумфальную арку, вход в глупость. И этот старый дурак с важным спокойствием дожидался, пока она заплетет его почтенную бороду в малопочтенную косичку, а она еще покрикивала на него, чтобы он перестал жевать жвачку, пока она занята его бородой.
Однажды (видно, ей захотелось пить, а спускаться к роднику было лень) она поймала козу, улеглась возле нее и стала бесстыдно, прямо из вымени выцеживать себе в открытый рот струйки молока.
Баграта почему-то особенно поразила коза, которая во время этой непристойной, как ему показалось, дойки замерла с головой, повернутой в ее сторону, с выражением тайного юмора на морде или, во всяком случае, благосклонного недоумения.
Он почувствовал, что ему здесь нечего делать, и тихо покинул свою засаду, так и не дождавшись, пока она напьется. В ту ночь он почувствовал такой приступ яростной тоски, возможно, его доконала эта сцена с козой, что он решил во что бы то ни стало дождаться случая и встретиться с ней один на один. Через неделю он узнал, что дед ее и Харлампо ушли на несколько дней в котловину Сабида расщеплять дрань, и понял, что она опять будет с козами. Он решил выманить ее в папоротники, а там предоставить все воле случая.
В тот день он чуть свет встал с постели, достал у себя в кладовке несколько кусков лизунца, низкосортной соли, которую держат для скота, тщательно растолок ее и, насыпав ее в карманы, пустился в путь. Еще до восхода солнца он был на холме возле дома Хабуга и, выбрав место, где козы паслись чаще всего, стал, рассыпая соль, двигаться в сторону папоротниковых зарослей и углубился в них настолько, насколько хватило соли. Таким образом посолив зеленый салат для коз Хабуга, он притаился в папоротниках и стал ждать.
Его безумная хитрость, учитывая, что он полагался на коз, то есть на существа достаточно безумные, полностью оправдалась. Часов в десять утра часть коз напала на следы его соли и упрямо двинулась в папоротники, несмотря на окрики Тали.
Он навсегда запомнил тот миг, когда она полезла в папоротники и он понял, что теперь она никуда не уйдет, и вдруг сердце в груди его забилось медленными толчками и каждый опалял тело тревожным, сладко сгущающимся пламенем…
Как только она вошла в папоротник, он перестал ее видеть, но зато слышал ее теперь с удвоенной чуткостью. Он слышал хруст и шорох ее босых ног по высохшим прошлогодним стеблям папоротников и мягкий шелест живых, раздвигаемых руками папоротниковых веток. Звуки эти, все сильнее и сильнее волновавшие его, то замолкали, то уходили в сторону и все-таки неизменно поворачивали к нему, словно подчиняясь невидимой силе притяжения его страсти.
Вокруг него то здесь, то там раздавался хруст, иногда фырканье, иногда блеяние и всплеск колоколец бредущих в папоротниках коз, но сквозь все эти звуки он четко различал ее шаги и изредка слышал ее голос, поругивавший коз: «Чтоб вас волки!..» – и снова шорох шагов и шелест раздвигаемых веток. Когда она останавливалась, чтобы сообразить, как идти дальше, он вдруг слышал высоко в небе пенье жаворонков, наводившее на него какую-то странную, неуместную грусть.
Вдруг шаги ее замолкли, и тишина на этот раз длилась гораздо дольше, чем это надо для того, чтобы оглядеться и посмотреть, как двигаться дальше, чтобы опередить коз и повернуть их назад. Он никак не мог понять, что случилось, и сам пошел навстречу, почему-то стараясь ступать как можно тише.
Он прошел шагов пятнадцать, и там, где примерно ожидал, раздвинув высокие стебли папоротника, увидел ее.
Она сидела на траве и, изо всех сил изогнувшись и придерживая обеими руками ступню правой ноги, оскалившись и даже слегка урча, грызла большой палец ноги. Маленькая ведьма, мелькнуло у него в голове, прежде чем он, сообразил, что это она старается извлечь занозу из ноги.
Вдруг она подняла голову и исподлобья посмотрела на него. Ничуть не испугавшись его и даже не удивившись (до того она была раздражена этой занозой), она медленно опустила ногу, что-то сплюнула и сняла с кончика языка щепотку и, снова подняв голову, просто сказала:
– Это ты? А я думала, коза…
– Я, – сказал он с глухой усмешкой и стал к ней подходить.
Она быстро встала. Он остановился.
– А что ты здесь искал? – спросила она, одновременно озираясь на невидимых коз и прислушиваясь, с интуитивной проницательностью помогая ему найти какое-то простое объяснение тому, что он оказался здесь.
– Тебя, – сказал он и, сделав еще один шаг, остановился. Теперь она была в трех шагах от него и, если б у него хватило смелости, он мог бы схватить ее прежде, чем она успела бы крикнуть или отпрыгнуть от него.
– Ну да, – протянула она, и глаза ее полыхнули такой непосредственной радостью, что он почувствовал легкость, ясность, как бы полное понимание, что иначе и не могло быть.
– Да, – сказал он, чувствуя, что владеет собой. – Хочу жениться на тебе.
– Сейчас?! – спросила она, и ему показалось, что глаза ее в какую-то долю мгновенья оглядели местность в поисках гнездовья, и вдруг добавила: – А как же козы?!
Он рассмеялся, потому что это в самом деле прозвучало смешно и непонятно: то ли она имеет в виду, что нам сейчас на виду у коз жениться будет стыдно, то ли означало: «Как же я брошу коз, если мы сейчас женимся?»
Увидев, что он смеется, и поняв из этого, что ничего неприятного ему, во всяком случае, она не сказала, она тоже сначала улыбнулась, словно осторожно расправила крылья, а потом рассмеялась.
Смех ее звучал с такой детской непосредственностью, что вдруг ему подумалось, а знает ли она вообще, что такое выйти замуж, и не думает ли она, что муж – это человек, который всю жизнь торчит возле нее, чтобы сбивать для нее грецкие орехи?!
А она стояла перед ним, глядя на него своими золотистыми глазами, иногда скашивая их в сторону шорохов в папоротнике, и углы губ ее слегка вздрагивали, и лицо, как всегда, дышало, и пульсировал стебелек шеи, а правая ступня осторожно ерзала по земле, и он понял, что это она потирает о землю большой палец ноги, проверяет, остался кончик занозы или нет.
Солнце уже довольно сильно припекало, и от папоротниковых зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворения земли, дух неуверенности и легкого раскаяния.
* * *
В этот еще свежий зной, в этот тихий однообразный шелест папоротников словно так и видишь Творца, который, сотворив эту Землю с ее упрощенной растительностью и таким же упрощенным и потому, в конце концов, ошибочным, представлением о конечной судьбе ее будущих обитателей, так и видишь Творца, который пробирается по таким же папоротникам вон к тому зеленому холму, с которого он, надо полагать, надеется спланировать в мировое пространство.
Но есть что-то странное в походке Творца, да и к холму этому он почему-то не прямо срезает, а как-то по касательной двигается: то ли к холму, то ли мимо проходит…
А-а, доходит до нас, это он пытается обмануть назревающую за его спиной догадку о его бегстве, боится, что вот-вот за его спиной прорвется вопль оставленного мира, недоработанного замысла:
– Как?! И это все?!
– Да нет, я еще пока не ухожу, – как бы говорит на этот случай его походка, – я еще внесу немало усовершенствований…
И вот он идет, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, и крылья его вяло волочатся за его спиной. Кстати, рассеянная улыбка неудачника призвана именно рассеять у окружающих впечатление о его неудачах. Она, эта улыбка, говорит: «А стоит ли так пристально присматриваться к моим неудачам? Давайте рассеем их на протяжении всей моей жизни, если хотите, даже внесем их на карту моей жизни в виде цепочки островов с общепринятыми масштабами: на 1000 подлецов один человек».
И вот на эту рассеянную улыбку неудачника, как бы говорящую: «А стоит ли?» – мы, то есть сослуживцы, друзья, соседи, прямо ему отвечаем: «Да, стоит». Не такие мы дураки, чтобы дать неудачнику при помощи рассеянной улыбки смазать свою неудачу, свести ее на нет, растворить ее, как говорится, в море коллегиальности. Потому что неудача близкого или далекого (лучше все-таки близкого) – это неисчерпаемый источник нашего оптимизма, и мы, как говорится, никогда не отрицали материальную заинтересованность в неудачниках.
Даже в самом крайнем случае, если ты – полнейший рохля, слюнтяй, разиня и никак не можешь использовать неудачу близкого, и то ты можешь подойти к нему и, покачав головой, сказать:
– А я тебе что говорил?
…Но все это детали далекого будущего, а пока Творец наш идет себе, улыбаясь рассеянной улыбкой неудачника, крылья его вяло волочатся за спиной, словно поглаживая кучерявые вершины папоротниковых кустов, которые, сбросив с себя эти вяло проволочившиеся крылья, каждый раз сердито распрямляются. Кстати, вот так вот в будущем, через каких-нибудь миллионы лет, детская головенка будет сбрасывать руку родителя, собирающегося в кабак и по этому поводу рефлексирующего и с чувством тайной вины треплющего по голове своего малыша, одновременно выбирая удобный миг, чтобы улизнуть из дому, и она, эта детская головенка, понимая, что тут уже ничего не поможет, отец все равно уйдет, сердито стряхивает его руку: «Ну и иди!»
Но все это опять же детали далекого будущего, и Творец наш, естественно, не подозревая обо всем этом, движется к своему холму все той же уклончивой походкой. Но теперь в его замедленной уклончивости мы замечаем не только желание скрыть свое дезертирство (первое в мире), но отчасти в его походке сквозит и трогательная человеческая надежда: а вдруг еще что-нибудь успеет, придумает, покамест добредет до своего холма.
Но ничего не придумывается, да и не может придуматься, потому что дело сделано, Земля заверчена, и каждый миг ее существования бесконечно осложнил бы его расчеты, потому что каждый миг порождает новое соотношение вещей, и каждая конечная картина никогда не будет конечной картиной, потому что даже мгновенья, которое уйдет на ее осознание, будет достаточно, чтобы последние сведения стали предпоследними… Ведь не скажешь жизни, истории и еще чему-то там, что мчится, омывая нас и смывая с нас все: надежды, мысли, а потом и самую плоть до самого скелета, – ведь не скажешь всему этому: «Стой! Куда прешь?! Земля закрыта на переучет идей!»
Вот почему он уходит к своему холму такой неуверенной, такой интеллигентной походкой, и на всей его фигуре печать самых худших предчувствий (будущих, конечно), стыдливо сбалансированная еще более будущей русской надеждой: «Авось как-нибудь обойдется…»
* * *
Солнце и в самом деле довольно сильно припекало, и от папоротниковых зарослей поднимался тот особый запах разогретого папоротника, грустный дух сотворения земли.
Крепкие стебли папоротников, красноватые у подножия, поднимались над землей, устланной остатками прошлогоднего поколения папоротников, сквозь которые просачивалась изумрудная зелень травы и совсем юные, толстые, розовые безлиственные стебельки папоротников с туго закрученными вершинами.
Один из них, нечаянно сломанный ее ногой, торчал возле нее и из его мясистого стебля сочилась густая жидкость, не то кровь, не то сок, словно из тех далеких времен, когда еще не определилась разница меду кровью теплокровных и соком растений, между жаждой души и жаждой тела.
Он снова почувствовал сковывавшую сознание страсть и сделал шаг, а она не только не отодвинулась, не испугалась, а сама протянула руку и вдруг погладила, вернее, тронула его глаз шершавой ладонью. В ее прикосновении было больше трезвого любопытства ребенка, чем робкой нежности девушки. Он обнял одной рукой ее твердую ребячью спину, горячую от солнца.
– И чего ты во мне нашел, я худая, – не то предупредила она, не то сама удивилась силе очарования, которая была заложена в ней и которая пробивалась, несмотря на худобу и юность.
«Если б я знал», – подумал он, и потянул ее к себе, и сразу почувствовал дымно-молочный запах ее тела, ее руки, легшие ему на плечи и обжигающие их сквозь рубашку, ее близкое лицо, дышащее свежим зноем, и нестерпимое любопытство ее глаз. И уже готовый на все, он все еще не решался ее поцеловать, словно свет сознания еще слишком озарял детскость и чистоту ее лица, тогда как тело его все теснее и теснее прижималось к ней, словно поток страсти прикрыл их до горла, и уже было не стыдно за то, что делается внутри этого потока, как бы мчащегося мимо сознания.
– Тесс! – вдруг просвистела она, и руки ее быстро сползли с его плеч и кулаками уперлись ему в грудь.
– Что? – спросил он, ничего не понимая и глядя на ее внезапно удалившееся лицо.
– Кто-то идет, – шепнула она и кивнула через плечо.
Он оглянулся. Сквозь ветки папоротника, на расстоянии тридцати шагов от них, виднелась каменистая вершина холма, через которую проходила тропинка. Он оглядел пустынную вершину холма, покрытую редкими кустами ежевики и светящуюся печальными белыми камнями, похожими на черепа каких-то доисторических животных, и подумал, что она нарочно все это разыграла, чтобы отвлечь его, но в это мгновенье на вершине холма появилась чуть сутулая фигура ее чахоточного брата.
Хорошо заметный отсюда, он подымался на вершину, заложив руки за спину, каким-то тихим, безразличным шагом, какой-то пустотелой походкой, равнодушный ко всему на свете и отдаленный ото всех выражением горькой обиды, застрявшей на его худом лице и сутулой, зябнущей даже в эту жару фигуре.
– Он же не видит нас, – шепнул Баграт и, взглянув на ее лицо, поразился выражению грусти и удаленности ее лица.
– Неужели и он умрет? – прошептала она и как-то потянулась вслед за исчезнувшим на той стороне холма братом. Баграт почувствовал укол ревности.
– Все умрем, – сказал он и ощутил, что слова его упали в пустоту.
Она все еще из-за его плеча смотрела на вершину холма, за которым исчез ее брат, и покачивала головой. Он вдруг почувствовал себя нашкодившим ребенком, которому открыли жестокий смысл его шутки. Она подняла глаза и посмотрела на него с грустным удивлением, словно спрашивая: «Неужели можно быть счастливыми, если рядом такое?»
Он ничего не ответил на ее взгляд, он просто растерялся. Он почувствовал, что за нею стоит какая-то сила, и растерялся от того, что не мог себе объяснить, откуда взялась эта сила в этой девочке.
– Знаешь, – сказала она ему, перестав прислушиваться и опуская голову, – лучше я окончу школу и тогда, если ты не передумаешь, возьмешь меня… А то дедушке и так…
– Что и так? – спросил он.
– Ну, сам знаешь, ему будет неприятно, – сказала она, как бы упрашивая его не уточнять, что именно и почему будет дедушке неприятно. Он был уверен, что дедушка никогда не согласится отдать свою любимую внучку за него, полукровку.
– А что отец? – спросил он, удивляясь, что она говорит только о дедушке, и чувствуя, что лучше было бы в будущем иметь дело с ее отцом, чем с дедом, упрямым, как его мул.
– Ну, папа, – улыбнулась она улыбкой старшего, вспоминающего о младшем, – он-то переживет…
* * *
Весной следующего года Баграт неожиданно появился в Чегеме и взялся за мешок кукурузы вспахать приусадебный участок тети Маши.
За два дня до соревнования Тали с Цицей Баграт снова появился во дворе у тети Маши. На этот раз он принес завернутую в мешковину стопку пластинок, переложенных огромными листами тыквы. Осторожно, как яйца, вынимая их из мешковины, он, одну за другой, переиграл все пластинки. Это были записи русских, грузинских и абхазских песен. Последняя из них была записью абхазского хора песен и плясок под руководством Платона Панцулая, хотя имя его было тщательно стерто с ярлыка пластинки.
Переиграв все пластинки, он снова переложил их листами тыквы и завернул в мешковину.
– Оставил бы, – сказала тетя Маша, – небось не съедим…
– Подарю выигравшей патефон, – ответил Баграт и, осторожно взяв под мышку свой хрупкий музыкальный груз, вышел со двора.
Услышав эти слова, Талико, сидевшая тут же на шкуре тура, повалилась на спину и, лежа, подхватив гитару, сыграла «Гибель челюскинцев» – самую модную в ту пору мелодию в Чегеме. Неизвестно откуда взялась эта грустная мелодия и в самом ли деле она была посвящена челюскинцам или это – плод фантазии чегемских девушек, но так они ее называли, и Тали играла ее лучше всех.
И вот наступил решительный день. Еще с вечера наломанные холмики зеленых табачных листьев лежали в прохладе сарая, устланного по такому случаю свежим папоротником, чтобы женщинам было в этот день мягче и праздничней сидеть и работать.
Около дюжины женщин и девушек из местной бригады, почти все родственницы, а если не родственницы, то ближайшие соседки, так вот, все они во главе с тетей Машей усердно низали табак и еще более усердно обсуждали возможности и последствия такого соревнования.
Тали была в этот день особенно хороша. Склонив свое живое, дышащее лицо со старательно прикушенным язычком над длинной табачной иглой, торчавшей у нее из-под мышки, она низала с молниеносной быстротой.
«Цок! Цок! Цок!» – с хруптом надкушенного огурчика листья нанизывались на иглу.
– Да не горячись ты, язык откусишь, – говорила ей время от времени тетя Маша, поглядывая на нее, – патефон наш…
– Да, тетя Маша, – отвечала ей Тали, – тебе хорошо говорить…
Заполнив иглу табачными листьями, она (на миг убрав язык) прижимала ее к груди и жестом лихого гармониста тремя-четырьмя рывками (шмяк! шмяк! шмяк!) сдергивала на шнур скрипящую низку и теперь снова, прижав ее к груди, со свистом пропускала сквозь нее свободную часть шнура и таким образом, доведя ее (низку) почти до конца шнура, бодрыми шлепками ладони растягивала плотно согнанные листья до необходимой прореженности, предварительно намотав кончик шнура на большой палец ноги.
Дядя Сандро и Кунта надевали на сушильные рамы вчерашнюю низку табака. Они брали с двух концов четырехметровый шнур, тяжело пригибающийся от сырых листьев, приподымали его, слегка встряхивали, чтобы сразу же отпали листья, которые плохо держатся, и прикрепляли его к раме, стоящей на деревянных путях. Наполненную раму откатывали по этим путям, пока она не упиралась в предыдущие рамы, на которых сушился табак.
В полдень, когда женщины, поскрипывая одеждой, пронизанной черным лоснящимся табачным маслом «зефиром» (так его называли чегемцы), пошли к роднику умываться и перекусывать, Тали осталась в сарае. Не прерывая работу, она выпила традиционную окрошку из кислого молока с мамалыгой, которую принес ей из дому дядя Сандро.
– Не убивайся, дочка, – на всякий случай не слишком громко говорил ей дядя Сандро, – твой дед и без патефона неплохо жил.
– Все же обидно будет, – отвечала Тали, доскребывая миску и облизывая костяную ложку, – ведь я быстрее всех умею низать…
– Сама знаешь, чья дочь, – согласился дядя Сандро с неожиданной гордостью, хотя за всю свою жизнь не нанизал ни одной табачной иглы.
Дядя Сандро подсчитал ее работу. Оказалось, что Тали до полудня нанизала шестнадцать шнуров табака – примерно дневная выработка неленивой, крепкой женщины.
Вырвав клок папоротниковых листьев, Тали обтерла руки и, достав гитару (как винтовка у хорошего партизана, гитара у нее всегда была с собой), улеглась на спину, чтобы дать немного отдохнуть затекшей спине, и сыграла «Гибель челюскинцев».
Десятилетний мальчик, приемный сын Кунты, целый день толкался в сарае и не сводил глаз с Тали. Сейчас, когда она стала играть «Гибель челюскинцев», он почувствовал, что глаза его предательски щиплет от этой сладостной грусти чужой мелодии. Мальчик боялся, что слезы его вызовут насмешку у дяди Сандро или тем более у Тали, и не знал как быть, то ли сбежать, то ли, пересилив слезы, дослушать «Гибель челюскинцев». Чтобы дать стечь назад навернувшимся слезам, он поднял голову и сделал вид, что чем-то там заинтересовался. Тут его окликнул дядя Сандро и велел сходить в табачный сарай, где работала Цица, и узнать, сколько шнуров она нанизала с утра. На тот случай, если они будут это скрывать, он велел ему на глазок посмотреть, насколько велик возле нее холмик нанизанного табака.
– Вот видишь, – показал он ему на табак, нанизанный Тали, – здесь шестнадцать шнуров, а вот здесь около десяти, а вот здесь не больше восьми.
– Хорошо, – сказал мальчик и выбежал из сарая.
– Постой! – окликнул его дядя Сандро. – Если спросят, кто послал, скажи: «Никто! Гулял и зашел».
– Хорошо! – сказал мальчик и снова побежал.
– Постой! – опять остановил его дядя Сандро. – А если спросят про Тали, знаешь, как отвечать?
– Шишнадцать, – сказал мальчик.
– Дурень, – поправил его дядя Сандро, – не надо ничего говорить. Скажи, я не знаю, я там не был. Понятно?
– Да, – сказал мальчик и помчался стрелой, боясь быть снова остановленным и окончательно запутанным новыми подробностями этой интересной, но, оказывается, слишком сложной игры.
– Лучше бы сам пошел, – сказала Тали, откладывая гитару и снова берясь за иглу.
– Что ты! – отвечал ей дядя Сандро. – Как только я отсюда уйду, они шпиона запустят сюда!
Вскоре вернулись женщины и, рассевшись по своим местам, принялись за работу. Примерно через час в сарай вошел мальчик и сказал, что у Цицы девятнадцать шнуров.
– Не может быть! – в один голос воскликнули все женщины, вскидывая головы и ощетинивая иглы.
– Постой! – гневно воскликнул дядя Сандро. – На вид как?! Горка возле нее большая?
– Горка так себе, ничего, – сказал мальчик, растерявшийся от общего возмущения.
– Ложь! Ложь! Ложь! – воскликнула Тали. – Чтобы эта дважды прокисшая, трижды протухшая низала быстрей меня?! Ей помогают!!!
С этими словами она швырнула свою иглу и, громко рыдая, пошла в сторону дома, перемежая рыдания проклятьями в адрес своей соперницы и всего охотничьего клана.
– Чтоб я вынула твое лживое сердце из груди, – рыдала Тали, – чтоб я его поджарила на табачной игле, как на вертеле…
Женщины из сарая замолкли, прислушиваясь и удивляясь свежим подробностям ее проклятий, чтобы запомнить их и при случае применить к делу. Их прислушивающиеся лица с забавной откровенностью выражали раздвоенность их внимания, то есть на лицах было написано общее выражение жалости к обманутой Тали и частное любопытство к сюжету ее проклятий, причем частное любопытство ничуть не подозревало, что оно в данном случае неприлично или противоречит общей жалости.
– …И чтоб я, – между тем продолжала Тали, закончив могучий аккорд рыдания, – скормила его нашим собакам! И чтоб они, – тут она поднялась на еще одну совершенно неожиданную ноту, – чавкая! Чавкая! Поедали его!
Тут сидевшие в сарае лучшие умелицы народных заклятий переглянулись. Неожиданный глагол, употребленный Тали, с плакатной смелостью вырывал крупным планом морду собаки, мстительно чавкающую лживым сердцем соперницы.
– Неплохо, – сказала одна из них и посмотрела на другую.
– Что и говорить – пришлепнула, – согласилась другая.
– Что вы тут расселись, как овцы! – заорал дядя Сандро на женщин. – А ну, верните ее сюда! Не дай бог еще услышат там…
Тали вернули в сарай и, едва усадили, как оттуда раздался голос.
– Кто это там у вас плакал? – спрашивал голос женщины из сарая соперников.
– Что я говорил?! – сказал дядя Сандро и, высунувшись из сарая, крикнул своим зычным голосом: – Это Лена плакала, Лена! Чего вам?!
С этими словами он быстро поднял бинокль и направил его на сарай соседней бригады, словно хотел убедиться, какое впечатление произвели его слова на кричавшую женщину.
– Небось Макрина? – спросили из сарая.
– Да, Макрина, – сказал дядя Сандро. – Тише, она опять кричит.
Не отрывая бинокль от глаз, словно это помогало ему слушать (а это и в самом деле помогало ему слушать), он прислушался.
– А нам послышалось… голос Тали, Тали! – донесся издалека голос Макрины.
– Ха! Так и знал! – усмехнулся дядя Сандро.
– Тали плакать не с чего! Не с чего! – закричал он, глядя в заплаканные глаза своей дочери. – Тали поет и смеется!
Дядя Сандро снова посмотрел в бинокль и увидел, как женщина обернулась в сторону сарая, видимо передавая остальным его слова. Потом в бинокле появилось лицо Макрины и по его ясному озорному выражению дядя Сандро понял, что она хочет сказать что-то неприятное.
– Слышали, как она поет, слышали! – уловил дядя Сандро.
– Делом надо заниматься! Делом! Э-у-у-уй! – закричал дядя Сандро и вошел в сарай, показывая, что не хочет тратить время на пустые разговоры.
– Я всегда могу узнать, что она нанизала, а что ей подсунули, – сказала Тали, не отрываясь от работы.
В сущности, Тали была права, у каждой низальщицы свой почерк: одна прокалывает стебелек табачного листа повыше, другая пониже, третья и так и так, четвертая, прокалывая, надламывает его и так далее. Но занятие это, конечно, хлопотное и неприятное. Лучше уж обойтись без него.
Дядя Сандро решил снова послать мальчишку в сарай той бригады, но для маскировки он уговорил Кунту через некоторое время, якобы в поисках мальчика, заглянуть туда же.
Мальчик отправился в путь, а через некоторое время за ним заковылял и Кунта. Когда дорога стала подыматься на холм, Кунта по старой привычке срезал ее, чем сильно обеспокоил дядю Сандро.
– Вот козлиная голова, – бормотал он, следя за ними в бинокль, – смотрите, если он раньше мальчика не явится туда…
Не дожидаясь вестей оттуда, дядя Сандро вошел в сарай. Теперь он заметил, что холмик табака возле его дочки сильно уменьшился, а до вечера было еще далековато. С молчаливого согласия всех других женщин, дядя Сандро стал перекладывать ей охапки табачных листьев, наломанных другими женщинами. При этом он выбирал самые крупные листья, потому что чем крупнее лист, тем его легче нанизывать и вдобавок он сам быстрее заполняет иглу. Это уже было нарушением правил соревнования, но сравнительно небольшим. Низала-то все-таки она.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































