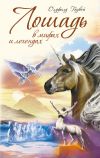Текст книги "О чем плачут лошади"

Автор книги: Федор Абрамов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
4
Подворье Климентьевны мог назвать хоромами только такой игрун-говорун, как Липат Васильевич.
Все шли дома как дома – одноэтажные, двухэтажные, индивидуальные, коммунальные, щитовые, из бруса – и вдруг избушка на курьих ножках, лужок зеленый вокруг.
Откуда? Из какой сказки залетела сюда?
Все оказалось просто: избушка уцелела от старой деревни, на месте которой вырос поселок. Жители Ропши без всякого сожаления расстались со своими нескладными, обветшавшими за войну постройками, а Климентьевна, одинокая престарелая старуха, – что могла? Вот и торчит по сей день допотопная лачуга на окраине современного поселка.
Белая ночь, уже подрумяненная утренней зарей, застыла над кособокой избенкой, а во дворе, кое-как прикрытом жердяной изгородью, пощипывала травку белая коза. Колодезный журавль, приподняв старую голову, невесело смотрел на меня из-за ветхой тесовой крыши, густо поросшей зеленым мхом…
Климентьевна – точно сказал Липат Васильевич – не спала. Она сидела на утлом крылечке и вязала осиновые веники. Для козы.
Ко мне старуха поначалу отнеслась недоверчиво, да и не мудрено: кто из путевых людей ходит в гости по ночам? Я сослался на Липата Васильевича – тоже не очень помогло. Но стоило мне упомянуть имя Ксении Григорьевны – запоры передо мной пали.
– Передохните не то со старухой. В ногах правды нет. – И старой, задеревенелой рукой разгребла для меня место на крыльце, напротив себя. – А откуль вы Ксану-то Григорьевну знаете? – осторожно начала выведывать старуха. И при этом еще и глазами старыми из-под очков, сколько могла, прощупку делала.
Я не стал крутить. Прямо, без всяких обиняков сказал, что собираюсь написать историю здешнего леспромхоза и вот интересуюсь Олешей, о котором тут, в поселке, полно всяких былей и небылиц.
– О, вот вы из каких людей, – сразу потускнела старуха. – В газетах которые пишут. Ну дак тут я вам не помощница.
– Да почему, бабушка?
– А не привыкла, батюшко, на смех-то людей выставлять. Сроду худого слова ни про кого не сказывливала. А Ксана Григорьевна мне заместо андела земного была. Дочи родная такой заботы о матери не имеет…
– Хороший, значит, человек?
– У других, у других, батюшко, пытайте, – опять отклонила мои домогания старуха. – Кто грамотный да головой крепкий.
– Да другие-то, знаете, что говорят? Кеану Григорьевну во всем винят. Она, говорят, Олешу погубила.
Вот с этой минуты у нас и пошел откровенный разговор. Роднее родни, дороже всех на свете была Ксана Григорьевна для этой горемыки, не имевшей собственных детей, и могла ли она дать ее в обиду?
– Враки, враки все! – обеими руками замахала Климентьевна. – Да у кого только язык повернется такую понапраслину сказать. Уж она-то, бедная, побилась с ним! И лаской, и таской, и не знаю как – всем, чем могла, привораживала. Знаю ведь, на моих глазах было. У меня жили.
– И Олеша у вас жил?
– У меня. По-теперешнему бы сказать: жилье молодым давай – комнату але фатеру. Оба на хорошем счету у начальства: Ксана Григорьевна – повар, тот – по лесу первый. А в те поры койке в общежитии были рады, семейные за занавеской жили. Ну вот и стали у меня жить. Однежды Ксана Григорьевна прибегает, на танцах была: «Тетечка Груня, – все меня тетечкой звала, – ставь самовар, я взамуж выхожу». – «За кого, говорю. За Олексея Михайловича?» А Олексей Михайлович из здешних, хороших родителей сын, служащий, в конторе сидел. Все ей провожал. «За Олексея, говорит, да за другого. За того, который всех сильнее да всех красивше». – «Что ты, что ты, говорю, девка!» А я сразу догадалась, о ком она, – видала, тоже подхаживал к моему домику. «Этот Олексей, говорю, тебе неровня, у его, говорю, все вино да товарищи на уме будут…» Головой тряхнула: «Ничего, у меня про все забудет – и про вино, и про товарищей». Да шасть двери нараспах. А там уж он, жених, стоит. Ну что, кричать не будешь. Да и кто я ей, кричать-то. Не родная мати. Вот так у меня Ксана Григорьевна и надела на себя хомут…
Ко крыльцу подошла коза и, вытянув шею, вопросительно уставилась на меня своими зелеными глазищами.
– Что, Милка, – сказала Климентьевна, – на дядю незнакомого пришла взглянуть? Але про Кеану Григорьевну услыхала – козья душа затомилась? Оченно ндравилась нам Ксана Григорьевна, чуть не за стол нас сажала…
У меня глаза на лоб полезли: да сколько же этой животине лет, ежели ее еще Ксана Григорьевна баловала?
Климентьевна от души рассмеялась:
– Нет, нет, скотинка невековечна. О третьем годе Ксана Григорьевна к нам приезжала, как раз у Милки тогда рожки прорезались, обо все их вострила… Двадцать лет не бывала. Могилку проведать приехала. Да не одна, а с мужем, с внуком… А у людей язык поворачивается… Вся тут уревелась да уплакалась. «Ой, тетечка Груня, что они, паразиты, с могилой-то сделали?» А чего сделали? Пьют. Всё – и могила, и возле могилы – всё в битом стекле. Я схожу, сколько могу, поразгребаю, а после воскресенья опять воз битых бутылок. Все поминают того, пьяницу.
– Олешу?
– Кого же больше. – Климентьевна нахмурилась, пожевала беззубым ртом. – Ну я Кеану Григорьевну тоже не хвалю. Муж уважительный, глаз с ей не спускает, внучек: баба, баба, сама век самостоятельная… А тут нашла о ком горевать. «Хорошо, говорит, тетечка Груня, живу, не пообижусь. Муж не пьет, дети большие, выучены, а я, говорит, оставила в здешних лесах сердце, все Олешу забыть не могу…»
– Любила, стало быть, – заметил я и спросил, нет ли у Климентьевны фотографии с Олешей и Ксаной Григорьевной или хотя бы фотографии одной Ксаны Григорьевны.
Старуха запетляла:
– Была где-то у меня карточка, была. Ну тольки где ей сейчас искать? Может, в анбар вынесла, а может, Поля Васина взяла – всё просила, с Ксаной Григорьевной вместях в столовке робили…
В общем, не хотелось старой показывать фотографию: а вдруг это обернется против ее любимицы, – и я повернул опять к прошлому.
– Жили, попервости ничего жили, худа не скажу. Все до копейки домой приносил. Шафоньер завели, кровать светлую купили, теперь у меня стоит, ему, ей справу справили, матери деньги стали посылать – тоже ведь и он не без матери, с южных краев родиной, а потом раз с товарищами выпил, другой выпил, третий… Да повело, повело, что и домой дорогу забыл. – Климентьевна подумала немного и дала всему этому должную оценку: – Век по общежитиям, воля вольная, вино, товарищи – чего ждать хорошего? Ксана у меня плачет, ночами не спит. Перед людями стыдно, домой ехать надо – родители молодых ждут. А у него на уме пьянки да гулянки. Все, чего нажили, пропил. В одной парусинке остался; даже, скажи, рубахи нету, голое тело… Да… Потом чего-то сделалось – вот ведь вино-то без просыпу пить – в лес убежал. Спанье из досок сделал, на сосну залез… Поезжай, говорю, девка, домой: сосну не согнуть, и тебе Олексея не переделать. Плачет. «Уехала бы, говорит, тетечка Груня, да его жалко, с голоду помрет…» И вот наварит, напарит всего да в лес – Олексея кормить. А Олексей еще изгиляется, на весь лес кричит: «Знать тебя не знаю, ведать не ведаю…» Ксана Григорьевна, андельская душа, и тут его оправдывает: «Это, говорит, не он кричит, а болезь…» Помер к осени. Кто говорит, с сосны пьяный свалился, кто – замерз, а кто – друзья-товарищи пособили. Иван Мартемьянович, охотник здешний, слыхал: всю ночь, говорит, кто-то в той стороне кричал…
Я прожил в Ропше больше недели. По заданию редакции я быстро, за два дня, смастерил очерк о Паве Хаймусове и его бригаде, а все остальное время кружил вокруг Олеши, расспрашивал все новых и новых людей. И люди, самые разные, даже такие, которые вовсе и не знали его, взахлеб, с восторгом говорили о нем. Как о своей самой большой знаменитости. И, помнится, я тогда, в те дни, ломал голову, да и теперь нередко задумываюсь: почему? Чем так полюбился жителям Ропши этот полуграмотный и не очень праведной жизни парень? Почему именно о нем сотворили легенду?
1975

Михей и Иринья

Опять не застал я Михея Кирьяновича. Заходил вчера, заходил позавчера – утром, днем, вечером – все нет старика. Да бывает ли он вообще когда дома?
– А редко бывает, – сказала Иринья Матвеевна. – Нас ведь у его сколько? Я жерновом на шее, Марья, Ульяна руку протягивают…
– Да вашей Ульяне и Марье самим, поди, уж за пятьдесят?
По худому, бледному лицу старухи скользнула чуть приметная усмешка.
– Не слыхал разве, как ноне говорят? Что и за отец, что и за мати, коли до смерти детей своих не докормят? Вот он и бьется как рыба об лед. Да ты посиди, скоро уж он будет. Надо быть, к болоту теперь подбирается. Убрел где-то в Росоху вершу смотреть.
Я мысленно прикинул: до Росохи, лесной речонки, ходу туда и обратно часа два с половиной – три, старик вернулся с дежурства (по ночам он караулит сельповские склады) не раньше пяти-шести утра, а сейчас был девятый час…
– Да что же, он так, не спавши, и покатил за рыбой?
– А привычно ему, – сказала Иринья Матвеевна. – Век ногами кормится. Охотник.
Утреннее солнце, еще мягкое, нежаркое, заливало крыльцо, на котором мы сидели. Крыльцо было старинное, рубленое, некрашеное (чуть ли не единственное во всей деревне сохранившее свой первозданный вид) и пахучее – целебные травы и травки развешаны в пучках под навесом. Под стать крыльцу была и сама Иринья Матвеевна, маленькая, утоптавшаяся, усохшая, в старинном старушечьем повойнике и сарафане.
Иринья Матвеевна была слепая. По ее словам, глаза она выплакала еще в войну, когда они со стариком получили похоронку на своего единственного сына, и с тех пор она крепко-накрепко оседлала крыльцо. Когда, в какую погоду ни идешь мимо, а она уж на своем посту. Сидит, облокотившись на худые руки, поджидает своего вечно занятого старика.
За разговором, за перебором деревенских новостей я и не заметил, как к дому подошел Михей Кирьянович. А старуха угадала приближение мужа сразу. Она вдруг подняла голову, вся насторожилась, затем облегченно вздохнула:
– Идет. На задворье с песком воюет.
Я прислушался. Ревет движок у маслозавода, трещит и чихает мотоцикл, который с утра гоняет по деревне пьяный Валька Яковлев по случаю своего возвращения домой «от тещи», то есть из районной каталажки, куда его на две недели упрятала было собственная жена; железные провода – вся деревня ими опутана – поют свою железную песню… Да где же в этом шуме и стрекоте расслышать отдаленные стариковские шаги? Тем не менее старуха не ошиблась. Не прошло и двух-трех минут, как из-за соседнего дома показался Михей Кирьянович.
Уж, кажется, я привык к нему – чуть ли не каждый день вижу из своего окошка, как он вышагивает по вечерней дороге, отправляясь на ночное дежурство, – в белом, до пят, дождевике, с посохом в руке, не по возрасту прямой и величавый, как библейский патриарх. А нет, я и сейчас без изумления не мог глядеть на этого старика. Восемьдесят пять лет. Ночь не спал, утром рыбачил – ну-ка, поброди десять верст по нашим суземам да лесному бездорожью! – а ведь идет, торит свою дорогу.
Михей Кирьянович был не в духе: плохой улов. С трудом на уху отбил. Да и разве рыба это – васюха да гыч. В берестяной коробке, которую он сунул в колени старухе, и в самом деле было негусто, но Матвеевна, с величайшим удовольствием ощупывая каждую рыбешку, стала утешать его:
– Ладно давай, охота да рыба – не теперь сказано: когда мать, а когда мачеха.
– А нет, баушка, – многозначительно покачал головой Михей Кирьянович, – нету больше матери в наших лесах. Одна мачеха осталась, вот што. – И, так и не присев, пошел в избу.
Мы с Ириньей Матвеевной тоже встали.
Давно, больше тридцати лет, не был я в этой избе, и мне показалось, будто в далекое детство шагнул я с шумной улицы. Все, все тут было, как прежде: и голые щелястые стены с черным мхом в пазах, с широко распластанными хвостами от глухарей и тетеревов, и некрашеный пол с поблескивающими на солнце сучьями-луковицами, и деревянная кровать справа у порога, и толстенные лавки вдоль стен. И так же, как прежде, вкусно пахло сетями, травами, стариной.
Михей Кирьянович, сполоснув руки, без промедления занялся печью – в доме еще было не топлено, не варено, а Иринья Матвеевна стала чистить рыбу: сама налила в сенях холодной воды в миску, сама раздобыла где-то доску, на которую вываливают рыбьи внутренности.
Когда в печи запотрескивали дрова и когда, как мне показалось, старик немного поотмяк, я мало-помалу принялся расспрашивать его про Гражданскую войну в наших краях, про то, как по заданию красных он два раза ходил на Северную Двину, или, по-нашему, просто на Двину.
– Ходил, – без особого энтузиазма сказал старик.
Иринья Матвеевна рассердилась:
– Ходил!.. Да он и без тебя знает, что ходил. Ты сказывай, как ходил-то.
– А чего, баушка, сказывать. Дали пакет – отнеси. Вот я и отнес, куда надобе.
– Господи! – всплеснула руками Иринья Матвеевна. – Зимой две недели пропадал. Лесами, без дороги, в мороз… А летом опять – комары заели. В болото вхряпался – едва и вылез. Неделю на грибах жил…
Михей Кирьянович все это подтвердил и кое-что от себя добавил, но разговора, живого, непринужденного, не получалось, и я подумал, что мне лучше зайти в другой раз, когда старик не так будет измотан работой. Однако Иринья Матвеевна и слышать не хотела о моем уходе.
– Нет, нет, – сказала она, – пока свежей ушки с нами не откушаешь, никуда не пойдешь. – И тут же прикрикнула на старика: сколько, мол, будешь еще копаться?
Свежая рыбешка в чугунке развалилась – ни головы, ни хвоста не найдешь, но я такой ухи, кажется, сроду не едал. Душистая, с острым перчиком, с луком зеленым, с домашним сухарем, который так и похрустывает, так и рассыпается на зубах. А какое удовольствие было смотреть на стариков! Тут знали цену хлебу насущному: ели молча, неторопливо, по старинке – в правой руке ложка, а левая ковшиком у подбородка: чтобы ни одна кроха не упала, не пропала даром.
– Ешь, баушка, ешь, – заговорил Михей Кирьянович. – Может, последний раз свежинка в доме. Худо ноги стали ходить, да и рвать их не из-за чего.
– Рыбы мало стало? – спросил я. – Реки истощали?
– Да реки-то, может, и не истощали, – вздохнул Михей Кирьянович. – Совесть у людей истощала. Что ноне с этой рыбой творят-делают, дак это и страсть. Толью, взрывами взрывают, сетями реки наскрозь перегораживают, лектричество запускают… А сплавы-то все лето, топляки-то! Дно-то у реки деревянное стало але железное. Все в воду: и банку консервную, и бутылку… – Старик безутешно махнул рукой: – Айв лесу не лучше. Я из Росох шел – шесть собак насчитал.
– Беда, беда с этими собаками! – поддержала мужа Иринья Матвеевна. – Ребенок закапризит: папа, собачку хочу. Папа собачку завел: играй, родимое дитятко, тешься. Дитятко поиграло, потешилось, другу игрушку надь, а собачку на улицу. Вот они, бездомные-то, и рыскают, летают, как волки, по лесу, ищут себе пропитание. Птичьи гнезда зорят, птенца давят, зверя беспомощного заедают…
– Строгости ноне нету, баушка, вот где закавыка-то. – Михей Кирьянович не любил празднословия. Он всегда и раньше любил всякому разговору придать хозяйственное направление.
– А раньше больше было строгости?
– Раньше-то? – Старик посмотрел на меня как на неразумного ребенка. – Как не больше! Я, бывало, с Екутина ручья вот в это же самое хлебное время пришел, сено ставил. Татя-покойничек спрашивает: «Как там, Михейко, на бору? Будет, нет нонешной осенью перо?» – «Будет, говорю. Три гнезда налету видел да одну тетеру на гнезде». Татя глазами захлопал: «Как на гнезде? В это время на гнезде?» – «Да, говорю, на гнезде, на яйцах сидит». – «Ну и что ты, говорит, сделал с этими яйцами?» – «А ничего, говорю, не сделал. Разве не понимаю, говорю, что гнездо нельзя зорить?» Татя-покойничек вспылил: «Эх, говорит, Михейко, Михейко, дурак ты еще, а не охотник. Да ведь из-за этих яйцев, говорит, тетера пропадет. Яйца-ти эти у ей бесплодные, мерзлые – весенним морозом прихватило. Бить их, говорит, надо, а то она, бедная, до полного истощения на них сидеть будет, покуда не сдохнет».
– Н-да, – заключил Михей Кирьянович, – вот такой урок мне преподнес родитель. Дак я со стыда сгорел, поел, не поел сколько – опять на Екутин ручей побежал.
– Из-за тетеры?
– Из-за тетеры. С гнездовья снимать. Татя-покойничек смала мне твердит: с лесу бери, да и лесу пособляй. А я вон что наделал. А ведь уж женат был.
– Так, так, – подтвердила Иринья Матвеевна. – Женатый был. Я со вторым в боку ходила. А ты бы про то ему рассказал, – надоумила она старика, – как ты охотничать-то начал, с чего пошел.
– А-а, – вдруг развеселился Михей Кирьянович и тут первый раз улыбнулся, – ты вот про чего, про первого ряба вспомнила. Пять годков мне тогдась, что ли, было, штаны еще с дыркой на заду носил. Бегаем с ребятами, попа гоняем по улице, и вдруг татя – из лесу идет, с ружьем. Увидел меня покойничек: «Ох, Михей, Михей! Бегаешь, головой трясешь, а там, за болотом, ряб тебя ищет».
– Большой ряб-от ране был, – пошутила Иринья Матвеевна, – с корову. Полетит – дак грому-то!
– Да, ряб, говорит татя, тебя, Михей, ищет. За болотом. В шутку, ясно дело. Какие же от пятилетнего ребенка рябы? А мне впалось в голову – думаю, это он меня за безделье ругает. Все, бывало, Михеем зовет, ежели разговор насерьез. Вот я это вечером-то к нему и подступаю: как да как сило на ряба ставят. Татя показал – рад моему хотенью, да уж и сам кое-чего смекал: отец охотник, дед охотник – только эти и разговоры в доме. Ладно, на другой день встал ранешенько…
– Это в пять-то лет, – заметила Иринья Матвеевна.
– Н-да, встал, пять силышков у тати на погребу взял и в лес. С коробочкой берестяной, вроде как за голублем в болото за деревню. За голублем-то в болото уж ходил, а дальше в ельник – нет. Там лешаки, нечистая сила живет. Туда ходу малым нету, мама-покоенка только, бывало, и стращает: «Смотри не ходи за болото. К лешакам попадешь». Боялись, знаешь: заблудится ребенок. Ну а тут к лешакам надо прямо в пасть идти. Вот сколько лет прошло – восемьдесят, а я и теперь помню, как шел за болото. Босиком. Глаза от страха зажмурил… Ну, пороху хватило только до первой елушки с муравейником. Одной рукой лоб крещу, другой кое-как сило воткнул да бегом домой. Назавтра надо сило смотреть, снова за болото идти – страху еще больше. Подошел к болоту, а там туман ходит, шлепает чего-то, мычит, – коровы, надо быть, бродили, – я насмелиться не могу. Таврило Александрович, царство ему небесное, помог. Как раз, на мое счастье, за болото на санях едет – мох на дом возил. Дом новый строил. Ну, я за ним. Свернул за болото-то, где теперь телятник стоит, подхожу к своей елушке – мать честная, да у меня в силу-то ряб! Настоящий! С перьями! Татя-покойничек, уж когда я охотником стал, признался: «Я, говорит, парень, тебе ряба в сило воткнул. Видел твое старанье. Пускай, думаю, смала к охоте привыкат». Ну а тогда у меня радости было! Про всех лешаков, про всю нечисту силу забыл. Бежу по болотнице, и думушки о них нету. Встретил Гаврила Александровича, кричу: «Гаврило, я ряба заловил!» Ау мамы-то сколько ахов да охов было (тоже не знала про татины проделки): «Ну, Михейко, ну, хлебы нам от тебя под старость…»
С этого времени в дом вошла сказка, потому что разве не сказка это в наше время – лес, птица, рыба, зверь? И от недавней хмурости и сдержанности Михея Кирьяновича не осталось и следа. Он помолодел. Серый глаз его так и вспыхивал, так и загорался под густым волосяным козырьком бровей. И Иринья Матвеевна, показалось мне, вдруг стала зрячей и всевидящей…
Все вспомнили, обо всем переговорили: и о последних двух лисках, добытых Михеем Кирьяновичем нынешней зимой, и о последнем глухаре, или чухаре, как у нас говорят, которого старик убил прошлой осенью за рекой, и о медведе-шатуне, всю осень безобразничавшем в деревне, – Михей Кирьянович порешил его на пару с Венькой-лесником.
Но чаще всего мы бродили в лесах его молодости, туда его постоянно заносило, да и Иринье Матвеевне сподручней было, как она сама выразилась, шастать по тем тропинкам и тропкам. Весело, шумно было в тех лесах – от зверя красного, от птицы…
– Бывало, идешь угодьем-то своим, ловом-то, где силье стоит, – Михей Кирьянович каждое охотничье понятие терпеливо переводил на понятный мне язык, – Бога молишь: о, хоть бы не чухарь, а ряб попал. Угодье-то, путик-то, большое – сорок и пятьдесят верст будет, да суземом, не́проходью, а у тебя уж и так лузан-от[2]2
Л у з а н – верхняя одежда из сукна с кожаными оплечьями для защиты от холода и сырости. В больших карманах – спереди и сзади – охотники носят хлеб, птицу, мелкого зверя.
[Закрыть] набит до отказу да еще мешок плечи мозолит… А с бора-то осенью выезжаешь! На лошади. Воз птицы везешь.
– Ладно давай, – попридержала маленько Иринья Матвеевна не в меру разгулявшуюся фантазию старика, – бывало ведь и бесптичье.
– А редко, баушка. Разве что на ту, на германскую, зеленый год на бору был – я всю осень ни одного чухаря не добыл, да зато тогда засыпало рябом. Я в жизни не видал столько этого питенбура![3]3
Рябчиков в прошлом с Севера возили в Петербург.
[Закрыть] Как голубят. Стадами летают – до ста штук и боле.
– К войне это он табунился, ряб-от, – пояснила Иринья Матвеевна. – На войну показывал.
– Так, так, баушка, – авторитетно подтвердил Михей Кирьянович. – К войне перемена в природе але к мору, к голоду. Когда гриба в лесу толсто але, скажем, у птицы, у зверя большой ход – жди беды. Татя тогдась, когда я вот этого ряба с Екутина привез, перекрестился: «Неладно, неладно это, Осподи. К беде». И точно – через год война с германцем пала.
– И с угодьями пришлось распрощаться?
– Я-то распрощался, под ружье поставили, а угодья у нас и в войну маленько дышали. Баушка шевелила.
– Иринья Матвеевна?
– Лесовала, лесовала баушка. Чухаря с рябом не путала.
От похвалы мужа старуха просто зарделась – у нее было тонкое, легко воспламеняющееся лицо, – а потом сказала:
– Может, и не очень лесовала, а лесовала. Свекор у меня рано обезножел, а боровинки-то охота. Да и работка всласть. Любила я пройтись по лесу. Идешь холмами, веретейками, беломошником – устали не чуешь. Задор берет, особенно когда птица попадает. Правда, до дальних-то ловов я не дотягивала. Там меня Фиклист Петрович выручал. Старичок сосед. С ним наши-то ловы пересекались, рядом затеей шли. Честный, совестливый был старичок. Все до последнего пера отдавал. Вынести-то сам не может – дак придет, скажет: «Жёнка, у тебя там чухарь на той неделе в сило заполз. В клетку я повесил». Клетка у нас была на Екутином ручью, такой маленький анбарчик на высоких ножках, чтобы мышь да зверь не потравили улово.
– Раньше ведь как было, – заговорил наставительно Михей Кирьянович. – Насчет всякой пакости да баловства строго. Это чтобы в чужое угодье залезть але в сило – ни-ни, избави Боже. Бережешься не знай как, когда у тебя угодье на чужое угодье налезает. Шагу не ступишь к соседу. А ежели у соседа на пересеках тетера в сило попала, на елку повесишь. На самое видное место. Чтобы сразу сосед увидел, еще до того, как подойдет к силу. У меня на Вырде пересеки с одним мужиком из Выхтегры были, всю жизнь охотились бок о бок и ни разу не встречались, а в позапрошлом году в районе, в больнице, встретились. Ну, он и покаялся: «Заметил, нет, говорит, как я твоим чухарем-то попользовался?» – «Заметил», – говорю. А дело-то было еще до той, до германской, шестьдесят лет назад, когда оба мы молодыми были. Чухарь у меня как раз на пересеке попал и вместе с елкой, с гнетом, значит, к нему на угодье ушел. Вот он и соблазнился, Кузьма-то Кокорин. Приласкал моего чухаря. «Прости, говорит, Михей Кирьянович, по молодости, по неразумности вышло». И верно, что по молодости да по неразумности. Мне так и татя-покойничек сказал, когда я ему об этом рассказал: «Погоди, говорит, Михей. Не будем пока ничего делать – долго ли человека погубить. Может, сам одумается». Вот он и одумался.
– А если бы не одумался?
Михей Кирьянович замысловато усмехнулся.
– Управа ране была. Это ноне ни во что не верят, а в старину – охо-хо! Боялись. Тот же знахарь, скажем. Жизнь твою в кулаке держал. Отворот такой исделают, что и жизни не рад будешь. Особенно нельзя было дразнить зырян с Башки. Ух, народ! Сами тебя не изобидят, честная нация, но чтобы и ты к ним с чистой душой. Вон тут с суседом дело было – слыхал, как на муравейник посадили?
– Смутно, – признался я.
– Помнил я Луку Самойловича. И старичонко-то вроде ничего был, мозглявый, а тут поехал в Потему и соблазнился – залез на зырянское угодье, начал вымать чухарей из сильев. Так будтосе было – никто в глаза не видел. А зыряны-то о ту пору на угодье были. Ах, так! Пакостить? И вот допустили до избы, а за избой-то у Лукаши – так все старичонка звали – большой муравейник. Ну-ко, посиди на этом муравейничке, подумай, как жить надо. Пять дней сидел. Ребята, сыновья, значит, приехали на Потему, а он сидит на муравейнике – штаны спущены и встать не может.
– Да, может, проще все было? С головой что-нибудь случилось?
– Нет, словом посажен, – сказал непоколебимо Михей Кирьянович. – Это бывало запросто. Строго наказывали за всякие такие пакости. Ну, привели Лукашу домой – всего изъели мураши, яйки на ниточках легаются. Полгода пожил-нет и Богу душу отдал.
Я опять высказал сомнение в колдовской силе. А потом вопрос поставил так: если раньше эта колдовская сила на каждом шагу давала себя знать, то сейчас-то куда она девалась? Почему сейчас-то ничего не слышно о ней?
– А это точно, – согласился со мной Михей Кирьянович, – не слышно ноне насчет знахарских проказ. Да и знатких-то людей – где они? А бывало, ведь сколько их было! Хоть тех же Моховиков в Солоньге взять. Народу перевели-перепортили, дак это и страхи Божии. У нас про Калину-то Ивановича, дядюшку моего, слыхал? Как ему эти Моховики запрет на лес наложили? У дяди Калины большущая охота была – тысячи полторы сильев. А капканов-то сколько, ловушек-то всяких! И на ружье мастер был. Бывало, таких охотников, которые выстрелом мех зверю дерут, и не признавал. Векшу иначе как в глаз не бил. А медведя-то сколько на своем веку завалил! И вот однажды видим: осень, а дядя дома. «Не могу, говорит, ребята, дыху нету». А какое – дыху. Разве в дыхе дело? Нечист на руку был дядюшка – вот где закавыка-то. Больно глазами любил по сторонам вертеть, на чужие угодья заглядывать. Вот эти Моховики-то и заперли от него лес. Охотники попросили, с которыми у дядюшки угодья впритык были. Раз ты нечист на руку, нечего тебе и в лесу делать. Лес чистоту любит. Разорили мужика. После того дядя немного и жил. Помер.
– Так, так, – поспешно сказала Иринья Матвеевна. Она словно хотела предупредить мои возражения. – Моховики, знахаря, погубили Калину Ивановича.
– Осподи, да кто не знахаря-то?! Татя-покойничек сколько раз, бывало, говаривал: «Погубил себя Калина. Сам себя погубил нечистыми руками».
И тут уж спорить со стариком было бесполезно. Девятый десяток разменивал Михей Кирьянович, но татя-покойничек, который, кстати сказать, умер сорока пяти лет от роду, для него по-прежнему был высшим авторитетом.
Долго еще бродил я со стариками по благодатным лесам родного Пинежья, долго еще быль и небыль сплетались и путались в наших разговорах, а потом Михей Кирьянович вдруг спохватился: солнышко из избы ушло. Заболтались, мол, про дела забыли.
Наступило всеобщее отрезвление. Мы вернулись к жизни.
1974