Текст книги "Религия как дар. Педагогические статьи и доклады"
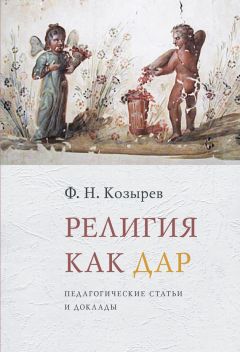
Автор книги: Федор Козырев
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Часть II
Теоретические вопросы преподавания религии и воспитания ценностей
Религия как дар: личностные аспекты преподавания религиозной культуры в школе[134]134
Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Школа и православная культура: философия, педагогика, практика», Валдайский Иверский монастырь, 3 октября 2012 г. Публикуется впервые.
[Закрыть]
«Религия как дар» – это обозначение особого понимания целей, задач и методов преподавания в школе предметов духовно-нравственного содержания, особой, как принято говорить вслед за Т. Куном, парадигмы, которую можно также назвать парадигмой гуманитарного религиозного образования. В одноименной монографии 2010 г. мною дано системное описание этой концепции, так что желающие могут узнать подробнее, что здесь имеется в виду.
Представление о существовании такого парадигмально нового вида образовательной деятельности сложилось у меня в результате многолетнего изучения инноваций, появившихся в мировой теории и практике школьного религиозного образования за то время, пока в нашей стране шла беспощадная борьба с религиозными пережитками прошлого. Главным итогом этих исследований стало убеждение в том, что за прошедшие полвека в мире стало складываться новое видение роли религии в школе, которое существенно отличается как от традиционных конфессионально-катехизических практик, повсеместно распространенных в Европе до начала ХХ века, так и от альтернативного научно-объективного религиоведческого подхода. На Западе наиболее популярной типологией, отражающей эту трихотомию, стало предложенное М. Гриммитом различение обучения в, о и у религии. В моем представлении эти три типа религиозного образования можно назвать соответственно «религия как закон», «религия как факт» и «религия как дар». Главным отличием третьего пути к преподаванию и изучению религии следует считать повышенное внимание, которое в нем отводится личностному измерению религиозной жизни – внимания, которого недостает ни первому, ни второму подходу. Часто противопоставляя классический Закон Божий идее научного изучения религии, мы не замечаем, что помимо противоположности, есть и то, что их объединяет. Это недоверие к субъективному элементу в познании, к персонализированному восприятию и личной интерпретации. В. В. Розанов замечательно тонко заметил в свое время, что в письмах законоучителей, с которыми он знакомился по долгу редакторской службы, явно прочитывалось их желание «приравнять свой “предмет” к науке». В этой-то их тенденции, как считал Розанов, и надо видеть объяснение того, почему их труд «не вызывает никакого религиозного света и даже до известной степени производит атрофию самой религиозной восприимчивости в детях и юношах. Религия вовсе не наука; и представляет глубокую педагогическую ошибку, а главное, религиозную ошибку, – писал Розанов, – подходить к ней с приемами наукообразной передачи и наукообразного усвоения»[135]135
Розанов В. В. Слово Божие в нашем учении // Около церковных стен. М., 1995. С. 79.
[Закрыть]. Гуманитарное религиозное образование, акцентирующее субъективность учителя и учащегося в их взаимодействии с религиозными содержаниями, противостоит этой тенденции, равным образом присущей религиоведческому и катехизическому подходам.
Я попытаюсь раскрыть сегодня концепцию «религии как дара» в двух аспектах, касающихся личности учителя и личности ученика. Подойти к этому мне поможет известный евангельский образ сеятеля. Этим образом, кстати, открывается и наша программа «Духовно-нравственные беседы», разработанная на основе концепции гуманитарного религиозного образования. Учителя наши, с легкой руки Некрасова, уже привычно ассоциируют себя с «сеятелями знанья на ниву народную», к которым поэт обращает свой знаменитый стих. Однако в области религиозного воспитания и образования такая ассоциация не совсем оправдана, ибо она затемняет фигуру истинного Сеятеля, о котором иносказательно говорит притча. Перекличка с другими словами Евангелия здесь оказывается особенно кстати: «…не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос» (Мф 23:8).
Идея сеяния, вдохновляющая многих православных учителей, настораживает еще и потому, что она отчетливо ориентирует учителя, берущегося за уроки религиозного образования, на осуществление церковной миссии. Что еще подобает сеять на таких уроках, как не Слово Божие? Но именно такая перспектива осуществления церковной миссии под эгидой образования была главным камнем преткновения на пути возвращения религиозных предметов в программы общеобразовательных светских школ. И именно она стала главной причиной печальной необходимости разделять школьников при прохождении духовно-нравственного образования на конфессиональные группы – разделения, которое, на мой взгляд, не оправдано ни исторически, ни педагогически.
Есть страны и города, в которых учащихся не разделяют, хотя общество там тоже не едино в конфессиональном отношении, а программы религиозного образования формируются при активном участии религиозных объединений. Я имею в виду, например, Англию или немецкий город Гамбург, в котором программа совместного изучения разных религий была разработана Евангелической Церковью Германии. Этот опыт имеет особую значимость для России, потому что в нашей стране в отличие от большинства европейских стран несколько поколений граждан учились без конфессионального разделения.
Есть третья причина, по которой образ сеятеля не вполне соответствует профессиональному кредо учителя. Педагогическая мысль прошла большой путь со времен Некрасова, и сегодня дело воспитания рассматривается как двусторонний процесс, в котором моменты инициации, активации восприимчивости, повышение уровня мотиваций субъекта, настройка и перестройка его личностных конструктов, т. е. все то, что отвечает за активность учащегося в интериоризации внешних содержаний и ценностей, оттесняет на второстепенное место момент собственного предъявления личности этих содержаний. Мы вступили в век не только преизбытка информации, но и в век технологий глубокого воздействия на личность со всеми вытекающими отсюда опасностями и возможностями.
Говоря языком евангельской притчи, это означает, что современная педагогическая мысль видит главную проблему не в недостатке сеятелей или семян – их как раз слишком много, – а в том, чтобы добрые семена приживались и давали всходы. Важно не столько донести правильное содержание до ученика, сколько обеспечить живой отклик на это содержание с его стороны. Только в этом случае учитель не уподобится другому сеятелю, воспетому нашей классической поэзией, – сеятелю Пушкина, с горечью признавшему, что, выйдя сеять «рано, до звезды», потерял он «только время, благие мысли и труды». Евангельская притча раскрывает нам целый ряд причин, по которым семя может не прижиться в земле, но умалчивает о том, что же это за добрая земля, принесшая плод в тридцать, шестьдесят или во сто крат. Может быть, это врожденная природа человека – то, что мы называем наследственностью? Но одной из безусловных аксиом педагогического кредо, идущего от Аристотеля, является вера в возможность усовершенствования этой природы воспитанием. В свете этой веры учитель предстает в образе делателя, подготавливающего землю к приему слова.
Да, учитель – прежде всего пахарь, возделыватель человеческой души, и здесь вполне релевантны и те коннотации, что связывают его работу – культивацию земли – со словом «культура», и те, что в русском языке связывают пахоту с тяжелым и всегда технологизированным трудом.
Конечно, учитель занят и непосредственной передачей, трансляцией культурных содержаний, и в этом смысле он всегда и сеятель тоже. Но, настраиваясь на работу учителя религии или духовного воспитателя в школе, он не должен полагать свою задачу и свою силу в том, чтобы просто набросать семян в землю, – как попало, но как можно больше, а там уж как Бог даст. Такая стратегия, очень часто свойственная добрым, верующим, но не в меру ревностным или не в меру наивным учителям, обычно заканчивается ощущением того, что они кощунственно мечут бисер там, где этого делать не надо бы.
Таинство и тайна педагогического процесса в том, каким образом при участии личности педагога внешние содержания превращаются во внутреннее достояние ученика. Глубина этой тайны такова, что нам трудно сказать, является ли это превращение результатом пробуждения внутреннего религиозного дара, дремавшего в природе ученика, или обогащением его тем, чего прежде в нем не было. Ясно только, что роль учителя исключительно важна, и та пища, которую он, как пеликан, принес в клюве ученикам, будет принята или отторгнута и станет причиной здравия или болезни не только вследствие собственно пищевых свойств и не только вследствие личностных качеств приемлющего, но и вследствие личностных качеств того, кто принес это содержание. У меня есть очень личное свидетельство справедливости этого тезиса. Мне довелось учиться у гениального учителя литературы – Ираиды Серафимовны Грачевой. И вот, за год до того, как она пришла к нам в класс, мы дружно ненавидели уроки литературы, поскольку нам диктовали на них какие-то непонятные тексты и потом заставляли их перечитывать и заучивать.
Через несколько месяцев после встречи с И. С. Грачевой мое представление о художественной литературе претерпело чудесную трансформацию. Я стал понимать и любить ее, стал читать. Каково же было мое изумление, когда много лет спустя я узнал, что те ненавистные тексты, которые нам читали до прихода И. С. Грачевой, были написаны ею самой, для того чтобы учитель, не имевший литературного образования, мог хоть как-то провести уроки литературы (найти другого выхода школа тогда не смогла). Это были те самые слова, которые позже произвели во мне столь разительную перемену, открыли мне новый мир! Их диктовал человек, для которого идеи и верования, выраженные этими словами, были чужды. Оказались они чуждыми и для учеников.
Итак, первое, что необходимо учителю религиозной культуры, – это определенная степень личной религиозной одаренности. Религия, чтобы стать даром для ученика, должна быть прежде даром для учителя, ощущаться и пониматься им как дар. Ушинский считал, что человек внутренне чуждый религии, вообще не должен работать в школе. Может быть, это слишком сильное требование для светской школы, но для уроков религии оно, пожалуй, подходит. Здесь мы тоже можем найти множество красочных аналогий, иллюстрирующих это требование, наиболее известная из которых – аналогия с учителем музыки лишенным слуха. Важно только, чтобы религиозная одаренность не путалась с официальной принадлежностью и не мерялась по формальным критериям. В этом случае, как и везде, критерием профессиональной пригодности должны быть плоды.
Но это не единственное требование к учителю. От него, как определил современный немецкий педагог Фридрих Швайцер, можно требовать определенной степени рефлексивности в отношении своей веры, позволяющей ему критически воспринимать собственные убеждения и собственный жизненный путь, приведший к религии. Здесь нет возможности углубляться в вопрос о том, может ли человек совмещать твердую веру и убеждения с критикой и скептицизмом. Я только могу сказать, что в западной философии образования этот вопрос вызвал в свое время нешуточные споры и подвергся самому пристальному рассмотрению с гносеологических и этических позиций. Мое впечатление, что он разрешился полностью в пользу положительного ответа. Да, человек способен совмещать эти состояния, так же как он способен без раздвоения сердца и ума совмещать глубокую личную веру в Бога с атеистической профессиональной установкой в своей научной работе. Но в данном случае речь идет о другом. В определении Швайцера речь просто о том, что школьный учитель религии не должен быть религиозным фанатиком. Он должен обладать развитой культурой ума, не позволяющей ему оставлять в багаже своих убеждений большие массы неотрефлексированного или – что еще хуже – табуированного для рефлексии материала. Дело не только в том, что учителю по роду своей деятельности придется ученикам что-то доказывать, для чего необходимо вставать на критическую позицию. Без этого он просто не сможет выполнять ту очень важную задачу, которую некоторые педагоги, включая Бенеке, вообще считали основной задачей религиозного образования в школе, определяя ее как обеспечение «согласия ума с высшими потребностями нравственного чувства». Дело еще и в том, что слепая приверженность учителя вере запечатлеет в умах учеников искаженный образ религиозной веры как недотроги, боящейся взглянуть на себя, чтобы не исчезнуть. Ведь учитель по причине, о которой я скажу ниже, всегда транслирует не только религиозное содержание, но и тип религиозности, то есть модус личного отношения к этому содержанию.
Еще фанатиком учитель не должен быть потому, что религиозный фанатизм тяготеет к индоктринальным формам преподавательской деятельности, порой эффективным, но очень сомнительным с точки зрения выполнения образованием развивающих функций. Индоктринация как целенаправленное ограничение круга вопросов, в которых человек свободен осуществлять самостоятельный выбор и формировать собственную независимую позицию, противоречит педагогической идее в своей основе. Она способствует формированию религиозной гетерономии, а пребывание в религиозной гетерономии, как писал замечательный православный мыслитель и педагог И. Ильин, «неверно и противодуховно»: на веки осужденный быть в религии несовершеннолетним и опекаемым, религиозно гетерономный человек «сам не замечает того оттенка презрения, который ложится на всю его жизнь»3. Это путь ведущий, по словам Ильина, не к воспитанию, а к повреждению человеческой души.
Наконец, третье требование к учителю религии – знание своего предмета. Здесь опять это общее для всех учителей-предметников требование обретает особую сложность и остроту, которые обусловлены прежде всего исторически сложившимся особым положением религии в школе. После того как школы в Европе постепенно перешли из ведения церкви в ведение государства, религиозное образование в большинстве стран административно сохранилось за церковью, и только во второй половине ХХ века это положение дел стало активно переосмысливаться и меняться в свете новых социокультурных реалий. Действительно, насколько оправдано такое особое положение религиозных дисциплин с педагогической точки зрения? Оправдана ли необходимость непосредственного контроля качества проектирования и преподавания «своего» предмета со стороны религиозных объединений в большей степени, чем преподавания физики со стороны Академии наук или преподавания искусств со стороны соответствующих академий? Чем она оправдана? Большей сложностью богословия по сравнению с физикой и культурологией? Едва ли. Другое возможное объяснение состоит в том, что церковь и другие религиозные объединения, выступая в качестве субподрядчиков, которым государство препоручило решение определенных задач образовательной политики, находят научные и этические устои педагогического сообщества настолько несовместимыми с собственными, что вынуждены формировать альтернативную педагогическую науку и практику. Было бы крайним бедствием для школы внесение такого глубокого разделения в ее жизнь.
На самом деле, вопрос о непосредственной привязке качества преподавания религиозных предметов к богословской экспертизе поднимался давно. Л. Н. Модзалевский писал в конце XIX века, что «педагогика… так же мало заимствует свои законы из теологии, как и архитектура или живопись. Ученый теолог может быть очень плохим педагогом и на воспитание он может иметь не больше прав, чем. врач или юрист»[136]136
Модзалевский Л. Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен: В 2 т. Т. 2. СПб.: Алетейя, 2000. С. 182.
[Закрыть]. Поразительно, но размышления на эту тему мы находим уже в XVII веке, в трудах Коменского. Поделюсь малоизвестной цитатой этого великого педагога, которую подарила мне крупный отечественный исследователь его творчества С. М. Марчукова. Коменский пишет: «Если бы нашелся какой-нибудь педант, который считал бы, что призвание богослова не позволяет заниматься вопросами школы, то пусть он знает, что в самой глубине моей души пребывала эта мучительная мысль»[137]137
Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1982. С. 248.
[Закрыть].
Наука ХХ века представила новые аргументы в пользу того, что принцип академической автономии педагогики необходимо распространять и на область религиозного образования. Помимо возросших требований к методологической культуре педагога, к применению научно обоснованных педагогических исследований в области религиозного развития личности эти аргументы исходят и из того парадигмального поворота в ви́дении роли религии в школе, который мы связываем с понятием гуманитарного религиозного образования. Это новое видение, согласно П. Ф. Каптереву, должно исходить не из социального заказа, но из понимания необходимости воспитывать человека как существо, снабженное религиозным сознанием. Замечательно то, что в движении к этому новому ви́дению активную роль и в Европе, и в среде русской интеллигенции сыграли многие церковные мыслители и богословы. Достаточно вспомнить В. В. Зеньковского, ратовавшего за становление христианской школы, «внутренне, а не внешне проникнутой началами христианства, руководимой духом Церкви, а не ее властью»[138]138
Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Школа-пресс, 1996. С. 25.
[Закрыть].
Конечно, принцип академической автономии не предполагает того, что учитель может игнорировать богословское знание и руководствоваться в своей деятельности сугубо личными мистическими экзальтациями или вкусовыми пристрастиями. Он не предполагает также устранения Церкви от дела воспитания. Сто лет назад П. Ф. Каптерев написал строки, поразительно актуальные сегодня: «Охранение автономии педагогического процесса не предполагает устранения влияния церкви или государства на образование. Оно просто означает устранение спутанности процессов и выяснение “несбыточности надежд, возлагаемых на педагогический процесс” при его спутанности. И государство, и церковь имеют право требовать, чтобы педагогический процесс и воплощающие его учреждения не служили орудием для врагов государственных и церковных начал. (Но) По самой своей сущности педагогический процесс должен оставаться совершенно чуждым какой бы то ни было партийности, гражданской или церковной, будет ли эта партийность иметь направление, согласное с господствующим в церкви и государстве настроением и тоном или несогласное, будет ли она, словом, за государство и церковь или против государства и церкви. <…> Вся положительная творческая сторона образования, его внутренний строй и характер должны определяться задачами и свойствами педагогического процесса»[139]139
Каптерев П. Педагогический процесс // Избранные педагогические сочинения / Под ред. А. М. Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. С. 213.
[Закрыть].
Свобода от партийности, о которой говорит Каптерев, не означает, что учитель может на уроках нести все, что ему захочется, и представлять изучаемую религиозную традицию в каком угодно свете. Принцип академической автономии означает не сужение, а расширение зоны ответственности учителя, ибо в соответствии со сказанным выше учитель отвечает теперь не только за то, чтобы адекватно представить содержание вероучения, но и за то, чтобы знакомство учащегося с этим содержанием оказало благотворный педагогический эффект. Здесь компетенция учителя явно выходит за пределы того, что может подчиняться богословским критериям качества, хотя бы потому, что научное изложение науки и педагогическое изложение науки – вещи весьма различные, как заметил еще Ушинский. Интересы педагогической адаптации транслируемых знаний очень часто входят в конфликт с интересами их пунктуальной репрезентации. В связи с этим развитие системы образования в истории нашей цивилизации пошло по пути, при котором прямое соприкосновение учащегося с наукой наступает только на стадии университетского образования, а в школе оно опосредуется педагогическими структурами. С некоторым запозданием этот общий подход распространяется сегодня и на религию. Религиозное образование переводится, так сказать, с теологических на педагогические рельсы. Самыми яркими знаками этого становятся все более распространяющаяся в Европе практика подготовки учителей религии на педагогических, а не на богословских факультетах, появление научных педагогических журналов, целиком посвященных вопросам религиозного образования, развитие фундаментальных педагогических исследований в области религиозного развития человека. Методика и теория религиозного образования становятся все более обычным явлением в системе педагогических наук.
Эти тенденции производят лучший эффект, когда сопровождаются укреплением междисциплинарной интеграции между педагогикой и богословием. На самом деле, сегодня у мечты Зеньковского о школе, проникнутой духом христианства, есть более серьезные объективные основания, чем в его время, и связаны они как в целом с ситуацией постмодерна, так и с новой ситуаций в теории познания. Сегодня в трудах и педагогов, и богословов часто можно найти утверждение о конвергенции, растущем сближении некогда сильно расходившихся взглядов педагогики и богословия на природу человека. Весьма значительную роль в этом обретении большего взаимного доверия двух наук сыграла феноменология, и я хотел бы в конце своего выступления уделить внимание этому интересному и важному аспекту гуманитарной методологии преподавания религиозных предметов.
В истории становления гуманитарной парадигмы религиозного образования феноменологам принадлежит роль первопроходцев. Это сейчас мы чаще слышим о нарративных, экзистенциальных, диалоговых или интерпретативных подходах, о построении религиозного образования на герменевтической или конструктивистской основе. А 40–50 лет назад все начиналось с того, что идеи феноменологии проникли в педагогическую среду и впервые заставили педагогов поверить в то, что ранее считалось невозможным: в то, что при преподавании религии можно избежать идеологической избирательности интерпретаций религиозных переживаний и представлений; в то, что можно найти такую методологическую установку, которая окажется приемлемой и с позиций науки, и с позиций веры; что такая установка позволит участникам педагогического процесса возрастать в религиозном понимании и взаимопонимании, не навязывая и даже не предполагая общности взглядов на достоверность религиозных верований. Этой уникальной находкой феноменология обязана двум обстоятельствам: во-первых, смелому и честному отказу от диктата существовавших тогда научных методологий и стремлению увидеть религию глазами верующего. Это стремление лежало в основе всех феноменологических исканий. Во-вторых, прямо унаследованному от гениального Канта умению правильно определять и удерживать предмет своего исследования. Предмет феноменологии – религия, т. е. отношение человека к трансцендентному, а не трансцендентное само по себе. Именно поэтому феноменология может терпеть рядом с собой богословие, а богословие может терпеть феноменологию.
Вследствие указанной методологической установки центральной для феноменологического рассмотрения оказалась категория религиозного опыта. А это, в свою очередь, позволило перенести внимание с социокультурных на личностные аспекты религиозной жизни, т. е. совершить то самое вдвижение парадигмы внутрь человека, которое является определяющей чертой гуманитарного подхода. Сам религиозный опыт не должен восприниматься как нечто лежащее сугубо в субъективной сфере. В глазах верующего человека, а значит и с позиции последовательной феноменологии, религиозный опыт есть встреча с трансцендентным, или, используя христианскую терминологию, – встреча с Откровением Божьим в ответ на духовное взыскание человека. В этом опыте религиозный дар вполне открывает свою диалектическую природу, будучи и причиной, и результатом этой таинственной встречи. Но в религиозный опыт незримо входит и третий пласт религиозной жизни – то самое, что мы называем религиозной культурой. Он присутствует в религиозном опыте в виде культурно обусловленных стимулов и ожиданий, в виде тех самых предсуждений, которые в конечном итоге будут определять и направлять характер интерпретаций. Ведь, как заметил уже Д. Локк, любой самый элементарный опыт включает в себя первичную интерпретацию восприятий. Итак, религиозный опыт оказывается средоточием трех элементов, которые И. Ильин определил как религиозный Предмет, религиозное содержание и религиозный акт.
Надо сказать, что феноменологические представления Ильина, изложенные главным образом в его последнем труде «Аксиомы религиозного опыта», имеют огромное, непреходящее и пока еще очень мало оцененное значение для развития теории религиозного образования. О содержании этой книги можно говорить бесконечно. Для раскрытия нашей темы наибольшую ценность представляет внесенное Ильиным разграничение религиозных содержаний и религиозного акта и убеждение в том, что религиозные содержания (т. е. то, что мы называем религиозной культурой) нельзя изучать в отрыве от религиозного акта (т. е. того, что мы определяем понятиями религиозного чувства, религиозной восприимчивости и веры). Насколько решителен был Ильин в этом своем убеждении, свидетельствует следующий отрывок из названной книги: «Мало “признать” какое-либо вероисповедание: надо принять его верным актом. Ни одна церковь не имеет ни права, ни основания “распространять среди людей свое исповедание во что бы то ни стало”… не заботясь об автономном приятии и о верном акте. Напротив: лучше оставить человека в искреннем буддийском благочестии, чем сделать из него католического лицемера и невера. <…> Если бы человечество усвоило первую и основную аксиому религиозного опыта, гласящую, что “искренняя вера невозможна без свободы”, то оно поняло бы, что свободное и искреннее религиозное заблуждение есть все же вера, тогда как навязанное и неискреннее религиозное правоверие есть могила веры»[140]140
Ильин И. Аксиомы. С. 124, 161.
[Закрыть].
Мысль Ильина звучит чистым камертоном для педагогического ума, пытающегося настроиться на гуманитарный лад. Гуманитарному настрою чуждо представление о том, что религиозное содержание действует само по себе. Такое представление принижало бы меру свободы, данную человеку. Всякое содержание и смысл открываются индивидуальному сознанию синергетически, при содействии человека. Поэтому, говоря о религиозной культуре, Ильин вкладывал в это понятие несколько иной, я бы сказал, более богатый педагогический смысл, чем это часто делается сегодня. Он, как и Гессен, говорил об индивидуальной культуре, разумея под этим личный и всегда своеобразный путь вхождения человека в культуру, в данном случае – в традицию православия. Он говорил о призвании каждого человека «творить культуру своего религиозного опыта». «Перед своим религиозным опытом современный человек не имеет права стоять в беспомощности и недоумении: он должен активно и ответственно строить его и владеть им, как верным путем, ведущим к Богу»[141]141
Ильин И. Аксиомы… С. 38.
[Закрыть]. «Не зная, к чему он предопределен, человек всегда сохраняет возможность жить и действовать в качестве предопределенного не к безбожию, а к богосозерцанию. Дан ему свыше соответствующий дар или не дан, он решить не в состоянии и поэтому ему следует пытаться отыскать в себе этот дар, пробудить его, развить и укрепить»[142]142
Там же. С. 154.
[Закрыть].
В этом-то именно смысле – в смысле помощи молодому человеку ответственно распорядиться своим религиозным даром – я считаю не только преподавание, но и воспитание религиозной культуры важнейшим делом всякой школы, вполне совместимым и с идей светскости, и с идеей педагогической автономии.









































