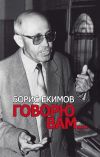Текст книги "Книга разлук. Книга очарований"

Автор книги: Федор Сологуб
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Ради Бога, – вскрикнула Нина, – подождите, подождите до завтра. Клянусь вам, теперь я не могу. Я скажу вам завтра. Завтра, когда его… когда Сережу… ради Бога.
Плакали обе, обнимая одна другую. И вдруг мать оттолкнула Нину.
– Не даст вам Бог счастья, если он из-за вас! – плачущим воплем слабо вскрикнула она, и бросилась рыдая из комнаты.
Отец быстро ушел за нею. Нина осталась одна.
День проходил тупо и вяло, в смятении мыслей и мечтаний. Перечитывала письмо милого. Думала боязливо:
«А если придет та, другая, злая?»
Горько было думать, что придется отдать ей милые странички, исписанные мелким, торопливым, четким почерком. И утешая себя, опять думала:
«Да нет, не придет…»
Нетерпеливо ждала вечера, – идти опять на панихиду, в гроб милому положить белую розу, у гроба его оставить белый венок опечаленной невесты. И узнать, пришла ли злая разлучница.
Докучные, лишние, пламенные влачились минуты змеино-солнечного дня.
Поели обеда Нина сказала Наташе:
– Последняя отрада – получить письмо от милого. Я его получила.
Наташа с удивлением смотрела на узкий зеленый конверт. Нина в первый раз заметила на конверте надпись. Прочла:
«Опечаленной невесте».
Та, другая, не приходила. Ее не было ни на вечерней панихиде, где белый лег венок на ступени черного катафалка, и у черных волос милого упала белая роза, подарок невесты. Ее не было и на выносе, и на отпевании.
И красота невестиной печали ничем не была нарушена.
По знойным утренним улицам равнодушно-шумного города, за гробом, по пыльной мостовой шла Нина с родителями своего жениха. Кто-то из его родных, элегантно одетый и красивый господин с седеющими усами и прямым станом отставного офицера, вел Нину под руку.
Красота ее печали влеклась по безобразию пыльных, знойных улиц, под неистовым пыланием древнего Змия, среди минутно тронутых и крестящихся прохожих, – роковая красота печали влеклась на сером и злом безучастии Айсы.
Устала, но не хотела сесть в карету. И смертельно устала. Усталость венчала красоту ее печали, и милая томность ее лица была еще более трогательна этим чужим людям.
Скорбный долог был обряд, потому что не жалели денег, и в красивой церкви хорошо пел отличный хор певчих. Обряд, утешающий слабых, – но какое утешение мог дать Нине, бедной невесте жениха, только из-за гроба сказавшего ей слова любви, но и слова укора? И думала она:
«Куда же я должна вернуться, чтобы утешить его? Чтобы не остаться, по его откровенно милому слову, порядочною дрянью, малодушно отвернувшейся от света?»
И казалось ей, что она знает, куда пойдет, и чем его утешить.
Могила. Брошены последние горсти земли.
Рыдали мать и невеста – некрасивая, старая, родная ему, с покрасневшим носом, сгибалась, сбивая на бок шляпу, и молодая, бледная, заплаканная девушка, чужая ему при жизни и теперь единственно близкая ему.
И они остались одни над свежею могилою, – одна не берегла сына, и сердце его было ей темно, и помыслы непонятны и чужды, – и другая; на нее ни разу не глянули его милые очи, но ей открылось его сердце, – слабое, изнемогшее от непосильного бремени земное сердце человека, который хотел великого подвига и не мог его совершить.
«Милый, – шептала она, – я знаю путь, которым надо идти, чтобы с тобою быть, чтобы тебя утешить. Ты не мог, ты ослабел от печали, тебе темно и холодно в могиле, но ничего, не бойся, я сделаю все, что было твоим делом. И если на твоем пути есть страдания, они будут моими».
Смотрели одна на другую. Нина думала:
«Что скажу ей? Чем ее утешу?»
Сказала ей тихо:
– Вы сказали вчера, что Бог не даст мне счастья, если он умер из-за меня. Видит Бог, что я в этом нисколько не виновата. Но на что же мне счастье, если он, милый мой, в могиле? Я не умела быть с ним вместе, когда он был жив, но поверьте что я всегда буду верна его памяти. И то, что он мне завещал, исполню, – и его любовь будет моею любовью, его друзья моими друзьями, его ненависть моею ненавистью, и то, отчего погиб он, понесу я.
Прятки
I
В детской у Лелечки было светло, красиво и весело. Звонки Лелечкин голос радовал маму. Лелечка – прелестный ребенок. Ни у кого нет другого такого ребенка, и никогда не было, и не может быть. Серафима Александровна, Лелечкина мама, уверена в этом. Глаза у Лелечки черные, большие, щеки румяные, глаза созданы для поцелуев и для смеха. Но не в этом самая большая, самая милая для Серафимы Александровны Лелечкина прелесть.
Лелечка у мамы одна. Поэтому-то каждое Лелечкино движение чарует маму. Что за блаженство, – держать Лелечку у себя на коленях, ласкать ее, чувствовать под руками маленькую девочку, бойкую и веселую, как птичка!
Сказать по правде, только в детской и весело, Серафиме Александровне. С мужем ей холодно.
Может быть, это потому, что он и сам любит холод, – холодную воду, холодный воздух. Он – всегда свежий и холодный, с холодной улыбкой, – и где он проходит, там словно пробегают в воздухе холодные струйки.
Неслетьевы, Сергей Модестович и Серафима Александровна, поженились не по любви, и не по расчету, а потому, что уже так принято. Молодой человек, – тридцати пяти лет, – и молодая девица, – двадцати шести, – оба одного общества и хорошо воспитанные, сошлись: ему следовало жениться, ей настала пора выйти замуж.
Серафиме Александровне казалось даже, что она влюблена в жениха, и это очень веселило. Он был изящный, ловкий, сохранял всегда значительное выражение в умных серых глазах, и с безукоризненною нежностью выполнял жениховские обязанности.
Сергей Модестович не чувствовал себя влюбленным, и ему не было особенно весело, а только приятно, – как, впрочем, и все в его ровной, умеренной жизни.
Невеста была красива, не слишком, впрочем, – высокая, черноглазая, черноволосая девица, державшаяся нисколько застенчиво, но с большим тактом. За приданым он не гнался, – но ему доставляло удовольствие знать, что у жены есть что-то. Он имел связи, и у жены были хорошие, влиятельные родственники. Когда-нибудь, при случае, это могло пригодиться. Всегда корректный и тактичный, Неслетьев двигался по службе не так скоро, чтоб ему завидовали, но и не так медленно, чтобы завидовать другим, – и в меру и в пору.
После того, как они сочетались, Сергей Модестович ни разу, во внешнем и показном своем поведении, не дал жене повода обвинить себя. Потом, уже когда Серафима Александровна была в интересном положении, у Сергея Модестовича завязались легкие, непрочные связи на стороне. Серафима Александровна узнала об этом, – и, к удивленно своему, не особенно огорчилась; она ждала ребенка с тревожным, поглощающим ее чувством.
Родилась девочка. Серафима Александровна предалась заботам о ней. Вначале она с восторгом сообщала мужу радующие ее подробности из Лелиной жизни. Но скоро она заметила, что Сергей Модестович выслушивал ее без всякого живого участия, единственно только по светской любезной привычки. Серафима Александровна стала все больше отдаляться от него. Она любила девочку с неудовлетворенною страстностью, как другие женщины, ошибочно устроившие свою судьбу, изменяют мужьям для случайных молодых людей.
– Мамочка, поиграем в прятки, – кричала Лелечка, выговаривая р, как л, так что выходило вместо «в прятки» – «в плятки».
Эта милая неумелость говорить заставляла Серафиму Александровну нежно и растроганно улыбаться. Лелечка побежала, топоча по коврам маленькими, пухлыми ножками, и спряталась за занавесками у своей кроватки.
– Тю-тю, мамочка! – закричала она смеющимся, нежным голоском, выглядывая одним черным, плутовским глазком.
– Где моя деточка? – спрашивала мама, притворяясь, что ищет Лелечку и не видит ее.
А Лелечка заливалась звонким смехом в своем убежище. Потом она высунулась побольше, – и мама как будто сейчас только увидала ее, и взяла ее за плечики, радостно восклицая:
– А, вот она, моя Лелечка!
Долго и звонко смеялась Лелечка, приникнув головою к маминым коленям и барахтаясь в маминых белых руках, – возбужденно и страстно горели мамины черные глаза.
– Теперь ты, мамочка, прячься, – сказала Лелечка, уставши смеяться.
Мама пошла прятаться; Лелечка отвернулась, – будто бы не смотрит, – а сама исподтишка наблюдала, куда пойдет мамочка. Мама спряталась за шкапом, и крикнула:
– Тю-тю, деточка!
Лелечка побежала вокруг комнаты, заглядывая во все уголки, притворяясь, как давеча мама, что ищет, – хоть сама хорошо знала, где стоит мамочка.
– Где моя мамочка? – спрашивала Лелечка. – Здесь нет… и здесь нет… – говорила она, пробегая к другому уголку.
Мама стояла, притаив дыхание, с прислоненною к стене головой, с примятой прической. Блаженно-тревожная улыбка играла на ее румяных губах.
Нянька Федосья, глуповатая на вид, но добрая, красивая женщина, ухмылялась, смотрела на барыню с тем обычным у нее выражением, как будто она согласна не спорить против барских затей, и думала про себя:
«И мать-то, ровно дите малое, ишь как разгоралась».
Лелечка приближалась к мамину углу, – а мама все больше волновалась, входя в интерес игры; мамино сердце усиленно и коротко билось, и она теснее прижималась к стене, и приминала свои волосы. Лелечка заглянула в мамин угол, и взвизгнула от радости.
– Насла! – закричала она громко и радостно, нечисто выговаривая звук ш и опять веселя этим маму.
Она потащила маму за руки на середину комнаты – обе радовались и смеялись, – и опять Лелечка упала головою к маминым коленям, и лепетала, лепетала без конца милые словечки, так славно и неловко их выговаривая.
Сергей Модестович подходил в это время к детской. Сквозь неплотно затворенные двери он услышал смех, радостные восклицания, шум от возни. Холодно, но любезно улыбаясь, вошел он в детскую, свежий, прямой, одетый безукоризненно, распространяя вокруг себя веяние чистоты, свежести и холода. Он вошел среди оживленной игры, – и всех смутил своим ясным холодом. Даже Федосья застыдилась, не то за барыню, не то за себя самое. Серафима Александровна сразу сделалась спокойной и, по-видимому, холодной, – и это ее настроение сообщилось девочке, которая перестала смеяться, и молча и внимательно смотрела на отца.
Сергей Модестович беглым взглядом окинул комнату. Все здесь ему приятно: обстановка красивая, – Серафима Александровна заботится о том, чтобы девочку, с самого нежного возраста, окружало только прекрасное. Одета Серафима Александровна нарядно и к лицу, – это она всегда делает для Лелечки с тем же расчетом. Одного только Сергей Модестович не мог одобрить, – того, что жена почти постоянно в детской.
– Мне надо было сказать… Я так и знал, что найду тебя здесь, – сказал он с улыбкой насмешливой и снисходительной.
Они вышли вместе из датской. Пропустив Серафиму Александровну в дверь кабинета, Сергей Модестович сказал равнодушно, как бы вскользь и не придавая значения своим словам:
– Ты не находишь, что девочке полезно бы иногда обойтись без твоего общества? Понимаешь, чтобы ребенок почувствовал свою отдельную личность, – пояснил он в ответ на удивленный взгляд Серафимы Александровны.
– Она еще так мала, – сказала Серафима Александровна.
– Впрочем, это так, только мое скромное мнение. Я не настаиваю, – там ваше царство.
– Я подумаю, – отвечала жена, улыбаясь, как и он, холодно и любезно.
И они заговорили о другом.
II
Вечером нянька Федосья рассказывала в кухне молчаливой горничной Дарье и любящей рассуждать старухе кухарке Агафье о том, что маленькая барышня уж так-то полюбила играть с барыней в прятки, – спрячет личико, и кричит: тю-тю!
– И сама-то барыня ровно дите малое, – говорила Федосья, ухмыляясь.
Агафья слушала, неодобрительно покачивая головою, и лицо ее сделалось строгим и укоряющим.
– Что барыня, известно, ей ни к чему, – сказала она, – а вот что барышня-то все прячется, не хорошо это.
– А что? – с любопытством спросила Федосья.
Ее доброе румяное лицо от этого выражения любопытства сделалось похожим на лицо деревянной, грубо раскрашенной куклы.
– Да нехорошо, – повторила с убеждением Агафья, – да и как еще нехорошо!
– Ну? – переспросила Федосья, усиливал на своем лице смешное выражение любопытства.
– Прячется, прячется, да и спрячется, – таинственным шепотом сказала Агафья, опасливо посматривая на дверь.
– Да что ты говоришь? – с испугом воскликнула Федосья.
– Верно говорю, вот попомни мое слово, – уверенно и так же таинственно сказала Агафья, – уж это самая верная примета.
Но эту примету старуха придумала сама, внезапно, и теперь, очевидно, весьма гордилась ею.
III
Лелечка спала, а Серафима Александровна сидела у себя, и радостно и нежно мечтала о Лелечке. Лелечка в ее мечтах была милой девочкой, потом милой девушкой, потом опять прелестной девочкой, и все, без конца оставалась маминой Лелечкой.
Серафима Александровна и не заметила, как пришла Федосья и остановилась перед нею. У Федосьи было озабоченное, испуганное лицо.
– Барыня, а барыня, – позвала она тихонько, вздрагивающим, взволнованным голосом.
Серафима Александровна очнулась, Федосьино лицо обеспокоило ее.
– Что тебе, Федосья? – спросила она тревожно. – С Лелечкой что?
Она быстро встала с кресла.
– Не, барыня, – отвечала Федосья, махая руками, чтобы барыня успокоилась и села. – Лелечка спит, Господь с ней. А только я, знаете что, я вам скажу, – Лелечка-то у нас все прячется, – ведь нехорошо это.
Федосья смотрела на барыню неподвижными, округлившимися от страха глазами.
– Чем не хорошо? – с досадой спросила Серафима Александровна, невольно подчиняясь неопределенному беспокойству.
– Да так уж, не хорошо, не гоже, – сказала Федосья, и лицо ее выражало непоколебимую уверенность.
– Говори, пожалуйста, толком, – сухо приказала Серафима Александровна, – я ничего не понимаю.
– Да так, барыня, примета такая есть, – вдруг застыдившись, объяснила Федосья.
– Глупости, – сказала Серафима Александровна. Ей не хотелось больше слушать, что это за примета, что она предвещает. Но стало как то не то, чтобы страшно, а жутко, – и оскорбительно, что какая-нибудь, очевидно, нелепая выдумка разбивает милые мечты и томительно тревожит.
– Что-ж, известно, господа приметам не верят, а только нехорошая примета, – заунывным голосом говорила Федосья, – прячется барышня, прячется…
Вдруг она заплакала, всхлипывая в голос.
– Прячется, прячется, да и спрячется, ангельская душенька, в сырую могилку, – приговаривала она, вытирая слезы передником и сморкаясь.
– Кто это тебе наговорил? – строгим и упавшим голосом спросила Серафима Александровна.
– Агафья говорить, барыня, – отвечала Федосья. – Уж она знает.
– Знает! – досадливо сказала Серафима Александровна, видимо, желая как-нибудь оградиться от этого внезапного беспокойства. – Что за глупости! Пожалуйста, на будущее время не говори мне такого вздора. Иди.
Федосья, с обиженным и унылым лицом, вышла.
«Что за вздор! разве Лелечка может умереть?» – думала Серафима Александровна, стараясь разумными рассуждениями победить ощущение холода и ужаса, охватившее ее при мысли о возможной Лелечкиной смерти.
Серафима Александровна думала, что эти женщины невежественны, и потому верят приметам. Она же ясно понимала, что между детской забавой, которую может полюбить всякий ребенок, и продолжительностью его жизни не может быть никакого соответствия. Она с особенным старанием пыталась в этот вечер заняться чем-нибудь посторонним, – но мысли ее невольно обращались к тому, что Лелечка любит прятаться.
Еще когда Лелечка была совсем маленькая и недавно только научилась узнавать маму и няню, случалось, что она вдруг сделает, взглянув на маму, плутовскую гримаску, засмеется и спрячется за плечо к няньке, у которой сидит на руках. Потом выглянет, и смотрит лукаво.
В последнее время Федосья опять приучила Лелечку прятаться, в те немногие минуты, когда мама уходила из детской; потом мама, увидев, как прелестна Лелечка, когда она прячется, сама стала играть с дочкою в прятки.
IV
На другое утро, поглощенная радостными заботами о Лелечке, Серафима Александровна забыла о вчерашних Федосьиных словах.
Но когда она вышла из датской заказать обед и потом вернулась, а Лелечка спряталась под стол и крикнула оттуда «Тю-тю!», то Серафиме Александровне стало вдруг страшно. Хотя она сейчас же упрекнула себя за этот неосновательный, суеверный страх, все-таки она уже не могла позабавить Лелечку игрою в прятки, и постаралась отвлечь Лелечкино внимание на что-нибудь другое.
Лелечка – ласковая, послушная девочка. Она охотно переходит к тому, чего хочет мама. Но так как она уже привыкла прятаться от мамочки и покрикивать – тю-тю! – из какого-нибудь убежища, то и сегодня она часто возвращалась к этому.
Серафима Александровна усиленно старалась занимать Лелечку. Не так это легко! Особенно, когда беспрестанно мешают тревожный, угрожающая мысли.
«Отчего Лелечка все вспоминает свое тю-тю? Как это ей не надоест одно и то же, – закрывать глаза и прятать лицо? Может быть, – думала Серафима Александровна, – у Лелечки нет такого сильного влечения к миру, как у других детей, который неотступно глядят на вещи. Но если так, то не признак ли это органической слабости? Не зародыш ли это бессознательной неохоты жить?».
Предчувствия томили Серафиму Александровну. Ей стыдно было, перед Федосьей и перед собой, бросить игру в прятки с Лелечкой. Но эта игра становилась для нее мучительной; тем более мучительной, что все-таки хотелось поиграть ею, и все более тянуло прятаться от Лелечки или отыскивать спрятавшуюся Лелечку. Серафима Александровна даже сама иногда затевала эту игру, – с тяжелым сердцем, страдая, как от какого-нибудь дурного дела о котором знаешь, что не надо его делать, и все же делаешь.
Тяжелый день выдался у Серафимы Александровны.
V
Лелечка собиралась спать. Ее глазки слипались от усталости, когда она забралась на кроватку, огороженную сутками. Мама прикрыла ее голубым одеяльцем. Лелечка выпростала из-под одеяльца белые, нежные ручонки и протянула их, чтобы обнять мамочку. Мама наклонилась. Лелечка, с нежным выражением на сонном лице, поцеловала маму, и опустила голову на подушки. Ее руки спрятались под одеялом, и Лелечка прошептала:
– Ручки тю-тю.
Мамино сердце замерло, – Лелечка лежала такая маленькая, слабая, тихая. Лелечка слабо улыбнулась, закрыла глаза, и тихонько сказала:
– Глазки тю-тю.
И потом еще тише:
– Лелечка тю-тю.
С этими словами она заснула, прижимаясь щекою к подушке, закрытая одеяльцем, маленькая, слабая. Мама смотрела на нее тоскующими глазами.
И долго стояла Серафима Александровна над Лелечкиной кроваткой, с нежностью и опасением глядя на Лелечку.
«Я – мать: неужели я не уберегу?» – думала она, воображая разные напасти, которые могут угрожать Лелечке.
Долго молилась она в эту ночь, – но тоска ее не облегчалась молитвою.
VI
Прошло несколько дней. Лелечка простудилась. Ночью у нее сделался жар. Когда разбуженная Федосьею Серафима Александровна пришла к Лелечке и увидела ее, жаркую, беспокойную, страдающую, она вспомнила прежде всего зловещую примету, – и безнадежное в первую минуту отчаяние овладело ею.
Позвали врача, сделали все, что делают в таких случаях, – но неизбежное совершилось. Серафима Александровна старалась утешать себя надеждой на то, что Лелечка выздоровеет и будет опять улыбаться и играть, – но это казалось ей таким несбыточным счастьем! А Лелечка слабела с каждым часом.
Все притворялись спокойными, чтобы не пугать Серафиму Александровну, – но их неискренние лица наводили на нее тоску.
Смертную тоску наводили на нее Федосьины всхлипывания и причитания:
– Пряталась, пряталась Лелечка!
Но мысли Серафимы Александровны были смутны, и она плохо понимала, что делается.
Лелечка вся горела, и поминутно забывалась, и бредила. Но когда она приходила в сознание, она выносила свою боль и свое томление с нужною кротостью, и слабо улыбалась мамочке, чтоб мамочка не думала, что ей очень больно. Томительные, как кошмар, прошли три дня. Лелечка совсем ослабела. Но она не понимала, что умирает.
Она взглянула на мать помутившимися глазами, и залепетала еле слышным, хриплым голосом:
– Тю-тю, мамочка! Сделай тю-тю, мамочка!
Серафима Александровна спрятала лицо за занавесками Лелечкиной кровати. Какая тоска!
– Мамочка! – еле слышно позвала Лелечка.
Мама наклонилась к Лелечке, и Лелечка в последний раз увидала мутнеющими глазами мамочкино бледное, отчаянное лицо.
– Мамочка белая! – прошептала Лелечка.
Бледное мамочкино лицо померкло, и Лелечке стало темно. Она слабо схватилась руками за край одеяла, и шепнула:
– Тю-тю.
Что-то захрипело в ее горле, Лелечка открыла и опять закрыла быстро побледневшие губы… и умерла.
В тупом отчаянии Серафима Александровна оставила Лелечку, и вышла из комнаты. Она встретила мужа.
– Лелечка умерла, – сказала она тихо, почти беззвучным голосом.
Сергей Модестович опасливо посмотрел на ее бледное лицо. Его поразило странное отупение в чертах этого, прежде оживленного, красивого лица.
VII
Лелечку одели, положили в маленький гроб, и вынесли в залу. Серафима Александровна стояла у гроба и тупо смотрела на мертвую дочку. Сергей Модестович подошел к жене и, утешая ее пустыми, холодными словами, старался отвести ее от гроба. Серафима Александровна улыбалась.
– Отойди, – сказала она тихо. – Лелечка играет. Она сейчас встанет.
– Сима, друг мой, не расстраивай себя, – шепотом говорил Сергей Модестович. – Надо покоряться судьбе.
– Она встанет, – упрямо повторила Серафима Александровна, остановившимися глазами глядя на мертвую девочку.
Сергей Модестович опасливо оглянулся: он боялся неприличного и смешного.
– Сима, не расстраивай себя, – опять заговорил он. – Это было бы чудо, а чудес в девятнадцатом веке не бывает.
Сказав эти слова, Сергей Модестович смутно почувствовал их несоответствие с тем, что совершилось. Ему стало неловко и досадно.
Он взял жену под руку и осторожно отвел от гроба. Серафима Александровна не сопротивлялась.
Ее лицо казалось спокойным, и глаза были сухи. Она пошла в детскую, и стала ходить по ней, заглядывая в те места, где прежде пряталась Лелечка. Кругом всей комнаты обошла она, нагибаясь, чтобы заглянуть под стол или под кроватку, и веселым голосом приговаривала:
– Где моя деточка? Где моя Лелечка?
Обойдя комнату вокруг, она снова начала свои поиски, Федосья неподвижно, с унылым лицом, сидела в углу, испуганно смотрела на барыню, потом вдруг зарыдала и завопила в голос:
– Пряталась, пряталась Лелечка, ангельская душенька!
Серафима Александровна вздрогнула, остановилась, в недоумении посмотрела на Федосью, заплакала и тихо пошла из детской.
VIII
Сергей Модестович торопил похороны. Он понимал, что Серафима Александровна чрезмерно потрясена внезапным горем и, опасаясь за ее разум, думал, что Лелечку надо поскорее похоронить, чтобы мать развлеклась и утешилась.
Утром Серафима Александровна оделась особенно тщательно – для Лелечки. Когда она пришла в зал, между нею и Лелечкой было много людей, ходили священник и дьякон, плавал синий дым, пахло ладаном. С тупой тяжестью в голове Серафима Александровна подошла к Лелечке. Лелечка лежала тихая, бледная, и жалостливо улыбалась. Серафима Александровна положила голову щекою на край Лелечкина гроба, и шепнула:
– Тю-тю, деточка!
Деточка не отвечала. Вокруг Серафимы Александровны произошло какое-то движение, суматоха, чужие, ненужные лица наклонились к ней, кто-то поддержал ее, а Лелечку куда-то понесли.
Серафима Александровна выпрямилась, растерянно ахнула, улыбнулась и громко сказала:
– Лелечка!
Лелечку уносили, мать бросилась за гробом с отчаянным воплем, ее удержали. Она метнулась за дверь, через которую несли Лелечку, села там на пол и, глядя в щель, крикнула:
– Лелечка, тю-тю!
Потом она высунула голову из-за двери и засмеялась.
Лелечку торопливо уносили от матери, и шествие похоже стало на бегство.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.