Текст книги "Смилодон"
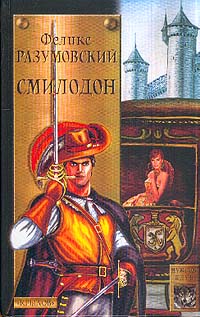
Автор книги: Феликс Разумовский
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Пролог
Фрагмент четвертый
Весна выдалась ранняя – с влажными фаллосами сосулек, с вонью оттаявших сортиров, с шумными, мутными ручьями. Снег к середине мая лежал лишь в глубоких распадках, и уже зеленела листва, весело и беззаботно старались на ветках пичуги. Природа готовилась к лету. Северному, быстротечному, оглушающему комариным писком.
Буров тоже готовился, зря времени не терял – березовым дегтем просмолил сапоги и пропитал пятки, добыл на кухне нутряного сала, чтобы тщательно втереть в каждую пору тела, подтянул все пуговицы и крючки, достал перчатки и накомарник, зэкам не полагающийся. А вот насчет провизии решил не заторачиваться – до цели, если верить шаману, три дня пути, и двигаться разумнее налегке, за счет внутренних резервов, не отвлекаясь и не теряя времени на набивание желудка. Да и на марше нет ничего поганей несбалансированного питания. Хрен с ним, была бы кость, а мясо нарастет. Еще Буров достал хлорки – от собак, засмолил от влаги спички и довел до совершенства длинную, изготовленную из рессоры заточку. Не какой-нибудь там ступик, которым хлеб режут, – внушительную, с упорами и кровостоками. Свинокол еще тот, гвоздь-двухсотку рубит, как сахар. Спасибо Зырянову, не забоялся, от души замастрячил в промзоне. Да, Зырянов, Зырянов… Проверенный, крученый кент. Немногословный и надежный, как скала. С таким можно и в разведку. Однако, если верить шаману, не в бега.
– Сам загнешься и Ваську угробишь, – только-то и буркнул тот, когда Зырянов намылился с Буровым. – Терпи, однако, парень. Через год и восемь месяцев законно уйдешь, по УДО. Терпи, однако… – Помолчал, сплюнул, посмотрел в задумчивости на розовую харкотину. – А я сдохну скоро. Дух-хранитель сказал. Сегодня ночью приходил, во сне. Каркал шибко, к себе звал…
Ну что тут скажешь. Посмотрел Зырянов на шамана, тяжело вздохнул да и отдал свои лучшие, из настоящей байки, портянки Бурову.
– На, брат, владей. И мотай потуже.
А смердящий паровоз зоновского бытия все катился по своим кривым рельсам. По утрам у вахты лагеря происходила обрыдлая, долгомотная суета: начальнички конвоев получали зэков для конвоирования на место работ. Проводили пересчет, сверялись с лагерным нарядчиком, кричали грозно, повелительно, во всю силу прокуренных легких:
– Внимание! В пути следования не растягиваться, не разговаривать, шаг влево, шаг вправо – считаю побег, оружие применяю без предупреждения. Марш!
Им вторили охранные, натасканные вцепляться в глотку овчарки, – исходя пеной, слюной и бешеной ненавистью. Лучшие друзья человека, такую мать. Из ворот шеренгами понуро выходили зэки, пятерками, вразвалочку, с интервалом в метр. Щурились на ласковое солнышко, сплевывали на траву, с руганью рыгали, трудно переваривая утреннюю бронебойку. Еще один день… Насрать, что ясный, благоухающий хвоей и цветами. Все одно – как в песок. Впустую, коту под хвост, мимо жизни. Когда еще с чистой совестью-то на свободу…
И было такое же светлое, но не радостное утро, когда зэков погнали на дальнюю деляну, проводить подчистку – штабелевать разделанные хлысты. Буров шел легко, дышал полной грудью и мысленно, незаметно улыбаясь, прощался с лагерем. Все – хана, амба, аллес. В зону, как бы там ни было, он уже не вернется. Хватит, достало. Лучше уж калибр пять сорок пять и собачьи клыки, чем это прозябание, называемое жизнью. В которой только вонь, педерасты и подполковник Каратаев. В нее он больше не вернется. По крайней мере живым.
Тявкали, оскаливая пасти, собаки, загребали сапогами конвоиры, тукал дробно, добывая харчи, дятел-стукач. Шли зэки. Наконец – вот она, деляна, вот он, фронт работ. Круглое таскать, квадратное катать…
– Выход за периметр – стреляем без предупреждения! – бригаду, оцепив, охватили инструктажем, бугор из расконвойников расставил зэков, блатные расположились у костра и принялись варить чифир в консервных банках. Пошла мазута…
Буров не спеша оттаскивал хлысты, внутренне настраивался, посматривал по сторонам. Тайга была чистая, сухая, без бурелома. Он пойдет сразу, рывком, вон туда, в направлении сопки. Если, конечно, не положат очередью. Хотя навряд ли, не должны. Слишком уверены в себе, да и расслаблены не в меру. На собачек своих полагаются. А собачки эти, между прочим, очень даже посредственных кондиций, видывали мы зверюшек куда посерьезней. Карай, судя по всему, приучен брать за глотку, Урал, видимо, кидается прямо в ноги. Ладно, будем посмотреть, как это у них получится. Эх, уйти бы только до первого распадка да и запутать следы, а там – от мертвого осла уши будут вам, а не Вася Буров. Портянки от Зырянова накручены туго. Направление известно, дыхалки хватит. Попробуйте, ребятки, поймайте спецназа. Флаг вам в обе руки, паровоз навстречу.
А “ребятки” тем временем в нарушение всех уставов тоже развели костер, с чувством закурили “Приму” и, привязав к березе заткнувшихся собак, принялись вести разговоры. О чем? Да уж не о караульной службе. О бабах, о доме. О том, сколько дней до приказа. Остонадоело все, достала служба…
– Ну что, брат, курнем? – предложили Бурову товарищи по бригаде, но он, отказываясь, покачал головой:
– Попозже чуток. Надо бы дровец в костер подкинуть. Гля, какая жаркая жердина… – и, резко выдохнув, концентрируя всю силу золи, запустил еловый дротик ближайшему охраннику в шею. Не дожидаясь, пока тот рухнет, вырубил надолго второго и по-медвежьи, прижимаясь к земле, напористо рванулся в тайгу. Причем не просто так, а “лесенкой”, стремительно смещаясь вправо и сбивая линию прицеливания. Без навыка не очень-то и попадешь. А следом уже слышалось рычание и жадный, исступленный лай – это Караю не терпелось всадить клыки Бурову поглубже в загривок. Только холодно сверкнула сталь – и потянулись песьи кишки по рыжей прошлогодней хвое. Что-что, а резать по живому Буров умел. Да и собачек, честно говоря, не очень жаловал. Он ведь кто? Кот. Только огромный, саблезубый, кормящийся не на помойках. На дух не выносящий легавых пустобрехов. Драку заказывали? Пожалуста!
Урал, нюхнув парящей крови, мгновенно потерялся, заскулил и, не рассчитав прыжка, бросился не в ноги, а на грудь. С ним Буров тоже миндальничать не стал – с ловкостью поймал за хвост, придержал за холку и сломал на колене позвоночник. Не Герасим, слава богу, да и обстановочка не та. Не у барыни на деревне. Не до сантиментов.
Обстановочка действительно накалялась. Охрана наконец протерла мозги и открыла сумасшедшую пальбу. Гулко раздавались очереди, разрывая тишину тайги, пули вразнобой секли кисточки мохнатых елей, с чмоканьем вонзались в плотные, сразу же пускающие слезу стволы. Только мимо, мимо, мимо. И поздно, поздно, поздно…
“Вас, ребятки, еще гонять и гонять. Ни хрена не можете”, – Буров ухмыльнулся, перевел дыхание и пошел стремительной спецназовской рысью – стелящейся, беззвучной, в оптимально экономном темпе. Через пару верст он описал петлю, тут же нарисовал другую, радиусом побольше и, обработав место выхода заныканной хлоркой, спокойный и целеустремленный, продолжил бег. Пусть потом собачки носятся кругами, тычутся носами в вонючий, забивающий нюх порошок. Не кайенская смесь <Махорка с мелко перетертым перцем, один из лучших антисобакинов.>, конечно, но и то хлеб. Эх, намазать бы на него еще толстый слой горчицы <Горчичный порошок также считается отличным антидогом.>… Так, работая не только ножками, но и головой, Буров отмахал верст двадцать пять, перешел на шаг, успокаивая дыхание, и, облюбовав местечко поуютней, разрешил себе остановиться. Вытянулся на спине, уперевшись сапогами в ствол березы, полностью расслабился и замедлил дыхание. Полежал минут пятнадцать, представляя себя огромным, нежащимся на солнце котом, чувствуя, как тело наполняется упругой, не знающей удержу энергией. Потом поднялся, догола разделся и положил одежду в муравейник, мощно возвышающийся в человеческий рост у кособокой замшелой ели. Лучше дезинфекции не придумаешь. Да и сам ухватил горсть-другую мурашей, раздавил, жалея, и растерся терпкой, пахнущей ядрено массой. Постоял на ветерке, обсыхая, взял одежку, очищенную от вшей, осмотрел, натянул и в прекрасном настроении побежал себе дальше. Пока – тьфу-тьфу-тьфу – все складывается наилучшим образом, и время, похоже, работает на него. Да здравствует бардак голимый в славных внутренних войсках. Пока ребятки конвойные отстирают штаны, вызовут по рации розыскную группу, пока та соберется, пока инструктора-кинологи поставят своих собачек на след… Это еще вопрос – возьмут ли те барбосы его. Безветренно, солнечно, жарко и сухо <Солнце, высокая температура, штиль и низкая влажность негативно сказываются на работе собак.>. Погодка как на заказ.
Однако ближе к вечеру Буров помрачнел и, невзирая на усталость, предательски накапливающуюся в мышцах, заставил себя двигаться без отдыха – небо затянулось дымкой и пошел мелкий, моросящий дождь. Самая лафа для грибников, рыбаков и розыскных мухтаров. А ведь впереди еще ночь – время самого обострения собачьего чутья. Вот черт, привело же боженьку на небе мелко обоссаться…
Буров шел всю ночь. Медленно, держа на уровне лица, чтобы не расстаться с глазами, согнутую руку и подгоняя себя мыслью, что самый трудный первый день, а потом, по мере втягивания, будет легче. Странно, но от этой мысли становилось еще труднее. Да, жизненные передряги, возраст и время, проведенное на зоне, давали себя знать. Слишком много тяжести скопилось на душе.
К утру дождик перестал, зато как нарочно подул ветерок – собачье везение продолжалось <Розыскные собаки показывают лучшие результаты при легком ветре со скоростью до одного метра в секунду.>. Похоже, кто-то там на облаках решил и впрямь отдать Бурова на растерзание Фемиде. Натурально, на растерзание. Догонят – собаками порвут. Или спецом подстрелят, отрежут раненому кисти рук и только уж затем, в последнюю очередь, голову. Медленно, тупым штык-ножом. Для опознания. Не волочь же зажмурившегося зэка по лесам. Слишком много чести.
– Хрен тебе собачий! Почем там опиум для народа? – было часов одиннадцать утра, когда Буров погрозил куда-то вверх, скверно ухмыльнулся и дал себе поспать. Минут этак сто двадцать. На пышной, сложенной из еловых лап, благоухающей хвоей перине. А потом было: нерадостный подъем, куцая зарядка, чтоб скорее проснуться, и опять бега, бега, бега… По торжествующей, полной жизни, опостылевшей тайге. Жутко хотелось есть. До судорог в желудке, до тошноты. Тем паче что пищи вокруг завались. Вот она, жратва, прямо под ногами – прошлогодняя брусника и клюква, кедровая падалка, черви, жучки, паучки. Рыбка плещется-играет в безымянных речках. На угольке ее, родимую, да с растертой берестой… Только нельзя. Самая зараза – это дробное, нерациональное питание. Больше потеряешь энергии, чем получишь. Нечего нагружать желудок. Да и некогда. Вперед, вперед, вперед… И Буров заставлял себя переть дальше, невзирая на голод, усталость и скверные предчувствия. Лавировал беззвучно меж могучих стволов, оглядывался, вслушивался, ориентировался по солнцу и Полярной звезде. Бежал на автомате, не думая ни о чем. На сердце не осталось ничего, кроме ярости, ненависти и желания выжить. Так себя, наверное, чувствует тигр, уходящий от погони. Саблезубый, красный, держащий в зубах свою свободу…
А потом тайга закончилась и пошли мари. С одуряющим запахом лишайников, перегнивших мхов, трав и голубики, с выматывающим душу жужжанием гнуса, с болотами, где коричневая вода поверху затянута поволокой плесени. Унылое однообразие, никаких ориентиров. Только одиночные корявые лиственницы, то ли еще живые, то ли уже скрученные ветром насмерть. Качнешь такую летом, еще не опушенную листвой, да вдруг и вырвешь неожиданно, а под корнями у нее белым-бело. Снег-снежок, лед-леденец. Тоска. Походишь в мареве день-другой, нанюхаешься болотной пряной прели – и все, амба, хана, кайки. Психика не выдерживает, жить не хочется. Ломаешься, как спичка.
Однако Буров за жизнь держался крепко. К вечеру второго дня он выбрался из царства гнуса, разнотравья и загнившей воды, разрешил себе немного поспать и снова, чутко вслушиваясь, двинулся лесными тропами. Тайга вскоре пошла какая-то странная, низкорослая, изогнутые деревья стояли облезлые, как при линьке петухи. Интуитивно, по каким-то неподдающимся определению признакам, ясно чувствовалась близость предгорья. Все верно сказал шаман, все точно…
“Еще немного, еще чуть-чуть”, – возликовал Буров, невзирая на сгущающуюся темноту, прибавил шагу, но тут же, умерив радость, выругался и бросился под ближайшую ель. Его чуткое ухо уловило посторонний звук. Раскатистый, стремительно приближающийся, басовито сотрясающий ночные небеса. Вертушка. Вертолет. Вроде бы МИ-4. Ну да, точно, четверка. Смотри-ка, старушенция еще летает. И хрена ли ей здесь, на ночь глядя? Уж не по его ли душу? И не дай бог кто-нибудь еще сечет в ноктовизор <Прибор ночного видения.>сверху… Да, похоже, инструктора-кинологи у вэвэшников не такие уж и мудаки, поставили-таки барбосов на след. Эх, “скрылевку” <Специальная, не пропускающая теплового излучения тела накидка конструктора И.Скрылева.>бы сюда или на худой конец простыню. Мокрую, белую <Тоже помогает от ноктовизора.>. Завернуться в нее и изображать описавшуюся моль. Шутковал Буров про себя, крепился, а собственно, радоваться особо было нечему. Если его сейчас засекут – а это уж как пить дать, к гадалке не ходи, – то утром вертолет высадит розыскную группу, собачки примут след, и все, финита ля комедия. Ночью навряд ли сунутся, сфинктер тонковат. Будут, скорее всего, ждать рассвета. А значит, резюме одно – вперед. Обратного хода нет. Времени, чтобы сопли жевать, тоже.
Вертолет между тем покружил-покружил, сделал боевой разворот и оглушительно, и, как показалось Бурову, торжествующе рыча, убрался. Все стало тихо в тайге, только ветер шелестел в кедровых лапах да ухал где-то отмышковавший филин. Его время. Ночь. Ясная, с полной, круглобоко выкатившейся на небо луной. В ее призрачном свете кедры казались седыми великанами, величественными и нереальными. Завораживающе красивыми…
Только Бурову было глубоко плевать на красоты природы, он двигался вперед с упорством загнанного зверя. Предчувствие его не обмануло – лес поредел, перешел в предгорье, характер местности менялся на глазах. Идти вскоре пришлось через курманы – стотонные глыбы, одетые в кедрач. Они, эти глыбы, играли, раскачиваясь, и каждый промах, неверный шаг давал ощущение почище, чем на американских горках. Чувство последнего в жизни шага. За которым – ничто. Так, поневоле участвуя в этом дьявольском аттракционе, Буров прошкандыбал всю ночь и аккурат перед рассветом вышел к Кровавой скале. Точь-в-точь такой, как ее описывал шаман – отвесной, словно вырубленной топором, цвета киновари, с остроконечной, словно бычий рог, вершиной. Перед ней идеальным полукругом лежала каменистая пустошь, границу ее отмечали небольшие, вытесанные из гранита пирамидки. Шаман называл их ошо – вехами, знаками жизни. А еще он рассказывал, что раньше у Кровавой скалы находилась Золотая баба, ее в незапамятные времена поставил туда верховный бог Ур. Чтобы забирала на себя все людское зло и отправляла его на небо, очищая землю. Так продолжалось долго, многие тысячи лет. Потом Золотой бабы не стало, и некому теперь справиться со злом, скопившимся за вехами ошо. Плохое сделалось место, опасное, однако. Только Айыы-шаманы и Великие воины могут появляться здесь и заходить в пещеру Духов, чтобы Мать Матери Земли Аан открывала им двери в другие миры. Трусам, педерастам и ментам путь сюда, однако, заказан.
“Ну что, пойдем знакомиться с такой-то матерью”, – Буров хмыкнул, переводя дыхание, высморкался и тут же обостренные рефлексы заставили его броситься бежать. Спотыкаясь, падая, из последних сил. На пределе возможностей.
В воздухе ясно слышался лай. И не просто лай, а исступленное, захлебывающееся, с судорожными повизгиваниями тявканье. Это значит, что псари-кинологи на всю длину отпустили по водки, и собачки, как ополоумевшие, рвутся с них по его, Бурова, душу. Судя по гаму, барбосов с полдюжины, от всех не отмахнешься. Да и пока суть да дело, вэвэшники подтянутся. В скверном настроении, с калибром пять-сорок пять. Да, ситуевина.
“С одесского кичмана бежали два уркана”, – Буров как на крыльях долетел до границы, отмеченной ошо, остановившись на миг, вытащил заточку и, с легкостью перешагнув невидимую грань, рванул из последних сил к скале. “Великие мы воины, такую мать, или нет?”
Ноги его подгибались, пот заливал глаза, из оскаленного, широко открытого рта вырывалось судорожное хрипение. Очень похожее на предсмертное. Однако подыхать Буров пока что не собирался. А если уж придется – то в тесной компании. На бегу он поудобнее взялся за нож, мысленно настроился на последний решительный бой и все крутил, крутил головой, оглядываясь назад. Словно ас-истребитель. Ну, где же вы, собачки, лучшие друзья человека? А вот, наконец появились. И верно, полдюжины, шесть хвостов. Шесть зевлоротых, отверстых пастей, двадцать четыре сильных лапы, а уж клыков и не сосчитать. Разъяренные, взмыленные, готовые убивать. Ближе, ближе, ближе. Рычание, пена, горящие глаза. Не домашние животные – зверье. Только вдруг все резко переменилось. Добежав до невидимой черты, отмеченной вехами ошо, псы словно налетели на какую-то стену – заскулив, остановились, сникли, поджали хвосты и принялись выть. Словно по покойнику. Однако уж во всяком случае не по Бурову. Сразу воодушевившись, тот прибавил шагу и направился к треугольному, в обрамлении мхов, неприметному отверстию в скале. Скорее всего, это и был вход в пещеру Духов, где обреталась та самая Матерь Матери. Самое время познакомиться с ней…
Душераздирающе скулили псы, мчался на седьмом дыхании Буров, солнце величаво выплывало из-за красно-кровавой скалы. А у заповедной, помнящей тысячелетия пустоши появились между тем гвардейцы-вэвэшники. С ходу было сунулись вслед за Буровым, однако сразу же утратили весь свой пыл и, растерявшись, сбившись в кучу, замерли. Правда, в отличие от псов, без повизгиваний, организованно и молча. Не понимая, откуда взялся этот безотчетный, не поддающийся оценке ужас.
– Противник слева! К бою! – справился все же с неуставной эмоцией лейтенант, проглотил слюну и вяло приказал: – Снайпер, огонь!
– Есть! – бледный как полотно ефрейтор вздрогнул, сняв с предохранителя СВД, с клацаньем дослал патрон, изготовился, прицелился, нажал собачку. Выругался, дернул затвором, снова надавил на спуск. Ничего. Только страх, пот в три ручья, дрожь в пальцах да щелканье бойка. Осечка. Еще одна. Еще. Это у надежной-то, проверенной временем винтовки Драгунова…
А Буров тем временем достиг скалы, убрал заточку, глубоко вздохнул и, не испытывая ничего, кроме одуряющей усталости, нырнул в узкий, в обрамлении лишайников, лаз. Замер на мгновение, осматриваясь, удивленно присвистнул и побежал вперед по уходящей вглубь галерее. Шаман так и говорил – сигай смело, небось не споткнешься. Фонарь там без надобности.
Фонарь действительно был не нужен. Пол, стены и потолок, видимо покрытые светящимися бактериями, излучали тусклое багровое сияние.
“Да, интим еще тот”, – Буров втянул ноздрями влажный воздух, хотел было плюнуть, но сдержался, проглотил тягучую слюну и даже не заметил, как очутился в громадном – девятиэтажный дом построить можно! – зале. Истинные размеры его терялись в полутьме, потолок был в сталактитах, стены – обильно усыпаны кристаллами гипса. Он совсем неплохо подошел бы под пещеру Алладина.
“Ну, красота!” – Буров зачарованно застыл, тронул кальцитовый натек и вдруг непроизвольно обернулся. Всматриваясь, затаил дыхание, приоткрыл, чтобы лучше слышать, рот – инстинкт подсказывал ему, что он здесь не один. Кто-то был там, в багровом полумраке, в самой глубине пещеры. Буров явственно почувствовал интерес к своей персоне, внимательную настороженность, сменившуюся расположением, сразу же ощутил спокойствие и умиротворенность, а когда на сердце сделалось тепло, то ничуть не удивился голосу, тихому и манящему:
– Иди, я покажу тебе дорогу. Иди.
Казалось, этот голос раздается прямо в голове и звучит волшебной, туманящей рассудок музыкой.
И Буров пошел. Ноги его как бы плыли в стелющейся редкой дымке, словно он брел по мутному, ленивому ручью. Что-то странное было в этом тумане, непонятное. Он существовал как бы сам по себе, не признавая законов термодинамики, не образуя турбулентных следов, не замечая ни воздуха, ни твердых тел. Словно был живым. Он наливался мутью, клубился, густел на глазах и постепенно поднимался все выше и выше. По колени Бурову, по бедра, по грудь. А тому было все по хрен, он брел как во сне, увлекаемый манящим голосом:
– Иди, я покажу дорогу, иди.
Наконец дымчатое облако поднялось стеной и с головой накрыло Бурова клубящимся капюшоном. Странно, изнутри оно было не мутно-молочное, а радужно-разноцветное, весело переливающееся всеми богатствами спектра. Словно волшебные стекляшки в детском калейдоскопе. От этого коловращения Буров остановился, вздрогнув, затаил дыхание и неожиданно почувствовал, что и сознание его разбилось на мириады таких же ярких, радужно играющих брызг. Не осталось ничего, ни мыслей, ни желаний, только бешеное мельтешение переливающихся огней. Вся прежняя жизнь – работа, зона, беснующиеся овчарки остались где-то там, бесконечно далеко, за призрачной стеной клубящегося тумана… Потом перед глазами у Бурова словно полыхнула молния, на миг он ощутил себя парящим в небесах, и тут же радужная карусель в его сознании остановилась, как будто разом вдруг поблекли, выцвели все краски мира. Стремительно он провалился в темноту. Такую же непроницаемую и беспросветную, как и черная полоса последних трех лет его жизни.
Такое, блин, кино.
* * *
Первое, что увидел Буров, разлепив глаза, была Богородица. Мастерски высеченная на надгробном, несколько просевшем камне. Рыжие закатные лучи освещали ее невинную улыбку, пухленькие ножки младенца и еле различимую, выбитую не по-нашему надпись. Полустертую, похоже, на латыни.
– Писец, приехали, – сообщил Буров Приснодеве, перекатился на бок и, поджав, чтобы согреться, колени к животу, принялся оценивать ситуацию. Та не особо радовала. Он лежал, в чем мама родила, подобно недоноску в банке, и с тоскою чувствовал, как желудок поднимается к горлу.
Мысли были заторможенные, вялые, тяжелые как жернова – какие-то там собаки, вэвэшники, пещера с туманящей цветомузыкой. В общем, здесь помню, здесь не помню. Как в том кино. А вокруг – могилки, надгробия, провалившиеся склепы. Ландшафт не для слабонервных. Но это еще ничего, терпимо. А вот запах… Непередаваемая вонь разлагающейся плоти, застоявшейся клоаки, перегнивающей земли. Оглушающая, давящая на психику, убивающая в душе все живое. Так, наверное, воняет в аду, если не считать, конечно, запаха серы.
“А на кладбище все спокойненько”, – Буров с усилием перевернулся на живот, поднялся на карачки, встал и тут же согнулся в неудержимой, нахлынувшей девятым валом рвоте. Желчью, до судорог в желудке. Внес, так сказать, свою струю в пронзительное кладбищенское зловоние. Изрядно попугал и Богородицу, и младенца. Но хоть не напрасно – стало легче. В голове прояснело, живот отпустил.
– Пардон, – Буров виновато взглянул на Приснодеву, тактично отвернулся, ладонью вытер рот и стал, сколько позволяли сумерки, производить рекогносцировку на местности. Кладбище было необъятным исполинским полем, сплошь изборожденным рытвинами могил и обрамленным по своим границам островерхими, с подковами аркад, зданиями. Крыши их были основательно утыканы печными трубами. Да, центральным отоплением здесь и не пахло. Только гнилью, трупами, истлевшими гробами.
– В трубочисты я б пошел, пусть меня научат, – Буров прищурился, высматривая подробности, хмыкнул оценивающе, прищелкнул языком и вдруг, даже не осознав еще толком, что произошло, почувствовал себя как-то неуютно. Карету увидел. Внушительную, запряженную четверкой, с зажженным фонарем и поклажей на империале. С кучером и двумя форейторами, сноровисто размахивающими руками. Бурову даже почудилось, что он слышит свист кнутов, грохот ободьев по булыжной мостовой, дробное постукивание копыт и ржание понукаемых лошадей. Карета протащилась вдоль домов, мигнула на прощание фонарем и скрылась. Будто ненадолго вынырнула из прошлого. Не тачанка, блин, не арба, не телега. Карета. Приземистая, в полумраке похожая на бочку. И очень мало похожая на обман зрения…
“Так”, – он нахмурился, сплюнул и, чтобы согреться, умерил дыхание – пусть копится углекислота, насыщает кровь, с ней теплее. Не май месяц. Хотя черт его знает какой. Все как в тумане. Итак, что мы имеем? Кладбище, судя по эпитафиям, не наше. Странная, с готическим уклоном, архитектура. И… карета. А еще: одно яйцо левое, другое правое. Да, негусто. Сплошной мрак. Натурально, сплошной и зловонный. Это вступала в свои права ночь, мрачная, без луны и звезд, густо пропитанная миазмами и испарениями кладбища. Меж крестов потянулся клубящийся саван тумана, липко оседающий на коже холодными каплями. Стало совсем весело.
“А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина…” – Буров бросил умерять дыхание и осторожно, стараясь не шуметь, двинулся к домам. Где жилье, там и огонь, и пища… Однако скоро он остановился, открыл, чтоб было лучше слышно, рот и резко изменил курс – его чуткие уши уловили звуки человеческого голоса. Визгливого, женского, на повышенных тонах. С учетом тембра, ночного времени и безветрия, до обладательницы голоса было метров восемьсот. “Режут ее, что ли?” – Буров обогнул массивное надгробие, крадучись, прошел вдоль каменной оградки и вдруг почувствовал, как рот непроизвольно наполняется слюной. В воздухе был явственно слышен запах закипающего варева. Готовящейся на костре немудреной похлебки из баранины с чесноком. Уж не такой ли папа Карло потчевал в своей каморке Буратиновых приятелей?.. “С картошечкой и шпинатом, – Буров проглотил слюну, подобрался к полуразвалившемуся склепу, осторожно, стараясь не дышать, выглянул из-за угла. – Ну, и кто тут за Мальвину?..”
Мальвин было две. Неряшливые, в невиданных чепцах, у костра, разложенного под внушительным котлом. Одна, постарше, мешала палкой варево, другая, чуть менее отталкивающая, шинковала овощи. На мраморной, как пить дать, отколотой от надгробия плите. Еще у костра присутствовал Карабас Барабас, плотный, рыжебородый, в малиновом камзоле. Лихо заломив набок шляпу с кокардой, он что-то попивал из оловянной кружки, весело раззявливал пасть и громко переговаривался с зачуханными Мальвинами. Те отвечали с подобострастной вежливостью, в меру кокетливо и до жути визгливо. Вот только по-каковски?.. Так, так, ну конечно же… Месье, желеманшпа си жур… По-французски. И тут Буров выругался. Про себя, матерно, по-русски. Мало что карета и камзол, так ведь еще и желеманшпа… Он отлично знал тактико-технические данные “Плутона” <Французский ракетный комплекс.>, помнил, как “Отче наш”, маршевую скорость “ВАБа” <Французский бронетранспортер.>, мог с закрытыми глазами разобрать и собрать “Фамасу” <Французская автоматическая винтовка калибра 5, 56.>, а вот с разговорным-то французским… Стоять! Лежать! Руки на затылок! Кто твой командир? Вот, пожалуй, и все. Хреново дело, разговорный барьер – один из основных.
А у костра между тем начал собираться народ. Явились две сомнительного вида девицы – расхристанные, простоволосые, в не первой, да и не второй свежести платьях со шнуровкой. С чириканьем подгребла ватага пареньков, шустрых, деловых, рано повзрослевших, при одном только взгляде на которых тут же вспоминался Гаврош. С достоинством пожаловала пара-тройка амбалов, вразвалочку, не спеша и немилосердно поплевывая: аромат баранины, вареной с чесноком, бил в нос, как видно, не только Бурову. Скоро на огонек слетелось до двух дюжин аборигенов. Первым делом все подходили к Карабасу Барабасу, заискивающе улыбались и совали ему в лапу деньги. В зависимости от суммы тот одних похлопывал по плечу, другим что-то резко выговаривал, третьих без промедления подвергал остракизму. Худенькой востроглазой девчушке он дал такого тумака, что та согнулась, упала на колени и, хватая ртом воздух, еле уползла прочь. На вид ей было лет двенадцать-тринадцать. В общем, чем дольше Буров смотрел, тем сильнее проникался мыслью – у костра было вовсе не так, как в сказке. Не было ни романтичной Мальвины, ни взбалмошного Буратино, ни забубенного Арлекина, ни озабоченного Пьеро. Это была банда. Стая, со своей жестокой иерархией, где неведомы сострадание и доброта, где в цене только сила, жестокость и боль. Искать помощи здесь бесполезно. Тем более с неприкрытой задницей. Ведь голый человек в глазах негодяя всегда есть существо низшего сорта. Нет, тут нужно было не просить – брать свое. Жестко, решительно, с предельной наглостью. Да и побыстрее, пока эту дивную, благоухающую, как амброзия, похлебку не сожрали.
И Буров не стал миндальничать, для него сейчас жестокость была единственным средством выжить. А потому он дождался, пока выпитое погонит Барабаса в темноту, пристроился следом да и приголубил его от всей души в основание черепа. Убить не убил, а успокоил надолго. Ловко поддержал бесчувственное тело, мягко отпустил и, поглядывая на костер, пылающий неподалеку, вплотную занялся мародерством.
Штаны у Барабаса были замечательные, крепкие, из оленьей кожи, на длинном, с кошельком, ремне. Только вот жаль, надевались они на голое тело, без белья. Сапоги были высоки, с отворотами и под стать штанам – стаченные не столь ладно, сколь крепко, и также без малейшего намека на носки, чулки или портянки. Зато в правом обнаружился нож – не привычный на Руси засапожник, с изогнутым шляхом и темляком, нет, прямой и широкий, называемый в народе кошкодером. Ну и то хлеб. Натянул Буров штаны, обулся, по примеру предков, на босу ногу, надел грязную, с кружевными манжетами, рубаху, сверху длинный, чуть ли не до лодыжек, камзол, напялил шляпу. Все вонючее, не стиранное вечность, но… тем не менее защищающее от свежести ночи. А кошелек-то на поясе объемист, тяжел и набит так, что никакого звона. Может, все не так еще и плохо. Одет, обут и при проклятом металле, а главное – свободен. Ни тебе собачек гавкающих, ни сволочи конвойной. А что кареты ездят да по-французски лопочут – не беда, разберемся, какие наши годы. Сейчас программа-минимум – пожрать. И чтобы без эксцессов.
Однако без эксцессов не удалось. Когда Буров вышел к костру и уселся на почетное драное кресло, один из амбалов привстал, медленно придвинулся и вдруг заорал испуганно, изумленно и пронзительно. В хриплом голосе его так и слышалась классическое: “Царя подменили, демоны!” Тут же, основательно заполучив ногой в пах, он умолк, скрючился и уткнулся мордой в землю, а Буров, вскочив, приласкал ближайшего потенциального противника. Кошкодером по лбу. Успел дважды, туда и обратно, с определенной долей гуманизма и сострадания к человечеству – не горло расписал, не глаза помыл, не рот порезал от уха до уха. А так – истошный рев, кровища рекой, зато опасности ноль. Одно сплошное психологическое воздействие. Но на редкость эффективное. Скоро настала тишина, только булькало в котле, потрескивало в костре да судорожно стонали раненые.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































