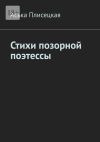Читать книгу "Урок анатомии. Пражская оргия"

Автор книги: Филип Рот
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Филип Рот
Пражская оргия
Philip Roth / Anatomy Lesson Copyright
© 1983 Philip Roth
Philip Roth / The Prague Orgy
Copyright © 1985 Philip Roth All rights reserved
© ИД “Книжники”, 2019
© В. Пророкова, перевод, 2019
© О. Качанова, перевод, 2018
© А. Бондаренко, оформление, 2019
Урок анатомии
Посвящается Ричарду Стерну
При болевых ощущениях правильный диагноз поставить трудно прежде всего потому, что симптом часто проявляется совсем не там, где располагается источник боли.
Учебник по ортопедии. Джеймс Сириакс, доктор медицины
1
Воротник
Когда человек болеет, ему нужна мать. Если ее нет рядом, приходится довольствоваться другими женщинами. Цукерман довольствовался четырьмя другими. Никогда прежде у него не было столько женщин одновременно или столько врачей, никогда он не пил так много водки и не работал так мало, никогда так бурно не отчаивался. Впрочем, болезнь его, похоже, была не из тех, что окружающие воспринимают всерьез. Только боль – в шее, руках, плечах, боль, из-за которой он мог пройти по городу всего несколько кварталов и стоять на месте долго не мог. Выйдет на десять минут за продуктами и тут же спешит домой – прилечь. И зараз он мог принести только один нетяжелый пакет, да и то должен был тащить его, прижав к груди, – как какой-нибудь восьмидесятилетний старец. А если нести пакет в руке, боль только усиливалась. Было больно наклоняться и застилать кровать. Было больно с одной лишь лопаточкой в руке стоять у плиты, ожидая, пока поджарится яичница. Он не мог открыть окно – если надо было прилагать хоть какое-то усилие. Поэтому окна ему открывали женщины – открывали его окна, жарили ему яичницу, застилали ему постель, покупали ему продукты и без усилий, мужественно таскали домой его вещи. Одна женщина могла бы справиться со всем за пару часов в день, но у Цукермана больше не было одной женщины. Поэтому пришлось держать четырех.
Читать, сидя в кресле, он мог только в ортопедическом воротнике, пористой штуковине в белом чехле с жесткими ребрами, крепившейся на шее, чтобы поддерживать позвоночник и чтобы, когда поворачиваешь голову, было на что опереться. Предполагалось, что, если ограничить движение и дать голове опору, резкая боль, терзавшая его от правого уха до шеи, а потом разветвлявшаяся вниз – как менора, перевернутая вверх ногами, – уменьшится. Иногда воротник помогал, иногда нет, но сводил его с ума – не хуже, чем боль. Надев его, он только на воротнике и мог сосредоточиться.
В руке он держал книгу, знакомую еще с университетских времен, “Оксфордский сборник поэзии XVII века”. На первой странице, над его фамилией и датой синими чернилами была запись карандашом, его почерком того, 1949 года, вывод, сделанный первокурсником: “Поэты-метафизики легко переходят от банального к возвышенному”. Впервые за двадцать четыре года он вернулся к стихам Джорджа Герберта[1]1
Джордж Герберт (1593–1633) – английский поэт-метафизик.
[Закрыть], взял книгу, чтобы прочитать “Воротник” – вдруг там найдется то, что поможет ему привыкнуть к собственному воротнику. Считается, что назначение великой литературы – облегчать страдания, описывая наш общий удел. Цукерман уже понял, что боль, если не противостоять ей постоянными, упорными дозами философских размышлений, обрекает тебя мыслить чудовищно примитивно. Может, Герберт ему что подскажет.
Доколь терпеть мне этот гнет?
Иль весь мой урожай – колючки терна,
И кровь моя горит на нем?
Когда ж в душе моей созреет плод?
В ней пенилось вино,
Да высохло от скорби. Зрели зерна —
Пришлось их плачем поливать…
Иль жизнь свою провел я в лени,
И лавра нет меня короновать?
Или венки поблекли и увяли,
Цветы пропали?..
…Но, сам с собою спор ведя
Все беспощадней, злей и строже,
Я слышу вдруг: “Мое дитя!”
И я в ответ: “Мой Боже!..”[2]2
Перевод Д. Щедровицкого. – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть]
Как удалось пронизанной болью рукой, он швырнул книгу в дальний угол комнаты. Вот уж нет! Он отказывается делать из своего воротника или из мытарств, что тот должен облегчить, метафору чего-то грандиозного. Поэты-метафизики, может, и легко переходят от банального к возвышенному, но по опыту последних полутора лет Цукерману казалось, что если он и продвигается, то в противоположном направлении.
Написать последнюю страницу книги – ничего возвышеннее он не испытывал, но и этого с ним не случалось уже четыре года. Он не мог вспомнить, когда написал хоть страницу чего-то читабельного. Даже когда он надевал воротник, из-за спазма верхней части трапециевидной мышцы и саднящей боли по обе стороны позвоночника ему даже адрес на конверте трудно было напечатать. Когда ортопед из больницы Маунт-Синай объяснил все его невзгоды двадцатью годами за портативной машинкой, он пошел и купил себе “Ай-би-эм Селектрик II”, но когда дома попытался поработать, оказалось, что печатать на новой, незнакомой клавиатуре “Ай-би-эм” так же больно, как на последней из его маленьких “Оливетти”. Всего один взгляд на припрятанную в глубине шкафа “Оливетти” в потрепанном чехле, и накатила депрессия – так, наверное, смотрел на свои старые балетные туфли Боджанглс Робинсон. Как легко было, когда он еще не болел, отодвинуть ее и освободить на столе место для ланча, или для блокнота, для книги, для писем. Как ему нравилось помыкать ими – своими молчаливыми и терпеливыми спарринг-партнерами, сколько он по ним колошматил с двадцати лет! Они были всегда при нем – и когда он выписывал чек за алименты, и когда отвечал поклонникам, и когда красота или ужас только что сочиненного так потрясали его, что он приклонял голову на стол, и когда писал каждую страницу каждого варианта четырех опубликованных романов и трех похороненных заживо: если бы “Оливетти” могли говорить, писатель предстал бы перед всеми как есть. А от “Ай-би-эм”, прописанной первым ортопедом, не получаешь ничего – только чопорный, пуританский, деловитый гул, рассказывающий о ней и всех ее достоинствах: я – корректирующая “Селектрик II”, я никогда не ошибаюсь. А что он за человек, я понятия не имею. И, судя по всему, он тоже. Писать от руки было не легче. Даже в старые добрые времена, с трудом водя левой рукой по бумаге, он выглядел смельчаком, осваивающим протез. К тому же расшифровывать получившееся было непросто. Он румбу танцевал лучше, чем писал от руки. Он слишком крепко сжимал ручку. Он стискивал зубы и корчил страдальческие гримасы. Он выставлял локоть в сторону, словно собирался плыть брассом, потом скрючивал и изгибал руку в запястье, словно собирался выводить буквы сверху, а не снизу – такой акробатической техникой овладели в эпоху чернильниц многие дети-левши, чтобы не смазывать слова, продвигаясь по строчке слева направо. Остеопат с отличными рекомендациями даже пришел к выводу, что корень проблем Цукермана в том, что старательный школьник-левша, стараясь не размазывать свежие чернила, понемногу искривлял позвоночник писателя, пока не завинтил его до самого крестца. Грудная клетка у него стала вся сикось-накось. Ключицы перекрутились. Левая лопатка снизу оттопырилась, как крыло у курицы. Даже плечевая кость слишком туго входила в сустав и сидела в нем как-то криво. На первый взгляд он выглядел более или менее симметричным, вполне пропорциональным, но на самом деле был весь перекорежен, как Ричард III. Остеопат считал, что скрючивать его начало с семи лет. Началось это, когда он стал делать домашние задания. Когда впервые стал описывать жизнь в Нью-Джерси. “В 1666 году губернатор Картерет предоставил Роберту Триту переводчика, а также проводника, сопровождавшего его к верховьям реки Хакенсак, где он должен был встретиться с представителем Оратона, престарелого вождя хакенсаков. Роберт Трит хотел, чтобы Оратон знал: белые поселенцы ищут лишь мира”. Началось в десять лет с Роберта Трита и Ньюарка, с благозвучных слов “хакенсак” и “Оратон”, а закончилось Ньюарком Гилберта Карновского и суровыми односложными “х**” и “*б”. Вот по такой Хакенсак греб вверх писатель, но догреб до пристани боли.
Когда сидеть за машинкой стало слишком больно, он пытался работать в кресле, пытался выжать что можно из своего корявого почерка. Шею ему поддерживал воротник, позвоночник опирался на жесткую, без подушки, спинку кресла, вырезанный по данным им размерам кусок фанеры на подлокотниках служил столом для его рабочих тетрадей. В квартире у него было достаточно тихо, можно сосредоточиться. В огромном окне кабинета двойные стекла, чтобы никакие звуки телевизора или проигрывателя из дома, выходившего в его двор, не доносились, потолок тоже сделали звукоизолирующий, чтобы его не отвлекало цоканье коготков двух пекинесов у соседа сверху. В кабинете на полу лежал шерстяной ковер густого красно-коричневого цвета, на окнах – кремовые бархатные шторы до полу. Уютная, тихая комната вся в стеллажах с книгами. Он полжизни провел в таких комнатах. На шкафчике, где он держал бутылку водки и стопку, стояли любимые старые фото в плексигласовых рамках: его только что поженившиеся родители во дворе дома его дедушки и бабушки, пышущие здоровьем бывшие жены на Нантакете, его отдалившийся брат в 1957 году на выпускном в Корнелле – magna cum laude[3]3
С отличием (лат.).
[Закрыть] (и tabula rasa[4]4
Чистая доска (лат.).
[Закрыть]) в конфедератке и мантии. За день если он с кем и говорил, то только перекидывался парой слов с этими фотографиями, а так – тишины было столько, что и Пруст был бы доволен. Тишина, комфорт, время, деньги – все это у него имелось, но когда он писал от руки, начиналась дергающая боль в плече, тут же становившаяся нестерпимой. Правой рукой он растирал мышцу, продолжая писать левой. Старался об этом не думать. Притворялся, что это не у него плечо болит, а у кого-то еще. Пытался перехитрить боль, делая перерывы. Долгие перерывы облегчали боль, но мешали писать; к десятому перерыву ему уже и писать было нечего, а раз нечего писать, какой смысл жить? Когда он сорвал воротник и рухнул на пол, липучка на застежке скрежетала так, словно это у него внутренности заскрежетали. Боль стала самостью, подчинившей себе все мысли и чувства. В магазине детской мебели на Пятьдесят седьмой он купил мягкий напольный коврик в чехле из красного пластика и положил его между столом и креслом. Когда сидеть становилось совсем невыносимо, он вытягивался на коврике, подложив под голову “Тезаурус” Роже. И приучился дневными делами заниматься по большей части на коврике. На нем не нужно было удерживать вертикально верхнюю часть туловища и голову пятнадцати фунтов весом, и так он звонил по телефону, принимал посетителей, следил по телевизору за новостями про Уотергейт. Вместо обычных очков надевал призматические – в них был лучше угол обзора. Их разработала для лежачих больных одна оптическая фирма в даунтауне – его туда направил физиотерапевт. В призматических очках он наблюдал за тем, как выкручивается президент – как деревянно движется, как адски потеет, как абсурдно и ошеломительно лжет. Он почти ему сочувствовал – это был единственный американец, который изо дня в день мучился примерно так же, как он сам. Растянувшись на полу, Цукерман мог смотреть и на ту из своих женщин, что сидела рядом на диване. А навещавшая его дама видела выпиравшие прямоугольные части линз и Цукермана, вещавшего потолку о Никсоне.
Он пробовал с коврика диктовать секретарше, но получалось не очень-то бегло, и иногда ему по часу было нечего сказать. Он не мог писать, не видя написанного; он мог представлять то, что описывала фраза, но не мог представлять сами фразы – ему нужно было видеть, как они разворачиваются и соединяются одна с другой. Секретарше было всего двадцать, и первые несколько недель она слишком включалась в его страдания. Эти занятия были мучительны для обоих и часто заканчивались тем, что секретарша укладывалась на коврик. Половой акт, минет и куннилингус Цукерман переносил почти без боли – если лежал на спине, подложив под голову тезаурус. Тезаурус был нужной толщины – с ним голова не опускалась ниже плеч и шея не болела. Внутри была надпись: “От папы. Верю в тебя всецело”, и дата – “24 июня 1946 года”. Книга для того, чтобы обогатить его словарный запас по окончании начальной школы.
Четыре женщины приходили лежать с ним на коврике. Они были единственным, что осталось у него от живой жизни – секретарша-наперсница-кухарка-домработница-компаньонка – и, не считая страданий Никсона, единственным развлечением. Распластанный на спине, он чувствовал себя шлюхой, платящей сексом тем, кто приносит молоко и газеты. Они рассказывали ему о своих невзгодах, они прислоняли к нему свои отверстия, которые Цукерман заполнял. Требующего всего его целиком дела он был лишен, диагноз не обнадеживал, и он отдался на их волю; чем очевиднее была его беспомощность, тем неприкрытее становилось их желание. А потом они бежали. Мыли посуду, допивали кофе, присаживались на корточки поцеловать на прощанье и убегали в настоящую жизнь. Оставляли Цукермана на спине – для той, чей звонок прозвонит следующим.
Когда он был здоров и много работал, у него никогда не хватало времени для подобных связей, даже если его искушали. Слишком много жен за слишком мало лет, тут уж не до сонма любовниц. Брак был бастионом, укрывавшим его от бесконечных соблазнов. Женился он ради порядка, доверительности, взаимозависимого товарищества, ради размеренности и регулярности моногамного существования; он женился, чтобы не тратить себя на очередную связь, чтобы не сходить с ума от скуки в очередных гостях, чтобы не спать одиноко в гостиной после одинокого дня в кабинете. Сидеть каждый вечер в одиночестве и читать, чтобы сосредоточиться для следующего дня уединенного писания, было слишком даже для упертого Цукермана, поэтому он включал в орбиту своего любострастного аскетизма женщину, всякий раз – одну, тихую, задумчивую, грамотную, самодостаточную женщину, которая не требовала, чтобы ее куда-то выводили, а довольствовалась тем, что после ужина сидела и молча читала напротив него с его книгой.
После каждого развода он заново открывал для себя, что неженатый мужчина должен женщин куда-то водить – в рестораны, на прогулки в парк, в музеи, в оперу, в кино – и не только водить в кино, но потом еще и обсуждать просмотренное. Если они становились любовниками, было непросто уйти утром, пока голова еще свежая и готова к работе. Некоторые женщины хотели, чтобы он с ними завтракал, даже разговаривал с ними за завтраком, как все прочие люди. Иногда они хотели снова в постель. Он хотел снова в постель. В постели конечно же куда увлекательнее, чем за пишущей машинкой с новой книгой. И разочарований меньше. Можно на самом деле закончить то, что задумал, без десяти фальстартов и шестнадцати вариантов, и по комнате в тоске расхаживать не придется. Так что он терял бдительность, и утро было убито.
С женами таких искушений не было – пока все продолжалось.
Но боль все изменила. Ту, которая оставалась на ночь, не только приглашали позавтракать, но и просили остаться на ланч, если у нее было время (и если до ужина не должна была появиться никакая другая). Он засовывал под махровый халат мокрую салфетку и бугристый пакет со льдом, и пока лед анестезировал его трапециевидную мышцу (а ортопедический воротник поддерживал шею), он откидывался на спинку красного бархатного кресла и слушал. В те времена, когда он думал только о работе до износа, он питал роковую слабость к высокоумным партнершам; обездвиженность оказалась прекрасной возможностью получше узнать не столь предсказуемо правильных женщин, как три его бывшие жены. Может, он чему-то научится, а может, и нет, но во всяком случае они помогут ему отвлечься, а согласно ревматологу из Нью-Йоркского университета, если пациент с должным упорством отвлекается, это помогает ослабить до приемлемого уровня и худшую боль.
Психоаналитик, к которому он ходил, занял противоположную позицию: он вслух интересовался, не для того ли Цукерман перестал бороться с болезнью, чтобы сохранить (практически не угрызаясь совестью) свой “гарем из нескольких Флоренс Найтингейл”. Эта шутка настолько возмутила Цукермана, что он чуть не ушел с сеанса. Перестал бороться? То, что он еще мог сделать, он уже сделал, что именно он еще не пробовал? Боли начались всерьез полтора года назад, и он отсиживал очереди у трех ортопедов, двух невропатологов, физиотерапевта, ревматолога, рентгенолога, остеопата, специалиста по витаминотерапии, иглоукалывателя, а теперь и к психоаналитику пошел.
Иглоукалыватель пятнадцать раз вкалывал ему по двенадцать иголок, всего сто восемьдесят, и ни одна ему нисколько не помогла. Цукерман сидел в одной из восьми кабинок голый по пояс, увешанный иголками, и читал “Нью-Йорк таймс” – покорно сидел по пятнадцать минут, платил свои двадцать пять долларов и ехал обратно на север Манхэттена, корчась от боли всякий раз, когда такси попадало в выбоину на дороге. Специалист по витаминотерапии провел серию из пяти уколов В12. Остеопат выворачивал его грудную клетку, выкручивал руку и резко дергал шею вбок. Физиотерапевт лечил горячим обертыванием, ультразвуком и массажем. Один из ортопедов делал уколы в болевую зону и велел выкинуть “Оливетти” и купить “Ай-би-эм”; второй, сообщив Цукерману, что он тоже писатель, пусть пока и не автор “бестселлеров”, осмотрел его в лежачем, стоячем и согнутом положении, а когда Цукерман оделся, вывел его из кабинета и заявил регистраторше, что на этой неделе у него больше нет времени на ипохондриков. Третий ортопед прописал ему каждое утро принимать в течение двадцати минут горячую ванну, после чего Цукерману следовало делать комплекс упражнений на растяжку. Ванну принимать было довольно приятно – Цукерман оставлял дверь открытой и слушал Малера, но упражнения, хоть и простые, так усугубили боль, что через неделю он помчался к первому ортопеду, и тот провел вторую серию уколов в болевые зоны, не принесших никакой пользы. Рентгенолог сделал снимки грудной клетки, спины, шеи, черепа, плеч и рук. Первый невропатолог, посмотрев снимки, сказал, что хотел бы иметь такой отличный позвоночник, второй отправил в больницу – две недели на вытяжке шеи, чтобы уменьшить давление на шейные диски, и это был, может, и не самый мучительный опыт в жизни Цукермана, но уж точно самый унизительный. Ему не хотелось о нем даже думать, а обычно с ним не происходило ничего такого, пусть и плохого, о чем он не хотел думать. Он был ошеломлен собственной трусостью. Даже обезболивание не только не помогало, а бессилие с ним еще больше пугало и подавляло. Как только прицепили грузы к системе, фиксировавшей ему голову, он понял, что рано или поздно осатанеет. На восьмое утро, хотя в палате никого не было и его не могли услышать, он, пришпиленный к кровати, стал орать: “Освободите! Выпустите меня!”, и через пятнадцать минут, уже одетый, платил сидевшему в своей клетке кассиру по счету. Только оказавшись в безопасности, на улице, он, ловя такси, подумал: “Ну и? А если бы у тебя было что-то действительно серьезное? Тогда что?”
Дженни приехала из деревни помочь ему выдержать эту двухнедельную растяжку. По утрам она бегала по галереям и музеям, а после ланча приходила в больницу и два часа читала ему “Волшебную гору”. Этот здоровенный томище вроде бы подходил к случаю, но недвижимого, привязанного к кровати Цукермана день ото дня все больше раздражали Ганс Касторп и перспективы духовного роста, предоставленные ему туберкулезом. Да и жизнь в палате 611-й нью-йоркской больницы никак не могла сравниться с великолепием швейцарского санатория перед Первой мировой войной, даже за 1500 долларов в неделю. “По-моему, – сказал он Дженни, – это нечто среднее между «Зальцбургскими семинарами»[5]5
“Зальцбургские глобальные семинары” – некоммерческая организация, основанная в 1947 году. Занимается по всему миру проектами, касающимися здравоохранения, образования, культуры, экономики, политики.
[Закрыть] и величественной старушкой «Куин Мэри». Пять великолепных трапез в день, а потом занудные лекции европейских интеллектуалов, расцвеченные шутками для эрудитов. Столько философии. И столько снега. Напоминает Университет Чикаго”.
С Дженни он познакомился, когда приехал к друзьям, обосновавшимся в деревне под названием Беарсвилль в верховьях Гудзона, на склоне лесистых гор. Дочь местного учителя, она сначала уехала в художественную школу колледжа Купер-Юнион, потом три года одна путешествовала с рюкзаком по Европе, а теперь, вернувшись туда, где начинала, жила в бревенчатом домике с кошкой, красками и чугунной печкой. Двадцати восьми лет, крепкая, одинокая, прямолинейная, румяная, с полным набором крупных белых зубов, пушистой морковной шевелюрой и впечатляющими бицепсами. Нет, не длинные пальцы соблазнительницы, как у его секретарши Дайаны, у нее были руки так руки. “Когда-нибудь, если захочешь, – сказала она Цукерману, – я расскажу тебе о своих работах – «Откуда у меня такие мускулы»”. Перед возвращением на Манхэттен он без приглашения заглянул к ней в хижину, якобы посмотреть ее пейзажи. Небеса, деревья, холмы и дороги – все было таким же прямолинейным, как она сама. Ван Гог без вибрирующего солнца. За мольберт были заткнуты цитаты из писем Ван Гога брату, а у кушетки среди книг по искусству лежал потрепанный томик с теми же письмами на французском – его она таскала по Европе в своем рюкзаке. На стенах, обитых оргалитом, карандашные рисунки: коровы, лошади, свиньи, гнезда, фрукты, овощи – все исполненные тем же лобовым очарованием: “Вот она я, и я – настоящая”.
Они прошлись по неухоженному садику за хижиной, попробовали кривоватых плодов. Дженни спросила:
– А почему ты все время втягиваешь руку в плечо?
Цукерман прежде и не осознавал этого: боль в тот момент заполонила примерно четверть его существования, а он все еще воспринимал ее как пятно на пальто, которое просто нужно отчистить. Однако, сколько он его ни отчищал, ничего не менялось.
– Видно, перетрудил, – ответил он.
– Вступал с критиками в рукопашную? – спросила она.
– Да нет, скорее с самим собой. Каково тебе жить здесь одной?
– Много рисую, много занимаюсь садом, много мастурбирую. Наверное, приятно иметь деньги и покупать что захочешь. Из всего, что ты делал, что было самым экстравагантным?
Самым экстравагантным, самым глупым, самым жестоким, самым возбуждающим – об этом он рассказал ей, а она ему. Часы вопросов и ответов, но дальше этого пока что не пошло. “Наше глубокое соитие без секса”, – так она это называла, когда они по ночам бесконечно беседовали по телефону.
– Может, мне и не повезло, но я не хочу быть одной из твоих девушек. Мне проще молотком орудовать, новые полы настилать.
– Как ты научилась полы настилать?
– Это просто.
Как-то за полночь она позвонила сказать, что только что при лунном свете собирала в саду овощи. – Местные говорят, через несколько часов заморозки ударят. Я собираюсь в Лемнос, смотреть, как ты зализываешь раны.
– В Лемнос? А что такое Лемнос? Я не помню.
– Туда греки отправили Филоктета[6]6
Один из героев Троянской войны, который, согласно Гомеру, был оставлен своими товарищами на острове Лемнос умирающим от укуса змеи, но затем поправился и смог вернуться домой.
[Закрыть] с его больной ногой.
На Лемносе она провела три дня. Она растирала ему шею анестезирующим хлорэтилом, сидела голая верхом на его скрюченной спине и массировала ему спину между лопатками, готовила им ужин, кок-о-вэн и кассуле – оба блюда были с сильным привкусом бекона, – с овощами, которые она собрала до морозов, рассказывала ему о Франции и своих тамошних приключениях с мужчинами и женщинами. Перед сном, выйдя из ванной, он застал ее у письменного стола – она читала его ежедневник.
– Читать тайком? – сказал он. – От такого открытого человека я этого не ожидал.
Она только рассмеялась и сказала:
– Ты не мог бы писать, если бы не занимался чем похуже. Кто это “Д”? А кто “Г”? И сколько нас всего?
– Почему ты спрашиваешь? Хочешь с кем-нибудь из них познакомиться?
– Нет, спасибо. Я, пожалуй, не хочу в это лезть. К такому выводу я пришла, когда у себя на горе решила, что в такие игры играть не буду.
В последнее утро ее первого приезда ему захотелось что-нибудь ей подарить – не книгу, а что-то другое. Он всю жизнь одаривал женщин книгами (и сопутствующими им лекциями). Дженни он дал десять стодолларовых банкнот.
– Это еще зачем? – сказала она.
– Ты же говоришь, что тебе противно приезжать сюда деревня деревней. И тебя занимает экстравагантность. У Ван Гога был брат, у тебя есть я. Бери!
Она вернулась через три часа в алом кашемировом пальто, бордовых сапогах и с большим флаконом Bal à Versailles.
– Я пошла в “Бергдорф”, – сказала она несколько смущенно, но и горделиво. – Вот сдача. – И она протянула ему два четвертака, десятицентовик и три цента.
Она сняла с себя всю свою деревенскую одежду, надела только пальто и сапоги.
– Знаешь что? – сказала она, глядя в зеркало. – Я чувствую себя очень хорошенькой.
– Ты действительно очень хорошенькая.
Она открыла бутылку и понюхала пробку. Провела ею по кончику языка. И снова вернулась к зеркалу. Пристально на себя посмотрела:
– Чувствую себя высокой.
Каковой она не была и быть не могла.
Вечером она позвонила из деревни рассказать, как отреагировала ее мать, когда она зашла к родителям в пальто, пахнущая Bal à Versailles, и сообщила, что все это ей подарил мужчина.
– Она сказала: “Что скажет бабушка, увидев тебя в таком пальто!”
Гарем так гарем, подумал Цукерман.
– Узнай бабушкин размер, я ей такое же подарю. Две недели на растяжке в больнице начинались с того, что днем Дженни читала ему “Волшебную гору”, а вечером в его квартире рисовала у себя в альбоме его стол, кресло, книжные полки, одежду – эти картинки она развесила по стенам его комнаты, когда приехала в следующий раз. Каждый день она зарисовывала какую-нибудь старинную американскую вышивку с вдохновляющим девизом посередине, их она тоже развесила по стенам – пусть они будут у него перед глазами.
– Это чтобы ты расширял свой кругозор, – сказала она.
Против душевных страданий существует лишь одно эффективное противоядие – физическая боль.
Карл Маркс
Если человек достаточно силен, чтобы противостоять определенным невзгодам, преодолевать более или менее тяжелые физические недуги, то от сорока лет до пятидесяти он оказывается в новом, относительно нормальном русле.
Винсент Ван Гог
Она составила таблицу, где отмечала прогресс в его лечении на основании его поведения. К концу седьмого дня таблица выглядела так:

На восьмой день, когда она со своим альбомом пришла в палату 611, Цукермана там не было; она обнаружила его дома, на коврике, полупьяного.
– Когда всё внутрь смотришь, разучаешься смотреть вовне, – сообщил он ей. – А всесторонность как же? Не выдержал изоляции. Сбежал.
– А! – весело ответила она. – Это разве побег? Я бы и часа не продержалась.
– Жизнь все мельчает и мельчает. Просыпаюсь и думаю о шее. Засыпаю и думаю о шее. Думаю лишь о том, к каким врачам бежать, когда шее ничего не помогает. Лег туда, чтобы стало получше, но понял, что так только хуже. Ганс Касторп справлялся с этим лучше, чем я, Дженнифер. В кровати никого, кроме меня. Только шея и мысли о шее. Ни Сеттембрини, ни Нафты[8]8
Сеттембрини, Нафта – персонажи романа Томаса Манна “Волшебная гора”.
[Закрыть], ни снега. Ни изысканного интеллектуального путешествия. Пытаюсь выбраться, но увязаю все глубже. Побежден. Пристыжен.
Он был так зол, хоть криком кричи.
– Нет, все дело во мне. – Она налила ему еще выпить. – Я плохо тебя развлекала. Ну почему я такая дубина? Ладно, забыли. Мы попробовали – не сработало.
Он сидел за столом на кухне, тер шею и допивал водку, а она готовила свою тушеную баранину с беконом. Он хотел, чтобы она была рядом. Дженни, уравновешенная моя, давай построим все на домовитости – ты живи со мной, будь моей милой дубиной. Он был почти готов позвать ее жить с ним.
– Лежа в койке, я сказал себе: “Будь что будет, но, когда я отсюда выберусь, я снова окунусь в работу. Болит – так пусть болит, и хрен с ним. Включи мозги и просто это преодолей”.
– И?
– Слишком простая задачка для мозгов. Мозги до этого не снисходят. Вот нервничать, прикидывать, бороться, лечить, пытаться не замечать, пытаться вычислить, что же это такое: при моей обычной замкнутости это – как Новый год на Таймс-сквер. Когда тебе больно, думаешь только об одном: как сделать, чтобы было не больно. Думаешь и думаешь, и от навязчивой мысли не отвязаться. Зря я попросил тебя приехать. Надо было пройти это одному. Но даже тут я оказался слаб. А ты стала свидетелем.
– Свидетелем чего? Да ладно тебе, на мой взгляд, все было прекрасно. Ты даже не представляешь, как мне нравилось носиться туда-сюда в юбке. Я столько времени жила как привыкла – истово и порывисто. А для тебя я могу быть мягче, нежнее, спокойнее – ты дал мне возможность вести себя по-женски. Так что нам обоим не из-за чего огорчаться. Для нас, Натан, это пора жизни без раскаяния. Я тебе полезна, ты мне полезен, и давай не будем беспокоиться о последствиях. Пусть о них моя бабушка беспокоится.
Выбрать Дженни? Соблазнительно – если она согласится. Пышет энергией, здоровая, независимая, с цитатами из Ван Гога, с непоколебимой волей – все это способно угомонить паникующего инвалида. Но что будет, когда он поправится? Выбрать Дженни за то, чем она приближается к миссис Цукерман Первой, Второй и Третьей? Это лучший довод, чтобы ее не выбрать. Выбрать ее, как больной выбирает сиделку? Жена в качестве примочки? При таком раскладе вариант только один – не выбирать ее. Просто выжидать, и будь как будет.
Суровая депрессия, вызванная восьмью днями заключения на растяжке и решением выжидать – будь как будет – погнала его к психоаналитику. Но у них совсем не заладилось. Психоаналитик рассказывал о притягательности недуга, об отдаче, которую получаешь от болезни, говорил Цукерману о том, как болезнь подпитывает психику пациента. Цукерман допускал возможность выгоды в аналогичных загадочных случаях, но сам терпеть не мог болеть: никакая отдача не могла компенсировать физическую боль, лишающую его дееспособности. “Вторичный выигрыш”, обещанный психоаналитиком, и близко не возмещал основных потерь. Быть может, предположил психоаналитик, тот Цукерман, которому отдача выгодна, это не та личность, какой он себя воспринимает, а неисправимое дитя, терзающийся грешник, мучающийся совестью пария, быть может, он – раскаивающийся сын своих покойных родителей, автор “Карновского”.
У психоаналитика на то, чтобы высказать это вслух, ушло три недели. А на то, чтобы сообщить об истерическом конверсионном симптоме могло бы уйти еще несколько месяцев.
– Искупление через страдание? – сказал Цукерман. – Болью я сужу себя за свою книгу?
– Разве не так? – спросил психоаналитик.
– Нет, – ответил Цукерман, встал и вышел из кабинета: трех недель терапии хватило с лихвой.
Один из врачей прописал ему рацион из двенадцати таблеток аспирина в день, другой прописал бутазолидин, следующий – робаксин, следующий – перкодан, следующий – валиум, следующий – преднизон, следующий велел спустить все таблетки в унитаз, первым делом – ядовитый преднизон, и “учиться с этим жить”. Неподдающаяся лечению боль неизвестного происхождения – одна из превратностей жизни, и как бы она ни омрачала каждое движение, такая боль считалась полностью совместимой с отличным состоянием здоровья. Цукерман был просто здоровым человеком, страдающим от боли.