Текст книги "Метрополис"
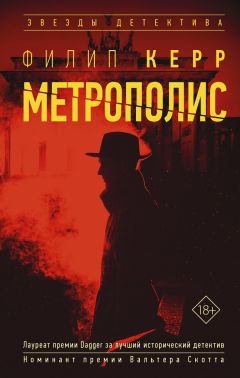
Автор книги: Филипп Керр
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Не могу с этим поспорить.
– Но я жду, что вы подумаете: он должен рисовать прекрасные пейзажи, милых улыбчивых девушек и котят. Что ж, я просто не могу. Больше не могу. После окопов не остается ни милых девушек, ни прекрасных пейзажей, ни котят. Видя какой-нибудь ландшафт, я всякий раз пытаюсь представить, как бы он выглядел с огромной воронкой посередине, окопом на переднем плане и скелетом, свисающим с колючей проволоки. Видя прелестную улыбающуюся девушку, я пытаюсь представить, как бы она выглядела разрезанная пулеметной очередью. А если бы я когда-нибудь нарисовал котенка, то, наверное, изобразил бы двух безносых мужиков, разрывающих его на части за обеденным столом.
– И большой спрос на вещи такого рода?
– Я делаю это не ради денег. Мы так рисуем, потому что должны рисовать именно так. Да, верно, я не единственный. Многие художники рассуждают и работают так же. Макс Бекманн. Отто Дикс… Да, вам действительно стоит увидеть картины Дикса, если вы считаете, что это со мной что-то не так. Некоторые из его работ гораздо беспощаднее всего того, что могу нарисовать я. Но, для протокола, ни одного из них я не считаю убийцей. И в этом абсолютно уверен.
На мгновение он заставил меня порадоваться тому, что я лишь глупый полицейский, – Гросс явно думал именно так. Тем не менее я был полон решимости доказать, что он ошибается. Просто посчитал, что у меня получится. Но, вероятно, я заблуждался и в этом, а позже чувствовал себя так, будто плыл против волновой машины в крытом бассейне Велленбада.
– Честно говоря, мне наплевать, какие темы вы выбираете для живописи, герр Гросс. Это ваше личное дело. Тут Берлин, а не Москва. Здесь люди могут делать то, что им нравится. Более или менее. Как и вы, я тоже иногда думаю, что после войны ничто не может оставаться прежним. Но полагаю, главное различие между вами и мной в том, что я еще не отказался от красоты. От оптимизма. От надежды. От закона и порядка. От толики нравственности. От святой Германии, за неимением лучших слов.
Гросс рассмеялся, но его зубы крепко сжали мундштук. Я продолжал плыть дальше, по-прежнему против течения.
– Как ни странно, я все еще вижу лучшее в женщинах. Например, моя жена. Я считал ее самым замечательным человеком, которого когда-либо встречал. И не изменил мнение даже после ее смерти. Думаю, это делает меня неизлечимым романтиком. Кем-то неизлечимым, во всяком случае.
Гросс тонко улыбался, а его перьевая ручка продолжала бегать по листу. Время от времени он поднимал на меня проницательный взгляд, оценивал, измерял, прикидывал. Раньше меня никто не рисовал, и это вызывало странное ощущение, будто меня раздевали догола, до самой сути, как один из трупов в выставочном зале «Ханно».
– Когда мужчина говорит о замечательной женщине, – произнес художник, – это обычно означает, что она ему нравится, поскольку очень старается быть похожей на мужчину. Вы в последнее время смотрели на женщин в этом городе? Господи, большинство из них даже внешне похожи на мужчин. В наши дни только мужчины выглядят как настоящие женщины. И мне плевать на то, что в них там замечательного.
– Ну, на один вопрос вы, определенно, ответили: почему вам так нравится рисовать мертвых женщин. Потому что вы не особо их любите. Но мне нравится ваш рисунок. Очень. Вы не отдадите его мне?
Гросс вырвал страницу из альбома, добавил дату, подпись и место, затем протянул через стол, словно счет:
– Он ваш. Подарок берлинской полиции от меня.
– Повешу его на стену. Рядом с Гегелем. – Я снова посмотрел на портрет и кивнул: – Но вы сделали меня слишком молодым. Слишком улыбчивым. Точно школьника, который только что сдал абитур.
– Именно таким я вас вижу, сержант. Молодым и наивным. Вы и сами себя таким видите. Что меня удивляет, учитывая все, что вы, должно быль, пережили за четыре года на фронте.
– От вас, сэр, это огромный комплимент. Заставляет почувствовать себя английским геем, который стареет лишь на портрете и теряет душу.
– Думаю, вы имеете в виду Дориана Грея.
– Да, его. Разве что моя душа все еще при мне. Да, через много лет я буду смотреть на этот рисунок и думать, что мне повезло. Я прошел через самое худшее, но моя душа уцелела. А это чего-то да стоит.
На следующий день, в среду, у меня был еще один выходной. Я планировал дойти до «Тица» и в честь повышения прикупить кое-что для своего нового кабинета на «Алекс»: карту города на стену, приличного размера пепельницу, настольную зажигалку, письменный прибор, бутылку хорошего «Корна» и несколько стаканов в ящик стола – на случай, если кто-нибудь заглянет. А после собирался провести тихое утро в своей комнате, читая полицейские досье. Но за завтраком – кофе, тильзитер и свежие булочки из еврейской булочной на Шверинштрассе – выяснилось, что у фрау Вайтендорф, высокая прическа которой выглядела еще более каменной, чем обычно, из-за чего я подумал, что это, наверное, парик, оказались другие идеи относительно, по крайней мере, первой половины моего утра. Квартирная хозяйка воткнула сигарету в свое толстое румяное лицо, прикурила от спички, которой чиркнула по спине оловянной обезьянки, часто вызывавшей у нее улыбку (хотя не в этот раз), и мучительно перешла к делу:
– Полагаю, вы не видели герра Рэнкина, – сказала она, убавляя громкость радиоприемника фирмы «Телефункен», стоявшего на буфете, рядом с желтыми цветами в вазе, прямо под гравюрой Ахенбаха с морским пейзажем.
– Сегодня нет.
– А когда вы видели его в последний раз, герр Гюнтер?
– Не знаю. Возможно, вечером в прошлую пятницу? Когда мы все сели есть ваш восхитительный хаш из легкого.
– Это был последний раз, когда кто-то из сидящих за этим столом его видел, – зловеще добавила она.
Я оглянулся на своих соседей, которые уже приступили к завтраку:
– Это правда?
Роза кивнула и вышла из-за стола.
Герр Фишер тоже кивнул, но счел нужным добавить свои три пфеннига, ни один из которых не имел ни малейшего отношения к делу:
– Да. В пятницу вечером. Я помню, поскольку на следующий день маршировал с коммунистами по Бисмаркштрассе, а ваши открыли огонь после того, как остановили наш духовой оркестр, чтобы пропустить автомобили через перекресток на Круммештрассе. Что было совершенно необоснованно. Но весьма типично. Именно этого мы привыкли ожидать от берлинской полиции.
Мне, разумеется, нужно было играть на стороне полиции. Я пожал плечами:
– Дорожное движение имеет приоритет перед Марксом и Энгельсом.
– Я имел в виду стрельбу.
– Ах, это… Послушайте, все это не имеет отношения к делу. Я думал, мы говорим о герре Рэнкине, а не об общественном порядке.
– Он пропал, – заявила фрау Вайтендорф. – Я уверена.
– Точно? Может, он просто уехал на несколько дней. Начинаю жалеть, что сам этого не сделал.
– Его чемодан на месте.
– Вы были в его комнате?
– Он платит мне за уборку. И за смену постельного белья раз в неделю. Я заходила вчера, и там явно несколько дней никого не было. На полу пустые бутылки, а в тазике для бритья кровь.
– Вы уверены?
– Идите и посмотрите сами.
Мы все поднялись наверх, фрау Вайтендорф отперла дверь ключом со связки на розовой шелковой ленте и провела меня внутрь.
– Не думаю, что нам всем нужно входить, – сказал я Фишеру. – Что бы ни произошло, полагаю, мы должны уважать частную жизнь Рэнкина.
Произнося эти слова, я разглядывал рисунки на стене. На них были обнаженные мужчины в различных стадиях возбуждения. Для воображения там не оставалось ровным счетом ничего.
– Типичный коппер, – заявил в ответ Фишер. – Всегда говорит людям, что им делать. Прямо как нацисты, которым он и ему подобные служат с таким восторгом. Послушайте, мы все тут живем. А Роберт Рэнкин – мой друг. Хороший друг. И не то чтобы раньше он меня сюда не приглашал. Думаю, я имею право знать, если с ним что-то случилось.
Я устал от постоянных придирок Фишера и небылиц о том, что раз я полицейский, то еще и лакей нацистов.
– Думаю, вы имеете право ничего не знать, – сказал я, выпихнув его из дверного проема. – Хотя мне кажется, ничего – именно то, в чем большевистская ищейка вроде вас разбирается лучше всего.
– Послушайте, я гражданин. Вам следует быть повежливее. Или я буду вынужден доложить вашему начальству.
– Валяйте. А пока, думаю, я с вами предельно вежлив, герр Фишер, даже не сомневайтесь в этом, будьте так любезны.
Я захлопнул перед ним дверь и остался наедине с фрау Вайтендорф. Судя по улыбке, ей понравилось, как я разговаривал с герром Фишером.
– Левый ублюдок, – пробормотала она.
– Как правило, ничего не имею против коммунистов, – сказал я. – Но для этого человека готов сделать исключение.
Комната Рэнкина очень напоминала мою, однако была просторнее и лучше обставлена. Мебель такая же, но фотографий больше, а на столе – пишущая машинка марки «Роял». Кромка наполненного розоватой водой тазика была забрызгана кровью. На полу, среди осколков грампластинок стояло несколько пустых бутылок из-под хорошего виски; пепельница рядом с пишущей машинкой была полна окурков английских сигарет; на шкафу лежал недурной кожаный чемодан. На полках оказалось, по меньшей мере, десять экземпляров книги «Упакуй свои тревоги», словно Рэнкин сам ее скупал, пытаясь поправить продажи. Я прошел в спальню и осмотрел узкую односпальную кровать. От подушки сильно пахло духами «Коти». Это, вероятно, говорило о том, что Роза Браун была знакома с Робертом Рэнкином куда ближе, чем я мог предположить.
Я поднял одну из пластинок и осмотрела этикетку: певицей значилась Бесси Смит[30]30
Бесси Смит – американская певица, одна из наиболее известных и влиятельных исполнительниц блюза 1920-х – 1930-х годов. Первая блюзовая певица, завоевавшая международную известность.
[Закрыть].
– Зачем мужчине разбивать свои пластинки? Это ненормально.
– Зависит от того, нравится ли вам Бесси Смит, – ответил я. – Как по мне, можно прожить и без нее.
– Не стану скрывать, герр Гюнтер, я беспокоюсь за герра Рэнкина. С ним что-то случилось.
Она затушила сигарету в пепельнице и сложила руки под своей внушительной грудью.
– Не скажу, что склонен с вами согласиться. Пока. Здесь я ничего такого не увидел. Он много пьет. Возможно, больше, чем следовало бы. Разбил несколько пластинок. Люди делают такое, когда пьяны. И он мог порезаться, пока брился. Если бы не отсутствие квасцового камня[31]31
Квасцовый камень – природный антисептик, универсальное средство для использования в качестве средства после бритья, дезодоранта и ухода за кожей.
[Закрыть] на полочке, я бы не видел причин для беспокойства.
Кроме, пожалуй, запаха духов «Коти» на наволочке пропавшего мужчины.
Я сел за стол Рэнкина. Там лежал дневник и стопка машинописных страниц возле большого черного «Рояла», я принял их за отрывок книги, которую англичанин переводил на немецкий. Возможно, они могли дать ключ к разгадке произошедшего.
– Почему бы вам не оставить меня на несколько минут? Я пошарю в ящиках стола. Посмотрим, что смогу найти.
– Даже не знаю, – ответила фрау Вайтендорф. – Мне следует остаться и присмотреть тут за всем. Ради герра Рэнкина.
– Верно. В наши дни никому нельзя доверять. А копперам тем более.
– Я не имела в виду, что вы можете что-нибудь украсть, герр Гюнтер.
– Просто вы знаете меньше полицейских, чем я. – Мне вспомнился комиссар Кёрнер и то, как он или его люди поживились содержимым сумочки Евы Ангерштейн. – Ладно, присаживайтесь. Вот, покурите, пока ждете.
Я достал пачку своих «Салем Алейкум», зажег нам по сигарете и открыл верхний ящик. Мое внимание сразу привлек маленький браунинг 25-го калибра: я старательно его обнюхал – оружие недавно чистили. Остальные вещи выглядели достаточно безобидно, даже похабные открытки с мальчиками из «Уютного уголка» – гей-бара неподалеку. Учитывая открытки и рисунки на стене, я засомневался, что не сам Рэнкин нанес духи на подушку. Но, разумеется, прекрасно осознавал, что принимаю желаемого за действительное. Во-первых, в ящиках не было никаких флаконов с духами. Во-вторых, не всякому гомосексуалисту не нравятся женщины. Кроме того, Рэнкин был привлекательным мужчиной, к тому же при деньгах, что делало его почти неотразимым для всякой берлинской женщины, включая Розу. Я видел, как она смотрела на него, а он – на нее, и, принимая в расчет его явное пристрастие к юношам и ее привычку переодеваться мужчиной, у них, похоже, было много общего.
Я заглянул в дневник и выяснил лишь то, что Рэнкин часто обедал в «Устричном салуне Хона» и постоянно посещал оперы, что выглядело сомнительным времяпровождением.
– Если верить дневнику, в пятницу вечером он собирается пойти в оперетту, – сказал я. – Так что, если умер, у него еще есть время вернуть деньги за билет.
– Не шутите с такими вещами, герр Гюнтер.
– Да, возможно, вы правы.
Я взял стопку машинописных страниц и принялся читать.
Должен признать, что получил несколько больше, чем рассчитывал.
«В апреле я присоединился к первому батальону Королевских уэльских фузилеров на Сомме. Нас разместили в Морланкуре, очень красивой деревушке, а наши окопы – прежде французские, а значит, кишевшие крысами больше обычного, – находились во Фрикуре, в непосредственной близости от немцев, которые были весьма расположены забрасывать нас всеми сортами новых бомб и гранат. Худшим среди этого экспериментального оружия было то, что мы прозвали «кухонной мойкой», – двухгаллонная бочка, наполненная взрывчаткой, кусками металла и горючим мусором. Всем, что немцы могли найти и использовать в качестве шрапнели. Однажды мы наткнулись на неразорвавшуюся «мойку», и, помимо обычных гаек и болтов, в ней лежал целый куриный скелет. Возможно, звучит забавно, но это не так. Кусочки костей опасны не меньше, чем шурупы и ржавые детали винтовок, а может, и больше. Я видел солдата, которому в голову попал осколок челюсти его же командира, после того как в траншею угодил минометный снаряд. Лишь несколько дней спустя солдат умер от полученных ран.
Через несколько недель меня перевели во второй батальон и по заключению врача признали негодным к окопной службе. Это стало для меня некоторой неожиданностью, поскольку, если не считать кашля, который оказался бронхитом, я чувствовал себя вполне здоровым. Потому вернулся во Фризе и принял командование штабной ротой. Там было гораздо спокойнее, или, по крайней мере, мне так казалось. Почти сразу произошло нечто, убедившее меня в том, что лучше вернуться в окопы и оказаться лицом к лицу с немцами. Однажды мне пришлось одолжить лошадь и поехать в ближайший полевой госпиталь из-за траншейной стопы[32]32
Траншейной стопой называют холодовую травму ног, развивающуюся при продолжительном воздействии высокой влажности в сочетании с умеренно прохладной температурой.
[Закрыть], которая стоила мне ногтей на ногах. Это можно считать везением – для многих единственным лечением становилась хирургическая обработка, а иногда и полная ампутация. Как только меня вылечили, бригадный велел мне взять руководство расстрельной командой и исполнить решение трибунала, который осудил обвиненного в трусости валлийского капрала.
Его дело было мне хорошо известно, как и почти всем в Королевском уэльском полку. За день до того, как бросить винтовку перед лицом врага, капрал ходил на нейтральную полосу, чтобы забрать раненого сержанта. Того все считали мертвым, однако он очнулся и начал звать на помощь. Средь бела дня капрал перелез через бруствер и вооруженный лишь белым платком, которым размахивал перед собой, точно флагом, медленно двинулся через нейтральную полосу. Сначала немцы стреляли ему под ноги, пытаясь остановить, но он продолжал идти, и постепенно винтовки смолкли. Немцы признали огромное мужество этого человека.
Добравшись до раненого сержанта, капрал перевязал его раны, дал немного рома, затем поднял на спину и донес до своего окопа. Все свидетели говорили, что поступка храбрее не видели. Было чудом, что его не пристрелили за все эти хлопоты. Ему аплодировали даже немцы. Капрала можно было бы представить к медали, если бы хоть один офицер наблюдал случившееся.
Выживи сержант, все было бы хорошо, но на следующий день он умер от ран, и кто-то в бригаде оказался достаточно глуп и сообщил об этом капралу за несколько минут до начала немецкой атаки, когда и произошел инцидент с винтовкой. Вместо того чтобы оборонять окоп, капрал с отвращением отшвырнул винтовку и вернулся в штаб бригады, где его в конце концов арестовали.
Если бы ему достался адвокат получше, капрал мог бы уцелеть. В армейском приказе оговаривалось, что смертный приговор может быть смягчен, если поведение обвиняемого на поле боя было достойно подражания. По любым стандартам, героизма капрала более чем хватало, чтобы ему сохранили жизнь. Но на вопрос военного трибунала, почему он бросил винтовку, капрал ответил, что иначе пристрелил бы командовавшего ротой идиота-лейтенанта. Или кого-нибудь из генерального штаба, окажись они на пути. Хотя такой шанс вряд ли выпал бы, добавил капрал, поскольку, по его мнению, штабисты еще большие трусы, чем он сам. Любая угроза офицеру была отягчающим обстоятельством. Капрала признали виновным и приказали казнить на рассвете. Расстрельную команду собрали из вытянувших жребий солдат его же роты.
Конечно, я мог бы отказаться от этой обязанности, что означало бы неподчинение прямому приказу и подвело под трибунал меня самого. Кроме того, командование принял бы кто-нибудь другой, а результат неизбежно был бы тот же.
Как бы то ни было, по-прежнему хромая, я сумел навестить капрала в ночь перед казнью и оставил ему небольшую бутылку рома и несколько сигарет. Думаю, спал он не больше моего.
На рассвете мы отвели капрала на церковное кладбище, где приводились в исполнение смертные приговоры, и там в присутствии французского военного губернатора привязали к небольшому обелиску, установленному в честь жертв франко-прусской войны. Что показалось мне ироничным.
Утро было прекрасным. Я такого еще не видел в этой несчастной стране. Усыпанное цветами примулы вечерней кладбище вызывало в памяти восхитительное майское утро в Оксфорде. Я предложил капралу завязать глаза, но он упрямо тряхнул головой и, мужественно взглянув на своих товарищей, ободряюще кивнул, словно пытаясь придать им сил для выполнения приказа. Последними его словами стал батальонный клич: «Держись, Уэльс!» Человека храбрее я не встречал, что тоже показалось мне ироничным, поскольку его расстреливали за трусость. Однако парни сплоховали и промахнулись мимо картонной мишени, приколотой возле сердца капрала, поэтому мне, как командиру, пришлось добить бедолагу.
Французы называют такой выстрел в голову coup de grâce – удар милосердия, но ничего милого или сердечного в нем нет. А самое ужасное, что голубые глаза капрала в момент его последнего испытания были широко распахнуты. Я говорю «его последнего испытания», но, разумеется, это было испытание и для меня. Капрал наблюдал, как я расстегиваю кобуру своего «Веблея», и, клянусь, улыбался. Уже было достаточно тяжело, но потом он шепотом справился о состоянии моей ноги. Я на всю жизнь запомнил выражение его лица, и даже сегодня, десять лет спустя, могу вспомнить эти события, будто они случились вчера. Я часто просыпался от невероятно яркого кошмара, в котором снова был во Фризе с этим «Веблеем» в руке. И одного такого сна хватало, чтобы несколько дней страдать тяжелейшей депрессией. Столько раз я сожалел о том, что пуля досталась не мне, а бедному капралу.
Даже сейчас, записывая все это, я вижу, как его череп взрывается, точно лопнувший футбольный мяч: я тщательно подбираю слова. Капрал до войны играл в футбол за команду «Врексхэм Юнайтед» и трижды выигрывал Кубок Уэльса. Между тем одного вида и запаха примулы вечерней мне достаточно, чтобы превратиться в бормочущую развалину».
В этом месте Рэнкин закончил печатать, хотя, судя по тексту оригинала, был лишь на середине главы. Я дочитал бы ее, если бы знал английский.
Я отложил рукопись, затянулся «Салемом» и на мгновение задумался. Странное чувство вызывал рассказ человека, который когда-то был моим врагом, хоть и являлся наполовину немцем, но, во всяком случае, это заставило меня осознать, что сходства у нас с ним куда больше, чем различий. Мы словно были братьями по оружию. И я вдруг понял, что, как и фрау Вайтендорф, немного беспокоюсь за Рэнкина.
– Ну? Что вы думаете?
Я почти забыл, что не один в комнате англичанина.
– Те цветы на буфете в столовой, – произнес я. – Желтые. Как они называются?
– Примула вечерняя, – ответила фрау Вайтендорф. – Я собираю их в парке Генриха фон Клейста. В это время года их там тысячи. Красивые, не правда ли? А что?
– Когда вы их туда поставили?
– В субботу днем. Это важно?
– Думаю, в будущем было бы неплохо выбирать какие-нибудь другие. Похоже, эти цветы пробуждают у нашего англичанина ужасные воспоминания. Возможно, даже суицидальные.
– Как такое возможно?
– Не знаю. Но это определенно совпадает с моим личным опытом. Самая пустяковая вещь способна вызвать разные неприятные мысли о войне. – Я докурил и затушил сигарету. – Наведу кое-какие справки на «Алекс» и попрошу кого-нибудь проверить больницы. На всякий случай.
Я мог бы упомянуть еще и зал «Ханно», если бы не тот факт, что недавно сам его посетил и был более-менее уверен, что не видел там покойника, похожего на Роберта Рэнкина.
С «Алекс» позвонили и попросили меня прервать отпуск и прийти на следующий день, что оставляло достаточно времени для ужина с Теей фон Харбоу. Она предложила встретиться в отеле «Адлон».
Теа оказалась высокой, скорее интересной, чем красивой, полноватой женщиной лет сорока. Глядя на нее, трудно предположить, что она написала сценарий фильма о роботах и индустриальном будущем. Мне легче было бы поверить, что передо мной оперная певица: грудь у нее определенно подходящая.
На Тее был светлый твидовый костюм, мужская рубашка и галстук, белые чулки и пара серебряных сережек. Короткие светлые и зачесанные набок волосы; рот, возможно, слишком широкий, а нос – слишком длинный, но она выглядела элегантной, как бритва Оккама, и такой же острой.
Теа пришла с дорогим канцелярским набором от «Либманн» и кучей разнообразных мелочей, которые заставили меня подумать, что она, возможно, бывала в Индии: золотым портсигаром с эмалью, напоминавшей любимый ковер Великого Могола; множеством браслетов из серебра и слоновой кости; зеленым клатчем с вышитым индуистским богом, где лежали лорнет и несколько крупных банкнот. Они оказались очень кстати: ресторан отеля «Адлон» был самым дорогим в Берлине. Я об этом знал, поскольку успел увидеть в меню суммы выкупа, которые здесь смеха ради называли ценами. К тому же за соседним столиком сидел Фриц Тиссен[33]33
Один из крупнейших немецких промышленников времен Веймарской республики.
[Закрыть]. Естественно, Теа фон Харбоу оказалась его подругой; я полагаю, она знала всех, кого стоило знать, а Тиссен стоил и того больше. На нем был чрезвычайно изысканный двубортный серый костюм, по сравнению с которым мой собственный выглядел шкурой мертвого носорога.
– И когда вы стали полицейским? – спросила Теа.
– Сразу после войны.
– И вам только сейчас удалось попасть в Комиссию по расследованию убийств?
– Я никуда не торопился. А что насчет вас? Как вы попали в кинобизнес?
– Обычным способом – через мужчину. Через двух, если быть честной: моего нынешнего мужа и предыдущего. Наверное, мне всегда больше хотелось быть писательницей, чем женой. И до сих пор хочется, по правде говоря.
Ее голос был из тех, что медленно обволакивает твои уши изнутри и снаружи, словно наполненный сладчайшим медом: глубокий, сексуальный и очень уверенный, с легким намеком на шепот, будто кружево по краю наволочки. Мне нравился и ее голос, и она сама. Трудно не полюбить женщину, которая покупает тебе хороший ужин в «Адлоне».
– А как ко всему этому относится ваш муж? Нынешний, я имею в виду.
– У нас соглашение. Он видится с другими женщинами – со многими, в основном с актрисами, – а я стараюсь относиться к этому с пониманием. Есть клуб, куда он с удовольствием ходит – «Рай и ад» на Курфюрстендамм. Возможно, он и сейчас там с какой-нибудь кошечкой.
– Мне жаль.
– Не стоит. Во многих отношениях Фриц – очень эгоистичный, самовлюбленный человек. Но еще он чрезвычайно талантлив. И я очень восхищаюсь им. Так что большую часть времени мы – довольно хорошая команда.
– Я знаю. Видел вашу последнюю картину. «Метрополис».
– И что вы думаете?
– Чего я только не думал. Этот фильм наводит на размышления. Мне особенно понравилась та часть, где рабочие восстают против своих хозяев. Даже удивительно, что они этого еще не сделали. Вот что я думаю.
– Значит, мы думаем одинаково.
– Хотя по вашим знакомым этого не скажешь. – Я бросил взгляд в сторону Тиссена.
– Тиссен? Он не так уж плох. Вкладывает деньги во многие наши картины. Даже в неудачные. И мне этого достаточно.
– Ну и как «Метрополис»?
– Он получил смешанные отзывы. Даже от моего дорогого мужа. Когда он слышит о «Метрополисе» дурное, обвиняет меня, когда хорошее – предпочитает принимать все на свой счет. Таковы режиссеры. Не только для наших кинокамер нужны штативы, – для его эго тоже. Сценаристы – низшая форма жизни. Низшая и дешевая. Особенно сценаристы-женщины. В любом случае, мы покончили с картинами о будущем. В Германии всем наплевать на будущее. По крайней мере в настоящий момент. Будь иначе, никто не продолжил бы голосовать за коммунистов и нацистов. У нас появилось бы нормальное правительство, которое смогло бы добиться успеха. Вот мы и сфокусировались на чем-то совершенно ином, более популярном. В частности, на теме серийных убийц вроде Фрица Хаарманна и второго, который убивал берлинских проституток и снимал с них скальпы: Виннету. Фриц очарован подобными убийствами. В частности, этими. Можно даже сказать, что он ими одержим.
– А почему, как вы думаете?
– Знаете, иногда я сама задаюсь этим вопросом.
– И к каким ответам приходите?
– Возможно, дело в том, что жертвы – проститутки: Фриц всегда был неравнодушен к берлинскому полусвету. А возможно, из-за скальпирования. Да, думаю, дело в этом. Такое весьма шокирует. Если бы Фриц не был кинорежиссером и не интересовался другими шокирующими историями, я бы забеспокоилась о нем.
– Не думаю, что он один такой, Теа. Похоже, убийства на сексуальной почве – навязчивая идея, которую он разделяет со многими берлинскими художниками.
Я упомянул о своей встрече с Георгом Гроссом и о том, что он рассказал мне про Отто Дикса и Макса Бекманна.
– Меня это не удивляет. Фриц считает, что Берлин стал столицей секс-убийств Западного мира. Возможно, так и есть, не знаю. Несомненно, так можно подумать, если судить по тому, что пишут в газетах. Вот мы и решили, что хотим прямо здесь, в Берлине, снять картину о таком убийце, как Виннету. И о детективе Эрнсте Геннате.
– Он будет в восторге.
– А что это за человек?
– Геннат? Будда с огромной сигарой и голосом отчаянно простуженного черного медведя. Лучший детектив Берлина и, возможно, Германии, но не говорите ему это в лицо. Толстый, слегка неуклюжий на вид, ворчливый. И его легко недооценить.
– У него есть жена?
– Нет.
– Подружка?
– Вам бы пришлось учить его тому, как это делается в наши дни. И сомневаюсь, что у него на такое найдется время или желание.
Она кивнула и отпила немного превосходного «Мозеля», который заказала к ужину. Затем улыбнулась. Ее улыбка была яркой, полной тепла и предназначалась, как я слишком поздно понял, мужчине, сидевшему позади меня.
– Так говорил и Курт Райхенбах.
– Не уверен, что смогу что-то добавить к уже сказанному.
– Возможно. Но Фриц считает, что наши инвесторы крайне заинтересованы в том, чтобы у нас был источник, который действительно служит в Комиссии по расследованию убийств. Именно такие вещи производят впечатление на подобных людей. Фриц говорит, ваши консультации помогут убедить их в максимальной правдивости и реалистичности нашего фильма. И что вы поможете объяснить, почему убийца поступает так, как поступает. Как все сходит ему с рук. Какое-то время, во всяком случае. И, в конце концов, как его поймают.
– Вы говорите об этом как о неизбежном результате.
– А разве нет?
– Вовсе нет. Вы удивитесь, сколько убийц выходят сухими из воды. Если бы поймать их было легко, я бы уже регулировал движение на Потсдамской площади. Или занимался розыском пропавших кошек и собак.
– Вот утешили…
– В сыскном деле часто и ждут у моря погоды, и созерцают собственный пупок, Теа. И надеются на удачу. Уже не говоря о том, сколько там бездарности и глупости.
Я мог бы добавить «непорядочности», но у меня сложилось впечатление, что она и Фриц Ланг хотели сделать детектива героем своего фильма.
– Вы удивитесь, узнав, что большинству детективов в раскрытии дел помогают преступники. Преступники, которые по той или иной причине становятся информаторами. Фактически большинство полицейских без них пропали бы. Даже в Комиссии по расследованию убийств нам часто приходится полагаться на берлинские низы, чтобы разобраться что к чему. Иногда лучший детектив – тот, у кого самый надежный информатор. Или тот, кто лучше выжимает лимоны, если вы меня понимаете. Хотите узнать причину, по которой большинству убийц все сходит с рук?
– Расскажите.
– Потому, что они выглядят как вы и я. Ну, как я, во всяком случае. Женщины все-таки нечасто убивают проституток. Даже в Берлине. Вы хотите реализма? Тогда сделайте своего убийцу милягой, безобидным соседом. Вот мой совет. Такой парень в чистой рубашке и бабочке, который добр к детям и животным. Респектабельный. Регулярно принимает ванну, мухи не обидит. По крайней мере так скажут все соседи, когда его наконец арестуют. Никаких отвратительных шрамов, горба, выпученных глаз, длинных ногтей и зловещей ухмылки. Можете забыть о Конраде Фейдте или Максе Шреке[34]34
Немецкие актеры с демоническим амплуа.
[Закрыть]. Сделайте своего героя неприметным. Маленьким человеком. Кем-то вообще не похожим на злодея. Кем-то, чья жизнь утратила смысл. Возможно, ему будет не хватать драматизма, но это реалистично.
Теа молчала несколько минут.
– Что ж, расскажите мне о Виннету.
– Я расскажу все, что мне позволено рассказать. В другой раз приглашу вас посетить Комиссию и, возможно, познакомлю с самим Геннатом, покажу фургон отдела убийств, но завтра мне нужно работать.
– Не возражаете, если я буду делать заметки? Только моя секретарша их перепечатает, а Фриц прочтет.
– Это можно.
Теа зажгла сигарету, раскрыла на столе блокнот и начала записывать мои слова, словно я диктовал Священное Писание. Возможно, именно поэтому в конце я признался, что многие на «Алекс» – то есть многие мужчины – не считали важными совершенные Виннету убийства:
– Я вот что имею в виду, Теа: мертвые проститутки в этом городе стоят пфенниг за десяток. И хотя я, как и Вайс с Геннатом, очень хочу поймать этого ублюдка, многим другим на «Алекс» на него плевать. И не только на «Алекс», но и по всему городу. Есть берлинцы, которые считают, что многие из этих девушек получили по заслугам. И думают, что Виннету выполняет работу Господа, расчищая авгиевы конюшни. Возможно, те же сбитые с толку люди полагают, что Германии нужна сильная рука, которая выведет страну из нынешнего положения. Кто-то вроде Гитлера. Или, возможно, кто-то армейский. Гинденбург. А может, Гамельнский крысолов, я не знаю.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































