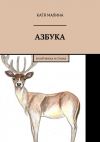Текст книги "Алфавита"
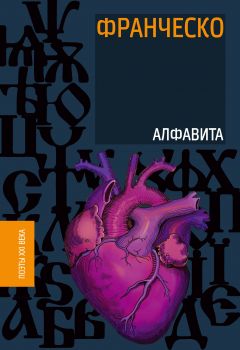
Автор книги: Франческо
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Франческо
Алфавита
Стихотворения

Апология апофении
Человеческая жизнь удивительна, и чем менее понятна она становится, тем больше взаимосвязей мы можем в ней увидеть. Апофения – такое ёмкоё и расплывчатое понятие, оно обозначает тот род взаимосвязей, что появляются спонтанно и не становятся частью общего знания, а требуют тщательного и разностороннего рассмотрения с целью выявления их ценности.
Тем не менее, человек волен испытывать свою логику и при желании может сделать её лучшим инструментом в познании непосредственного ощущения реальности.
Потребность в ощущении смысла существования проистекает из нашего стремления упорядочить собственные функции в этом мире. Найти пару легко, достаточно лишь прислушаться к инстинктам, они сами покажут симпатией на человека, подходящего генетически. А для счастливой жизни нужно сложить столько кусочков паззла, что разобраться в этом стоит как можно усидчивей и быстрее.
Я говорю так, потому что знаю: разумная деятельность каждого человека может привести как к чудовищным страданиям, так и к великолепному и самодостаточному осознанию себя и мира.
Мы живём в расширяющейся вселенной, хоть и не ощущаем этого. Мы находимся на тонкой грани между смертельно неприспособленной к реальности физикой и таким же грубо отёсанным разумом. Тело живет и старается жить в комфорте, а разум занят поиском возможности выжить в цивилизации.
И когда у него нет здоровых идей, начинается хаос. Со стороны выживания очень глупо травить себя продуктами горения, но, с другой стороны, именно природа придумала ошибаться, и для неё вообще нет такого понятия, как ответственность за ошибки.
Генетические мутации сохраняются, люди их наследуют, проживая жизнь с ужасными отклонениями, а природа лишь случайными успехами движется вперёд. Вера в благое начало природы заканчивается там, где жизнь из дара превращается в проклятие.
Бездна разверзлась, и у людей лишь два сомнительных варианта. Оба выражают полное смирение с выпавшей долей, только первый являет собой проклятие жизни и обрекает на гонку выживания, а второй борется с неудачами природы и предрекает встречу с неизбежным небытием.
Даже вероятность того или иного выбора не всецело лежит в человеке, ведь паттерны его поведения тоже заложены памятью тысячелетий поколений, жизни столь дурманящей и жестокой.
В нас вывелось сознание и чувства, и мы можем взаимодействовать с ними напрямую, как хищная птица взаимодействует с прицельной охотой, а дерево взаимодействует со светом солнца.
Когда человек много думает о жизни, может показаться, что он зациклен на себе. Он с восторгом говорит об открытиях своего внутреннего мира, может найти в себе наглость поведать миру о тех банальностях, до которых он додумался сам, может расстроится и разозлится если его не поймут. Но только ему решать, отстаивать свой восторг и радость или согласится с тем, что он – дурак. Если признает себя дураком, то только ему с этим жить. А если найдёт в себе силы остаться при своём мнении, то никакая критика ему будет нипочём. И мысль его будет расти и развиваться вместе с ним, что очень даже неплохо для общества в целом. Слова станут музыкой, голова наполнится светом, а жизнь предстанет целостной в том бесконечном множестве проявлений, которые он может в себе увидеть и узнать.
Разговор с бумагой – как речь с трибуны: ты пишешь то, что хотел бы сказать всем, и если тебе и правда есть, что сказать, то написанное будет живым и правильным. Пишущая и мыслящая функция человека сверкает логикой и смыслом, если он внимателен к себе, к тому, о чём говорит. Наблюдайте за своими ощущениями и природа никогда не сможет поймать вас в ловушку хаоса или неправильных выводов.
Мы все – часть огромного живого парадокса, беспредельного и бесконечного, и единственное место в нём, которое мы обязаны любить и понимать – это мы сами.
Автор неизвестен
Алфавита

«Я наблюдаю алфавит…»
я наблюдаю алфавит,
и руки знаки повторяют.
он звуками во мне шкварчит
и паром нёбо обжигает.
я наблюдаю алфавит,
там буквы на существ похожи.
его ничто не уничтожит,
он вечный, словно аммонит.
аз, боги, веди и глагол,
добро еси живое слово,
добро еси земли основа,
я это понял и прочёл.
я это понял, и ладонь
твердь кулака тотча́с разжала,
ведь слово, иже твердью стало,
и наковальня, и огонь.
я наблюдаю алфавит,
мне речь его покой внушает
и, тишину не нарушая,
течёт и русло наполняет:
живое, жидкое, журчит…

Я
я из тех людей, что за словом не лезут в карман.
если бьют, то не в бубен – а в перепончатый барабан,
жестяной барабан, – но могут сыграть на горне.
а долинному климату предпочитают горный.
из тех самых людей, что с Бродским ведут бои.
собирают мгновенья, краткие – но свои.
поутру в детский сад отводят чужих детей
и живут без страстей.
слово «ответственность» в корне содержит «ответ»,
значит, Бог безответственен, если в небе ответа нет,
только звёздное просо в чугунном котле небосвода?
это и есть свобода?
если мощь всех космических сил в сумме равна нулю,
то за эту цену я ничего не куплю,
как не купишь мусор или стакан бомжа,
или удар ножа.
резюмирую: мне говорить не лень,
но от слов моих с лиц навсегда исчезает тень,
и, палимый безжалостным Солнцем, стоит человек, как лопух,
и проклинает слух.
чтобы дело иметь, его надо ещё возбудить.
перед тем, как уснуть, не забудьте себя разбудить.
паспорт в брюках носить – совсем не синоним «быть».
эта рифма – глагольна,
но она так легка, что немыслимо не продолжать.
есть четыре клыка, чтобы пищей себя ублажать,
есть язык, чтоб его за зубами держать,
дабы не было больно.
быть – болеть, анальгетики не при делах.
быть – и выть, и испытывать жуть и страх.
наблюдает зрачок, только сузясь,
бездну жизни, сознания ужас.
Январь
вот по стеклу узор ведёт рука:
он матовый, он – хлопья с потолка,
Вивальди написал метель в столице,
всё вьюжится – в себя вжимают лица,
все соучастники толпы, зимы и вьюги.
вокруг – другие: вот тебе и други,
другие – отречения столпы,
другие – декабристы. государь
их гонит от себя в седые дебри,
где бреют головы, где роют землю вепри,
где – вечно – наступающий январь.

Ютуб
вот женщина врывается в ютуб,
она стреляет в них из пистолета,
они украли жизнь – весну и лето,
а смысл кончился, он больше ей не люб,
течёт слюна из поврежденных губ,
в желудке переварена котлета,
но пуля в лоб – лишь точка для поэта.
ты с пистолетом входишь в этот клуб,
клубок из змей, шнурков и проводов,
и ты – как пионер: всегда готов
любить, страдать и умирать за это.
Юродивый
ты сам не знаешь, что ты хочешь,
куда глядят твои глаза.
деревьям что-то там бормочешь:
«берёзы», «бризы», «бирюза».
берёза грезит бризом мая:
«пусть он пахнёт, пусть лёд растает,
бриз бесконечно-голубой,
слезами очи мне умой.
май ласковый, май бирюзовый,
приди – сними венец терновый.»
Это
это – предел всех возможных абстракций,
это – конкретно, как в глотке – слюна.
это – принять, чтоб потом отрекаться,
это – нехватка, которой – сполна.
себя обнаруживает случайно,
как в рукаве – козырной туз.
оно для меня – величайшая тайна.
им обладая, ему же молюсь.
белый цветок распускается в темени,
космос шевелит его лепестки.
сколько умов, к этой двинувшись теме,
об неё обломали клыки.
мои же клыки давно обломаны:
трогаю жизнь остриём языка,
им раздвигаю препятствий заслоны,
им ощущаю твёрдость соска.
млечное. вечное. сверхчеловечное.
это бурливым порогом в реке,
кальпами мерит всё быстротечное,
феей танцует на языке.
собрана в Цюрихе пресс-конференция:
металлоломом немецкая речь.
этому имя дано: conscientia,
но это – не имя, это – не вещь.
мне в Индии садху сказал по секрету:
всё, что ты чувствуешь, – это оно.
и не найдёшь ничего, кроме этого,
есть лишь это: оно одно.
мать всех существ, огонь мироздания,
сердца биение, движение глаз,
объединив, разделяет всех нас,
и называется это – сознание.

Эксперимент
под глазами морщинами вбито
два иероглифа мага цветов:
«моё сердце разбито, разбито»,
«жить – невмочь, умирать – не готов».
он идёт, открывая порталы
в измерения плотных адов,
и мерцает хрустальным фракталом
над макушкой созвездие слов.
трансцендентное пойло поэтов —
бритвой слёз растревоженный крик.
он идёт и вращает планету,
он – ребёнок, и он же – старик.
а ещё он – зародыш дельфина.
а ещё – нераскрытый бутон.
минерал цвета ультрамарина,
стук трамвайных колёс – тоже он.
иногда он меня посещает
и кладёт на чело пятерню,
сердце в хрупкий сосуд превращает,
но его я ни в чём не виню.
он – прозрачной души навигатор.
ей секрет состраданья открыв,
он заводит в груди детонатор,
и теперь ты – сознание-взрыв:
нелокален и полинаправлен.
обладающий силой волны,
он вливает алмазы расплавленные
в твою память сквозь вещие сны:
ты себя вспоминаешь теургом,
твоё тело – гигантский эон.
направляемый Шивой и Дургой,
ты вплетаешь кислоты в геном
и ведёшь неслучайную запись
книги Дхармы в спиралях любви.
танец новых галактик – разлапист,
пуповина планеты – в крови,
уж обрезана связь поколений:
начинается эксперимент.
здесь в саду – миллиарды растений,
ну а это – не трогайте, нет.

Ы
от Москвы до Колымы
нету слов на букву Ы.
Ъь
побуду грубым
трубадуром-правдорубом,
немного пьяным, оттого – спонтанным,
клубочком смыслов, колобочком, клубом.
живу в стране – тяжёлой, толстой тётке
с работой шлюхи, интеллектом идиотки,
зарплатой клерка, и она – аноргазмичка.
ей интересны шмотки, по привычке
она даёт засранцам и бандитам,
которыми была б давно убита,
но круто банчит и хранит общак.
она уже не женщина, а шлак.
сюда путёвка – это наказанье.
она как тренажёр для состраданья,
идёт по кругу, как замученный ишак,
но не сдыхает. по ночам летают
в её шерсти неоперённые нимфетки,
и тают в их беззубых ртах конфетки,
а на тарелке – лобстер, только – рак:
таков диагноз этой профурсетки.
побуду нежным: скажу, что
возрождение неизбежно,
хворь исцелима.
и что, пока она мятежна
и любима,
для всех нас есть надежда,
и она – неистребима.
Щелкунчик
трёхглавый крыс вскочил на пьедестал,
надменно озирает поле боя:
мелькнул в толпе Щелкунчика оскал,
и сразу легче стало нам с тобою.
пусть горло сковано печальной немотою,
но знаем мы почти наверняка:
что кажется незыблемым пока,
трухлявой обернётся скорлупою.

Шут
кареглазый баламут,
в небо смотрит глупый шут.
у него в глазах туман,
он сулит тебе обман.
губошлёп и горемыка,
он ни в чем не вяжет лыка.
оттого и цел пока:
любят боги дурака.
Шизофазия
красиво жить не запретишь,
а быть свободным не заставишь,
какое тут меню составишь:
биг-мак, чизкейк, филе-о-фиш,
шизофазия, циклодол,
комар, пиявка, богомол.
какая боль, какой позор:
они идут в ночной дозор,
а ты лысеешь и картавишь,
всех любишь и в гробу лежишь
ингредиент как прекурсор —
становится ядром процесса,
на космонавта смотрит вор
с подобострастным интересом:
ты сверху бога не узрел,
а мы скомуниздили ракету,
но ты остался не у дел,
и Бог с тобой, раз Бога – нету,
а в кока-кольнях бьют в набат,
из водки совесть добывая,
Бог есть, он, сука, бородат,
вот открывашка – ключ от Рая,
он был евреями распят,
для нас ее передавая.
шизофазия, циклодол,
биг-мак, канатчикова дача,
и только так, а не иначе:
Россия, космос, рок-н-ролл!

Чертополох
цветут каштан, и яблоня, и груша,
и вишня. и черёмуха цветёт.
мой город стал как будто бы из плюша,
весь мягкий и пушистый, словно кот.
мой город – кот, свернувшийся в клубочек,
он млеет, и мурчит, и щурит глаз.
и ароматом тополиных почек
он вечерами обнимает нас.
устав от ритма бесконечной румбы,
он замедляет темп, чтоб сделать вдох.
я просыпаюсь в ароматной клумбе
и в ней торчу, как злой чертополох:
украшен иглами, снабжён смертельным ядом,
я вверх стремлюсь лиловым хохолком,
а рядом беззащитные наряды
колышутся весенним ветерком.
колышется наивный одуванчик,
ему неделя радости дана,
а об меня ребёнок колет пальчик,
и пробивается в соцветие седина.
цветы повсюду дарят людям чудо
и вдохновение: аромат и цвет.
чертополох растёт. он ждёт верблюда,
но в солнечной Москве верблюда нет.
Человечек
под одеялом сжавшийся в комочек,
валяется сутулый человечек,
и губ его поблёкший лепесточек
шевелится и сам себя калечит;
а трубочки его сосудов сини,
и зелены вокруг зрачков колечки,
он обезвожен, обезвитаминен,
как многие в округе человечки;
на подоконник сыплются листочки,
на небе всюду – облачка да тучки,
а человечек трогает височки,
ему как в детстве хочется на ручки,
прижаться веком к ароматной щёчке
и ощутить объятия подмышкой,
но все вокруг давно поодиночке
расставлены, разложены, как книжки
по полочкам, манежикам, кроваткам.
и гаснет лампочка, вися на проводочке,
и надо быть воспитанным и кратким,
финал строки обозначая точкой.

Чаадаевка
я в Чаадаевке.
здесь мокрый тёплый камень под пятой,
да тени гладиолусов в ночи.
Луна тревожит их:
не с той ты,
непростой
твой выбор,
ты не стой!
и не молчи!
ведь той
не нужен ты,
ей путь – на юг,
и нежный юный друг
ей шепчет:
«ты не стой,
приляг со мной
на плед
и успокой…»
а я им: «нет!»
они глупы.
да что с них взять – цветы:
цветут и соком липких губ пленяют пчёл.
со мною ты,
и я с тобой —
в мороз и зной.
но сам всё это про себя прочёл,
и разомлел
от жара
чёрных тел
в вечерней неге тёмно-золотой.
Целовальня
пусть сознание струится
через зеркало фрактально:
я смотрю и проникаю
в твоё сердце моментально.
я пойду на колокольню,
я найду там целовальню,
мне сегодня очень больно:
я влюблён маниакально.
Цветочки
её взгляд пробирает тебя насквозь,
но бежит он вскользь, по своей орбите.
лето, вроде, вчера только началось,
а глядишь вокруг: да оно в зените.
ты сидишь один, ты сжимаешь трость.
я останусь тут, ну а вы – живите.
когда люди пишут, то строят мост,
на латыни ли, на санскрите ль.
когда люди пишут – они орут:
запятые, тире, тире да точки.
мать-и-мачеха лбом пробивает грунт,
чтобы что? – чтобы жёлтенькие цветочки.

Цветовод
ты так восторженно распахнут
навстречу людям и мечтам,
твои усы цветами пахнут,
которым ты названия дал:
фонтаном бурным кундалини
куст гладиолусов назвал,
волшебной пляской диких линий
ты лилии именовал.
наречена ромашка смехом,
улыбкой ландыш наречён,
пион чванливый, вот потеха,
прослыть пижоном обречён.
круглоголовый одуванчик
зовется просто: шаролюб.
отныне василёк – шаманчик,
жасмин – прикосновение губ.
физалис – рыжий лис хвостатый,
а колокольчик – «динь-динь-дон».
пусть жёлтый шхмель и шхмель мохнатый
сольются в имени одном.
поэт цветов, знаток созвездий,
переписавший словари,
спеши любить, ходи и езди
и землю заново твори!
Цайтрафер
вот первый снег,
таинственный пушок,
он падать не спешит,
он вставил ногу в стремя,
и требует одну – на посошок.
цайтрафер, парвеню, электрошок,
прикосновеньем охлаждает темя,
он замедляется, поскольку нас полно,
и нет причин быстрее лечь на дно:…
ткёт бытие событий полотно,
и нитями мы все в нём суть одно,
и – некуда спешить,
ведь все мы – время.

Хобот
когда на душе ноябристо,
обрывисто, ломко невмочь,
иди на забытую пристань,
иди, друг, из города прочь,
ведь там, говорят, на рассвете
швартуется странный паром
и все нерождённые дети
долой уплывают на нём,
долой уплывают любови,
несбывшихся чаяний плот
на тёплой макушке слоновьей
всех нас далеко увезёт.
и хобот и длинные уши
и древний расколотый клык
несёт нерожденные души
сквозь воду домой, напрямик.
Херувим
неуловима тень от дыма
и миг любви неуловим, —
жить без него – непредставимо,
но ты умрёшь, столкнувшись с ним,
а тот, что – может быть – воскреснет
и искренней и интересней
и от тебя неотделим,
но безтелесен, чист и пресен,
и сам собою… нелюбим.
Хайдеггер
я – Мартин Хайдеггер, и я заброшен в лес,
немы́ стволы деревьев, не́мы травы.
и небо давит на меня, как пресс.
и все правы́, и все имеют пра́во
на бытие, но нет им оправда́ния.
цветок увянет: это увядание,
антицветение, тоже факт земли,
чтоб люди зафиксировать смогли
бессмысленность и нужность состраданья.
я есть – и такова моя работа.
я есть. я – сострадание, забота.
Флейта
моей души прозрачное стекло
дрожащее дыханье стеклодува
из флейты металлического клюва
для музыки волшебной извлекло.
вселенной сердца сонный первозвук
становится пронзительней и мягче
от боли непредвиденных разлук,
наружу льётся, всхлипывая, плачет.
прозрачен, как хрусталь, и так певуч,
в молчании я жду звезды вечерней,
чтоб отразить её лиловый луч —
и зазвучать легко и многомерно,
как часть симфонии, как увертюра дня,
как камертон глобального хорала.
стекло изъято было из огня,
но пело и само огнём сияло.

Фильмы
ты глазами снимаешь фильмы,
бесконечные раскадровки,
в этих фильмах – пейзаж печальный,
приглушённый, неяркий свет.
говоришь, будто пишешь пьесу
под космическую диктовку,
предвещает исход летальный
излагаемый там сюжет.
а потом ты меняешь ракурс,
или что-то сбивает фокус,
и размытым пятном вплывает
в мизансцену шалой герой.
прикоснувшись к стеклу губами,
получает безмолвный допуск.
не кривляется, не играет,
просто машет тебе рукой.
вот уже панорама сверху,
и она без монтажных склеек:
ты сама на себя взираешь
и смеёшься с набитым ртом,
вы бежите вдвоём по парку
мимо тощих его аллеек,
он хохочет, а ты летаешь,
задевая его крылом,
а в конце вы уже в обнимку
пьёте чай из стеклянной кружки.
опускается кран. к подошве
прилепился осенний лист.
и тихонечко, под сурдинку,
слышен голос твоей подружки,
потому что подружка – тоже
автор пьесы и сценарист.
Февраль
февраль брильянтовый, февраль – алмазный,
февраль невыносимо ледяной:
кристалл воды – как со снежинкой связан?
снежинистость – с структурой водяной?
откуда столько форм и положений?
а с неба шестигранники летят,
от фонаря отбрасывая тени,
напоминая беленьких утят.
Фанты
мы сидим. мы играем в фанты.
ты прекрасна как иерофанта.
мы с тобой – нелокальность квантов,
и запутанность их – мы с тобой.
поколение не пепси, но фанты:
отсудили чистилище Данта,
опровергли Декарта и Канта
карантинной своею весной.
мы сидим: ты в пустом Париже,
я – в подвале, что ада ниже,
губы сомкнуты как пассатижи
и натянуты тетивой
между нами тугие струны,
а под струнами – мир подлунный,
и один только ветер юный
сонно водит по ним рукой.
рынки ценных бумаг и акций,
языки и границы наций —
волны наших галлюцинаций:
мы всерьёз увлеклись игрой.
отличимы от хантов манты,
отличимы бинты от бантов,
отличимы понты от пантов,
различимы ли мы с тобой?
не различны, зато мы – разлучны:
благородно и благополучно
той игрой управляет случай,
а зовётся она – судьбой.
Ухо
о лабиринт височной кости,
в котором бродит минотавр.
поток необратимой злости
он обращает в бой литавр.
ухо-уходит безвозвратно
в ухо-ухоженный чертог,
и, ух-хмыляясь многократно,
стремится ух-хватить свой рог.
Уста
она чувствительна к словам,
а так же к паузам и жестам,
к ландшафту, лесу, духам места,
к озерам, лужам, облакам.
она чувствительна к слезам,
она сама от счастья – плачет,
к чужим чувствительна тем паче,
что их разделит пополам:
пол капли в сахаре и в соли,
кристалл впитает стыд и страх,
а тайна звездного пароля
уже трепещет на устах.

Улитка
любимая, в коричневом конверте,
в котором собран мой бумажный дом,
есть два стихотворения о смерти,
которых я оставил на потом.
одно из них написано в Коломне.
метафора его стоит колом,
как ангел на немыслимой колонне,
крушащий стёкла судеб молотком.
другое утверждает: смерть чудесна,
она как окончательный монтаж,
из-за неё поток рутины пресный
вдруг обретает запах и купаж.
я думаю, что есть ещё и третье:
допустим, это – что в твоей руке,
в нём говорится это: белый ветер,
бурливое течение в реке,
возгонка, алхимическая свадьба
и философский камень бытия,
что если мог бы я не умирать бы,
то был бы я – увы – совсем не я.
поэзия – космическая почта:
я – отправитель, я же – адресат,
а чувств моих хтоническая почва
рождает образов и рифм прекрасный сад.
ползёт в саду сознания улитка,
её тропа – дорога красоты.
вскрывай письмо, переверни открытку,
прочти слова, и ощути цветы.

Ты
он занесёт в зелёную тетрадь
стихотворение: код для расшифровки,
маршрут движенья, время остановки.
попробуй сам себя расшифровать,
попробуй сам увидеть с высоты
сплетение случайных траекторий:
бушует ветер, шторм волнует море,
но ветер – ты, и море – тоже ты!
Тор
волна препятствия обходит,
есть джокер, даже два – в колоде,
есть магнетизм, и он нас сводит,
затягивает в тор.
спасибо, что дошла до точки,
судьба не признаёт отсрочки,
и потому все эти строчки
дымятся до сих пор.
за точкой будет запятая,
а за единственной – другая,
за сампрадайей – сампрадайя,
за натиском – отпор.
за повторением – повторение,
за кризисом – стихотворение,
за расставанием – обретение,
за шалостью – укор.
игра любви гексалектична,
давай смотреть реалистично
на вещи, но не слишком лично
как было до сих пор,
волна препятствия сметает,
за точкой будет запятая,
тебя в тебе – одна шестая,
всё остальное – хор,
игра магнитных притяжений,
причина тора повторений
и миллиона разветвлений
реальностей как нор.
Тишина
говорят, что скука – голод,
говорят, что опий – яд,
говорят, что мир расколот,
люди много говорят.
говорят о курсе евро,
о поллюциях в ночи,
говорят и ждут, кто первым
громко крикнет: «замолчи!».
ты стоишь у светофора,
на руках – хрустальный шар,
ощущаешь, как сквозь поры
проникает жизни пар.
он внутри тебя клубится,
им наполнена – пьяна,
а вокруг тебя струится
ароматов тишина,
обняла тебя, как кокон.
что с того, что я поэт?
у монады нету окон,
и сомнений тоже – нет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!