Текст книги "Похоронный марш марионеток"
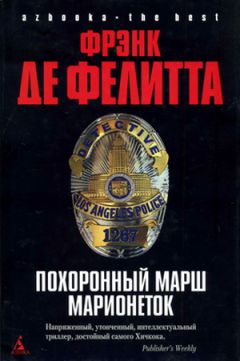
Автор книги: Фрэнк де Фелитта
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– А как ты думаешь? Парирую удар прямо в морду твоему другу Хиршу.
Сантомассимо нажал на рычаг. Капитан Эмери посмотрел на Сантомассимо так, словно тот осквернил самое святое в его жизни.
– Подожди, Билл, – сказал Сантомассимо. – Прежде чем звонить, послушай, что я скажу.
Однажды капитан Эмери запустил телефоном в детектива Хейбера. Провод оторвался вместе с розеткой и увлек за собой в открытое окно цветочную вазу, бумаги, пресс-папье, подставку для карандашей… Сантомассимо увидел, как капитан схватил толстенный журнал.
– Хорошо, – с убийственным спокойствием произнес Эмери. – Скажи.
Сантомассимо почувствовал на себе его взгляд – взгляд из ночного кошмара. После короткого замешательства его вдруг осенило, он даже придвинулся ближе к Эмери.
– Мы работаем с тобой двенадцать лет, – осторожно начал он. – Мы все дела расследовали вместе, во всех районах – корейском, филиппинском, латиноамериканском, негритянском. Мы прошли через все трудности и остались вместе. Даже нашивки получали одновременно. Ты ушел дальше потому, что умнее…
– Не надо лизать мне задницу, засранец. Щекотно. Говори по делу.
– Хорошо. Говорю по делу. Я знаю, формально ты прав. Вне всякого сомнения, прав. У нас столько дел, что на два участка хватит. И новое, тем более чужое, нам не нужно.
– Именно так, Фред.
– Но убийство в «Виндзор-Ридженси» – наше дело, Билл.
– Черта с два!
– И ты знаешь это.
– Ничего такого я не знаю.
В раздражении капитан откинулся назад с такой силой, что спинка кресла уперлась в карту района на стене. Она охватывала территорию от восточной окраины Санта-Моники до муниципального пляжа Уилл Роджерс со всеми находившимися внутри этих границ дорогами, шоссе, строительными площадками, пустырями и даже участком железной дороги. Этот район Сантомассимо знал наизусть. Здесь не было и акра земли, где хоть однажды не произошло бы драки, ограбления, изнасилования или убийства. Сантомассимо придвинулся еще ближе к капитану. Эмери не нравилось быть припертым к стене, но покинуть кресло, не задев лейтенанта, он не мог.
– Подумай, Билл! – настаивал Сантомассимо. – Случайный человек. Отсутствие мотивов. Идиотский способ. Что-то вроде… игры в кошки-мышки с ничего не подозревающей жертвой…
– Но убийства совершены в двадцати милях друг от друга. Лос-Анджелес – большой город, Фред. И в нем полно идиотов.
– Посмотри на почерк. Изобретательно. Драматично. Смерть из пустоты. Мгновенная. Не оставляющая шансов на спасение. Игрушечный самолет. Оголенный провод в ванне. И смотри: технически все сделано безупречно, продумано в деталях, обставлено эффектно, с фантазией. Да просто гениально.
– Похоже, ты бредишь.
Сантомассимо усмехнулся. Эмери смотрел на него, сцепив руки за головой, – эта поза означала, что услышанное его заинтересовало.
– Это только начало, Билл, – заверил Сантомассимо. – Он будет продолжать убивать.
– Не верю, Фред.
– Нет, веришь. Будут еще убийства, Билл. И такие же странные. Идиотские убийства. В районе Харбор. В районе Футхилл. В районе Ван Найс или Девоншир. Этот парень всю полицию Лос-Анджелеса заставит играть в Кейстоунских копов.[45]45
Т. е. в догонялки (о Кейстоунских полицейских см. выше прим. 8).
[Закрыть]
Капитан делал вид, будто возится с непослушной крышкой термоса. Она подтекала, и он пальцем вытирал тоненькие струйки кофе. Сантомассимо молчал.
– Я жду, лейтенант, – ободряюще проворчал Эмери.
Сантомассимо присел на край стола. Капитан Эмери вскинул брови, но ничего не сказал.
– Здесь важно не место, где он играет в свои игры, – продолжал Сантомассимо, – а то, зачем он в них играет. Через это мы сможем понять, что он за человек. А чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо сосредоточить всю информацию в одних руках.
– Но ты, черт возьми, не должен принимать решение о переводе дела из одного участка в другой! Ты не берешь в расчет центральное отделение. А отдел убийств? А комиссар? Ты думаешь, с ними не надо советоваться?
– На этом деле можно обжечься, Билл. Хирш с радостью избавился от него. Он обещал, что с отделом убийств все утрясет. И они передадут дело нам. Со своим благословением.
Капитан Эмери хранил молчание, не желая признавать правоту Сантомассимо. Наконец он устало вздохнул:
– И за что нам такая честь?
– Ну… скажем… Возможно, у меня есть догадка на счет того, кто этот убийца.
Капитан Эмери испытующе посмотрел на Сантомассимо, заинтересованно, но с некоторым подозрением.
– Догадка, лейтенант? – спросил он. – Ты что-то скрываешь от меня?
– Я чувствую связь между происшествием в Пали-сейдс и случаем в «Виндзор-Ридженси».
– Да, и там, и там было совершено убийство.
– Я имею в виду… сходный рисунок, капитан. Повторяющийся узор, по которому можно узнать создавшую его руку.
– А именно?
Сантомассимо слез со стола. Лицо его скрылось в тени. Он обошел стол и сел в потертое кожаное кресло. Старое кресло капитана Эмери, напоминавшее о былых временах в прежнем участке задолго до реконструкции и прочих изменений. Сантомассимо облокотился о стол, поигрывая сломанным термосом.
– Точно сказать не могу, капитан. Чертовщина какая-то. Мне это что-то напоминает, что-то очень хорошо знакомое. Все время крутится в голове. Но что именно, я никак не могу вспомнить.
– И я должен доложить комиссару, что лейтенант Фред Сантомассимо, прослуживший двенадцать лет в полиции, опытный сотрудник, отмеченный наградами, видит некоторую связь между двумя преступлениями, некий «рисунок», который он не может внятно описать, но – о чудо! – в его тупой итальянской башке все время что-то крутится? Ты хочешь, чтобы я всю эту чушь изложил комиссару?
Только по тому, как напряглись пальцы Сантомассимо, резко крутанувшие крышку термоса, капитан Эмери заметил, что лейтенант едва сдерживает бешенство. Эмери взял салфетку и положил ее под слегка пузырившийся термос.
– Думаю, ты помнишь, – продолжал он, – что твое появление в «Виндзор-Ридженси» заметил Стив Сафран, злой демон из Кей-джей-эл-пи.
– Да, сэр, мы столкнулись с ним у входа в отель.
– И ты во всеуслышание заявил о передаче дела.
– Да, сэр, мои слова вполне можно было так истолковать.
Чувствуя свою оплошность, Сантомассимо откинулся на спинку кресла, погрузившись в тень. Кресло под ним жалобно заскрипело.
– Ну что ж, сэр, – Сантомассимо махнул в сторону телефона, – вы хотели звонить, так звоните.
– Вот именно.
Сантомассимо поднялся, вновь заправил вылезшую рубашку. Капитан Эмери снял трубку. Потом он неожиданно повесил ее и проводил лейтенанта до двери. На выходе задержал, положив ему на плечо руку.
– Я дам тебе двадцать четыре часа, – сказал капитан. – Этого достаточно? Двадцать четыре часа.
– И на том спасибо. Но, черт возьми, что можно успеть за это время?
– Это все, что я могу сделать, Фред. У нас работы по горло. И я не могу позволить одному из своих лучших детективов заниматься какими-то сумасшедшими идеями, которые вертятся у него в голове. Да еще этот Сафран, чертов телевизионщик. Может, ты и прав и об это дело можно обжечься, но комиссар не захочет втягиваться в склоку между двумя участками.
– Его можно понять.
– Ты же знаешь, у него есть определенные политические амбиции.
– У комиссара? Да какой нормальный человек за него проголосует?
Эмери улыбнулся:
– Двадцать четыре часа, Фред. А потом я буду вынужден вернуть дело по «Виндзор-Ридженси» Хиршу. В противном случае общественность нас неправильно поймет. Обвинит в некомпетентности. Или конкуренции между участками. Не нужно, чтобы о наших внутренних делах трепались все кому не лень.
– Я так понимаю, ты ставишь себя в трудное положение, Билл.
– Я простою в нем всего двадцать четыре часа, Фред. Сантомассимо улыбнулся:
– Спасибо. Извини, что не спросил тебя, но…
– Еще раз так сделаешь, и я воткну оголенный провод тебе в задницу.
Щелчок… Пленка медленно поползла вперед, началась запись… Качалась стрелка индикатора… Голос звучал уверенно, но с какой-то горечью.
– Я уже рассказывал о своем неудачном опыте в Нью-Йорке. Слава богу, меня после первой же стычки с администратором уволили. Мне нужно было собраться с мыслями. На мое счастье, в Орландо[46]46
Орландо – город в центральной части штата Флорида.
[Закрыть] у меня был двоюродный брат. У него были деньги и желание снимать кино. Я поехал к нему помогать снимать документальный фильм о диких птицах Эверглейдс.[47]47
Речь идет, по-видимому, об основанном в 1947 г. Национальном парке «Эверглейдс», расположенном на юге одноименного лесистого, болотистого района в Южной Флориде
[Закрыть]
Мы остановились в мотеле на краю болот вместе со всем нашим оборудованием и конфликтующими эго. В нашу съемочную группу, помимо меня, входили мой двоюродный брат, звукооператор и особа женского пола, от которой не было никакого проку, но чье присутствие обеспечивало определенный сексуальный драйв. Мы безбожно пьянствовали, и жители близлежащих лачуг, не то полусеминолы,[48]48
Семинолы – возникшее в первой половине XVIII в. племя североамериканских индейцев, представители которого проживают главным образом в штатах Оклахома и Флорида.
[Закрыть] не то еще кто, в конце концов попросили нас убраться. В полночь прибыл шериф, и нам поневоле пришлось переехать в другую гостиницу, где ползали куда более крупные тараканы. Гостиница находилась у лагуны, куда приезжала местная гопота попить пива, почесать под мышками и потаращиться на бегавшую вокруг девицу в красной «сбруе».
Признаюсь, из той болотистой дыры Манхэттен стал казаться мне чем-то вроде городка «Клуб Мед».[49]49
«Клуб Мед» (Club Med) – сокращенное название «Средиземноморского клуба» (Club Méditerranée), всемирно известной французской сети фешенебельных отелей с богатой инфраструктурой пляжного отдыха и курортных развлечений; функционирующая по системе «all inclusive», сеть объединяет 100 городков в 30 странах на пяти континентах.
[Закрыть] Во Флориде столько насекомых – у некоторых даже названия нет. Они крупные, заползают в постель и пьют кровь. Мое тело покрылось красными пятнами от их укусов, и я подцепил лихорадку, да такую, что в беспамятстве цитировал целые сцены из «Гражданина Кейна». Когда я приходил в себя, моих сил хватало лишь на то, чтобы кричать. Меня до сих пор иногда потряхивает. Похоже, это была малярия.
Пот лился с меня ручьями, так что приходилось то и дело протирать окуляр нашего «Эклера».[50]50
«Эклер» – кинокамера, выпускавшаяся одноименной французской фирмой и применявшаяся, в частности, для съемок документальных фильмов на 16-миллиметровую пленку.
[Закрыть] Под конец я снимал почти ничего не видя, сквозь туман, на ощупь. В рваные ботинки заползали пиявки, во время работы они, естественно, раздавливались, и по ночам ноги воняли, как куча гнилого мусора. А мой двоюродный братец, этот зеленый сопляк, носился с разными идеями в красной бандане и с визиром[51]51
Визир (в оригинале: director's eye) – здесь: портативный оптический прибор, служащий для определения границ снимаемого пространства (компоновки кадра).
[Закрыть] – символом своей режиссерской власти. Но все его идеи были похожи на жалкий бред выпускника школы для визуально безграмотных при Си-би-эс. Он просто рассказывал за кадром историю о фламинго-детеныше и фламинго-папе.
Мы отсняли около двадцати тысяч футов пленки, и денег у моего братца заметно поубавилось. Он уволил звукооператора и доломал магнитофон «Награ». По ночам он трахал девицу, на что мне, в общем-то, было глубоко наплевать, но это мешало спать, и я стал утрачивать способность видеть те чудесные картины, которые грезились мне в Нью-Йорке. Я пытался записывать их, но жара и смрад болотных испарений мешали сосредоточиться.
Я продолжал таскать по грязи долбаный «Эклер». Потерял двадцать пять фунтов веса и начал думать, что лучше было бы пойти в армию. Я уже ненавидел и фламинго, и Флориду, и своего брата. Я почти возненавидел кино.
Девица, заболев псориазом, а возможно, еще и забеременев, уехала. Мой двоюродный брат стал просто невыносим. Он возомнил себя воскресшим Робертом Флаэрти,[52]52
Роберт Флаэрти (1884–1951) – знаменитый американский режиссер (а также сценарист, оператор, монтажер) ирландского происхождения, создатель школы постановочных документальных фильмов, прозванный критиками «Жак-Жаком Руссо кинематографа». Наиболее известные фильмы – «Нанук с Севера» (1922), «Моана» (1926), «Человек из Арана» (1934), «Маленький погонщик слонов» (1937), «Луизианская история» (1948).
[Закрыть] хотя все его идеи были ничтожны. Много званых, знаете ли, но мало избранных.[53]53
Цитата из Евангелия от Матфея: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных» (20:16; ср. также: Мф 22:14).
[Закрыть] Избранных легко узнать. У них особая мука во взгляде.
Мы снимали четыре месяца. Можете в это поверить? Четыре месяца там, где и в болотных сапогах не пройти, ползать на животе по уши в грязи, чтобы снять пятисекундный кадр с фламинго-мамой, высиживающей свои дурацкие яйца.
За последние два съемочных месяца брат мне так и не заплатил. Мы уже на дух не переносили друг друга. Как-то в августе, часа в три ночи, под стрекотание сверчков, я лениво покуривал марихуану, с удовольствием прокручивая в уме фильмы, на которых днем не было времени сосредоточиться. Внезапно на пороге что-то блеснуло. Я подумал, что это таракан, тараканы в лунном свете поблескивают, словно металл, – по крайней мере во Флориде. Но это было ружье.
С воплями я нырнул под кровать. Раздался выстрел, затем второй, и мой двоюродный брат закричал. Прозвучал третий выстрел, и брат кричать перестал. Мельком я увидел какого-то странного темнолицего парня со сверкающими заколками в волосах. Он убежал, а я подполз к брату. Первое, что я подумал, – ему хана, из его затылка хлестала кровь, а все тело сотрясала дрожь.
Но мой брат выжил. Правда, у него выпали волосы и напрочь отшибло память – врачи называют это омертвением мозга. Я не знал, что делать. Наконец решил попытаться смонтировать пять миль отснятой нами пленки по-своему. Сделать нечто вроде портфолио, с которым можно было бы показаться в Лос-Анджелесе. Продемонстрировать, что у меня есть чутье и навыки монтажа и, кроме того, я умею создавать образ. Я продал «Эклер» и все прочее оборудование и три месяца занимался только монтажом. Я снял в Орландо монтажную и жил в ней. Работал круглые сутки, практически ничего не ел, только пил кофе. У меня схватывало желудок, меня периодически прошибал понос, на теле вылезли прыщи, ногти пожелтели от клея. Но я начал видеть суть. Я… я видел ритм, перераставший затем в большие ритмические композиции, визуальные образы, которые раскрывали безжалостные и даже жестокие законы природы.
И еще кое-что. Искусство. Да, это долбаное слово из девяти букв, о котором никто ничего толком не знает. Искусство. Я создавал искусство. Я наполнил фильм обрывками джазовых композиций, странными звуками, человеческими голосами. Я создал свое личное эссе на тему выживания – красивое, дикое, даже немного болезненное и несомненно, оригинальное.
Нервы у меня были на пределе, и выглядел я как узник концлагеря. Я был оборван, нечесан, пребывал на грани истерики, физического и психического расстройства, но дело я сделал! Я превратил кучу дерьма в документальную симфонию, где были соблюдены все драматургические законы. Я купил билет до Лос-Анджелеса, билет в один конец. Там я приобрел подержанный синхронизатор, клей и взял напрокат скрепер.[54]54
Скрепер – монтажный стол.
[Закрыть] Но Флорида подставила меня. Когда я открыл коробки, чтобы сличить негатив с рабочей копией, он упал в порошок. Зеленый. На ощупь похожий на абсорбент.
Тогда я впервые подумал о самоубийстве. Я не мог допустить даже мысли о том, что буду год за годом прозябать в этой моральной тьме… в этом страхе… и расходовать впустую свой талант. С каждым днем он таял, понимаете… Талант, как и негатив, выцветает и никогда потом не восстанавливается… Я боялся даже подумать о том, что это произойдет со мной…
Я словно сошел с ума, я завидовал тому психу, который ни за что ни про что подстрелил моего двоюродного брата. Я начал верить, что этот псих был настоящим художником. Не могу объяснить это по-другому. Он вдруг начал вызывать у меня восхищение.
Он как будто завладел моей личностью.
Я снова стал как одержимый смотреть фильмы. Жестокие фильмы. Но теперь угол зрения изменился: я учился менять реальность, манипулировать психическим состоянием публики. Понимаете, кино – это не упорядоченная последовательность драматических эмоций и прочая подобная ерунда, которой учат в киношколе. Это невыразимые словами, двусмысленные, тревожные изменения в реальности, которые делают зрителя другим. Кэри Грант и Ева-Мэри Сент цепляются за нос президента Линкольна на горе Рашмор.[55]55
В горном массиве Блэк-Хиллз в штате Южная Дакота, практически в центре Североамериканского континента, располагается национальный мемориал «Маунт-Рашмор», который представляет собой высеченные в гранитной скале скульптурные портреты четырех американских президентов – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсо-на, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Каждое из четырех изображений, созданных в 1930–1941 гг. скульптором Гатзоном Борглумом (1867–1941), достигает в высоту 60 футов (ок. 18 м) и символизирует определенную черту «американского духа». В развязке шпионского триллера Альфреда Хичкока (см ниже прим. к с. 111) «К северу через северо-запад» (1959) на этот монумент, убегая от преследователей, взбираются главные герои фильма, роли которых исполнили упомянутые Кэри Грант (наст, имя Александр Арчибальд Лич, 1904–1986) и Ева-Мэри Сент (р. 1924). Справедливости ради следует заметить, что воспоминание о носе Линкольна подсказано герою Де Фелитты не столько самим хичкоковским фильмом (где такого эпизода нет, хотя персонажи и появляются несколько раз на фоне гигантских президентских носов), сколько нереализованным замыслом режиссера, о котором он неоднократно говорил в своих интервью. Ср., например: «…к сожалению, я не мог использовать мемориал „Маунт-Рашмор" в точном соответствии с намеченным планом. Власти запретили мне работать на самих изображениях, и я вынужден был организовывать действие между ними. Мне же хотелось снять, как Кэри Грант, соскользнув с носа Линкольна, прячется в его ноздре и заставляет президента чихнуть. Это было бы максимально выигрышным использованием натуры» (Hitchcock Talks about Lights, Camera, Action. An Interview with Herb A. Lightman [1967] // Hitchcock on Hitchcock: Selected Writings and Interviews / Ed. by S. Gottlieb. Berkeley; Los Angeles; L. 1995. P. 313. – Пер. наш. – С. A.).
[Закрыть] Они падают? Разбиваются? Нет! Залезают на верхнюю полку «Твентиз Сенчури лимитед», чмок, чмок – и конец![56]56
«Твентиз Сенчури лимитед» («Век двадцатый, для избранных») – название фирменного экспресса высшего класса, курсировавшего по маршруту Нью-Йорк – Чикаго в 1902–1967 гг. Экспресс, снискавший себе неофициальный титул «самого известного поезда в мире», преодолевал указанный путь за 16 часов, следуя вдоль берегов реки Гудзон и озера Эри, по так называемому «пути, на котором вода не расплещется» (water level route). В финале хичкоковской картины главные герои целуются, сидя на верхней полке в купе спального вагона, затем следует заключительный кадр фильма (общий план знаменитого экспресса, входящего в туннель), на несомненный сексуальный подтекст которого указывал в интервью Франсуа Трюффо сам Хичкок, отзываясь о нем как о «самом „безнравственном“» кадре из всех, что он когда-либо снял (см.: Трюффо Ф. Кинематограф по Хичкоку. М., 1996. С. 82. – Пер. Н. Цыркун).
[Закрыть] Понимаете? Публику использовали и видоизменили. Вы мне не верите. Вам хочется думать, что режиссеры стремятся всего лишь развлечь зрителей из лучших побуждений. Так вот, с тем, кто не способен осознать всю меру жестокости и садизма, которые таит в себе создание фильма, не стоит говорить о кино.
Режиссер создает свое величайшее творение в реальности, используя подсознательные желания и подавляемые импульсы насилия миллионов ничего не подозревающих людей.
Для меня это – признак гениальности, силы и правды, признак неповторимости.
Щелчок…
– Черт возьми, смертельно хочется пива…
Щелчок…
– Чтобы стать великим режиссером, не нужны коме ра и пленка… нужны люди… место действия… реквизит…
Но прежде всего – люди… Простые, обычные, хорошие люди…
СТОП!
6
В двух кварталах к югу от Голливудского бульвара, где повсюду высились стены многоэтажных строений с шикарными апартаментами, затерялся маленький одноэтажный дом с облупившейся штукатуркой – островок старого Голливуда. Он выглядел как брошенный мотель, но заброшен не был: росли герань и папоротники, мусор был свален в канаву, а перед домом, где стояла машина, – чисто. Наступал вечер. Сквозь огромные, раскидистые ветви пальм струился жемчужный свет уличных фонарей.
Пустынные пространства по обе стороны дома были завалены мусором – в основном ржавыми банками, а также матрасами, шинами и картонными коробками с гниющими пищевыми отходами. Возле уличного фонаря был припаркован видавший виды фургон уже далеко не белого цвета. Такие колесили по дорогам в шестидесятые годы. На его многократно перекрашенных бортах красными буквами было выведено: «Студент колледжа поможет погрузить и перевезти мебель». Под размашистыми росчерками значились номер телефона и имя: Чарльз Пирс.
Внутри дома, на полу гостиной, лежал поеденный молью ковер – некогда элегантного серого цвета, а ныне имевший оттенок древесного угля. Мебель была конца пятидесятых годов – такой обставляли комнаты, сдаваемые внаем, такую любили покупать пенсионеры: сколоченная из однослойной фанеры, на ножках, расположенных под углом. Недолговечная фанера успела расползтись трещинами. Под лампой с длинной цепочкой стоял огромный, размером с гроб, расписной сундук. Узор выцвел, хотя когда-то причудливо выписанные райские птички, восседавшие на ветвях роскошных тропических деревьев, вероятно, были предметом гордости нарисовавшего их художника.
Чарльз Пирс вылетел из первого состава игроков футбольной команды Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Но быть игроком второго состава такой команды тоже считалось престижным. Это давало уверенность в завтрашнем дне. Его бизнес по перевозке мебели развивался куда стремительнее, чем он ожидал. Денег хватало не только на оплату жилья и развлечения – он сумел нанять одного, а потом еще двоих помощников и собирался купить в придачу к фургону грузовик. Впрочем, сегодня ему помощники не понадобятся. Заказчик сказал, что мебели у него мало и ехать не далеко.
Пирс окинул взглядом затхлую, пахнувшую плесенью комнату. Лицо хозяина квартиры терялось в сумраке, но Чарльз чувствовал, что тот сильно не в духе или подавлен свалившимися на него проблемами. Или что-то еще в этом роде. Возможно, он переезжает не по своей воле. В самом воздухе этой квартиры витало несчастье – за то короткое время, что Пирс занимался перевозками, он уже не раз бывал в подобных домах. Многие люди под давлением обстоятельств вынуждены были продавать свое жилье и переезжать на новое место, и Пирс невольно разделял с клиентами их горечь. И сегодня он старался бодриться, несмотря на то что надвигавшаяся ночь давила своей тяжестью и вызывала чувство клаустрофобии.
– У вас тут много красивых вещей, – сказал Пирс как можно непринужденнее. – Я имею в виду, если их немного подремонтировать – вот эту софу, например, или стулья. Их можно перевозить. Определенно. Только за один раз у меня это не получится. У вас несколько больше вещей, чем вы сказали по телефону.
Пирс посмотрел на расписной сундук.
– Ну, а сундук, – с искренним восхищением добавил он, – просто красавец. Должно быть, антиквариат.
Хозяин ничего не ответил. Пирс нагнулся, чтобы заглянуть внутрь сундука. Оттуда приятно пахнуло смолой, скорее всего сосновой – ею натирали мебель, чтобы не заводились древесные жучки. Запах навевал мысли о Старом Свете, о долгом путешествии через океан.
– Бог мой, как чудесно пахн…
Веревка не дала ему договорить. Петля мгновенно сдавила голосовые связки. На секунду у него перед глазами мелькнули красные и синие искры на абсолютно черном небе.
«Какого черта…?» – хотел крикнуть он, но связки были уже порваны.
Он лягался, бил локтями воздух. Он хорошо дрался, но почему-то не мог достать невидимого клиента, который отклонялся назад на… чем? на каблуках?… и тянул за… что? за веревку.
Пирс даже не мог просунуть под нее пальцы, чтобы ослабить давление на дыхательное горло.
– Боже… – только и смог прохрипеть он.
Бог не ответил. Воздух в легкие не поступал, и они разрывались от боли. Глаза потеряли способность отличать мебель от отбрасываемой ею тени. Кровь бешено стучала в висках, в нос бил острый запах просмоленного чрева сундука. Затем мозг умер.
Внутри тела Пирса что-то забулькало, посиневшее, перетянутое горло выбросило жидкую субстанцию жизни. Но он этого уже не чувствовал. Его пульс угас.
Сантомассимо вышел из кабинета капитана Эмери, зашел к себе, забрал пиджак и направился к оставленному на стоянке голубому «датсуну».
Он был сильно взволнован. Он гнал машину на восток, в сторону Голливуда, непрерывно размышляя. Несколько детективов, наблюдавших за проститутками на Вайн-стрит, узнали его. Он пронесся мимо. Остановился только у «Эль Адоб» и, зайдя внутрь, заказал себе две «Маргариты». У другого конца стойки сидел экс-губернатор. Гул голосов в баре не давал Сантомассимо сосредоточиться. Он поднялся и вышел.
Вскоре он оказался в лабиринте тихих улочек, где находились старые студии и лаборатории. Легкий туман висел над опустевшими дворами. Охранники сидели в дежурных помещениях либо обходили территорию с собаками.
Между Мелроуз-авеню и Голливудом протекала дневная и ночная жизнь доброй половины киноиндустрии – не только старых студий, но и престижных офисов, где располагались сотни, если не тысячи агентств – как работающих много лет (вроде «Хасбрук и Клентор»), так и тех, что открылись совсем недавно.
Существовал старый Голливуд и новый Голливуд. Старый хранил суровое величие, и осязаемые призраки его великих гениев все еще витали над Лос-Анджелесом. Новый кипел амбициями молодости, желанием завоевать все рынки мира, что он и делал при помощи сложных технологий. Ну и что? При чем здесь Голливуд? Сантомассимо размышлял о связи между убийствами на пляже и в отеле «Виндзор-Ридженси», а Голливуд весьма способствовал размышлениям.
Сантомассимо остановился у «Тайни Нейлор» выпить чашку черного кофе. Он глазел на девчонок в джинсовых куртках и чулках в сеточку, с алыми лентами на черных вьющихся волосах и яркой красной помадой на юных губах. Слишком развитые для своих лет, вызывающе броские в дешевом свете бара, они вызывали у Сантомассимо восхищение своим видом и той романтической смелостью, с которой попирали общественные нравы.
Хасбрук и Нэнси Хаммонд. Между ними должна быть какая-то связь. И не обязательно иррациональная. Но какая-то замысловатая. Здесь скрывалась какая-то неразгаданная тема. В том, как были совершены эти преступления, сквозило болезненное пристрастие убийцы к эффектным зрелищам.
Все клубы были переполнены, и Сантомассимо свернул на бульвар Ла Сьенега, круто уходивший вниз. Он пытался нарисовать в своем воображении портрет убийцы, но образ ускользал, как узор на крыльях порхающей бабочки. Легкое опьянение от «Маргарит» давно прошло. Теперь он ехал через «Миракл Майл»,[57]57
«Миракл Майл» («Миля чудес») – центральная, самая богатая часть тянущегося от центра Лос-Анджелеса на запад, к океану, бульвара Уилшир, на котором расположены многочисленные универмаги, рестораны, ночные клубы.
[Закрыть] где напротив темной неприступной стены стеклянного здания, походившего в этот поздний час на некрополь, светились огни одного-единственного кофе-бара.
Свернув на запад, Сантомассимо увидел сине-белые лучи неоновых прожекторов, врезавшиеся в черное небо. Потоки дорогих машин текли по бульварам Сенчури-сити.[58]58
Сенчури-сити – обширный торговый центр в районе Беверли-Хиллз.
[Закрыть] Бульвар Санта-Моника пестрел плакатами и рекламными растяжками. По-видимому, намечалась киновыставка из России, прорвавшаяся в Лос-Анджелес в результате «гласности».
Сантомассимо глянул на часы. 23.15. У него оставался двадцать один час двадцать пять минут для того, чтобы логически обосновать существование связи между убийством на пляже и смертью в отеле. Как и просмотр фильмов, езда по ночному Лос-Анджелесу обычно стимулировала воображение и помогала думать; однако сегодня ничего умного в голову не приходило.
Он рылся в памяти, перебирая различные мотивации человеческих поступков, но все время ускользавшая идея по-прежнему оставалась неуловимой.
Сантомассимо развернулся и поехал в сторону дома. Свет полной луны мерцающей дорожкой ложился на спокойную гладь океана, казавшегося гигантской чашей, доверху наполненной черным молоком. Края чаши терялись в темноте и бесконечности. Искры света плясали на поверхности воды. Морские яхты неподвижно замерли у причалов. На горизонте вздымалось зарево от городских огней.
Пирсы были пустынны. Горели стоп-сигналы машин, зажатых в пробках возле рыбных ресторанов. «У океана сегодня какое-то особенное настроение, – подумал Сантомассимо. – Зловещее».
Оставив «датсун» на стоянке возле дома, он поднялся на лифте на свой этаж.
Его жилище мало походило на квартиру полицейского. Гостиная и кухня образовывали единое пространство. У кремово-белой стены, мягко подсвеченный снизу, стоял диван в стиле арт деко,[59]59
Арт деко (Art Deco) – стиль интерьерного дизайна, отличающийся подчеркнуто стилизованными либо геометризованными формами, который вошел в моду в Европе и Америке в 1920 – 1930-е гг. Свое имя получил по названию Международной выставки современного декоративного и промышленного искусства, состоявшейся в Париже в 1925 г.
[Закрыть] над ним висела акварель Джона Марина[60]60
Джон Чери Марин (1870–1953) – американский художник, один из лучших акварелистов XX в., разработавший (под влиянием немецких экспрессионистов и работ Поля Сезанна) особый полуабстрактный стиль живописи, который ярче всего проявился в его акварелях на темы из городской жизни и видах побережья штата Мэн.
[Закрыть] в изящной золоченой раме. В углу находился застекленный шкаф тридцатых годов с хрустальными окошками, за которыми виднелись темные бутылки с ромом и виски.
Напротив дивана у книжного шкафа красного дерева стояло кресло, обращенное к балкону, с которого открывался вид на океан. Кресло было массивным, с тяжелыми резными ножками и орнаментом, включавшим различные лесные мотивы, на спинке. В 1938 году отец Сантомассимо купил его на аукционе за 350 долларов. Сантомассимо знал, что сейчас это кресло стоит более 12 000.
Стулья были из итальянского гарнитура, сделанного в Неаполе и привезенного на Западное побережье семьей торговцев овощами, один из членов которой впоследствии стал владельцем крупной студии звукозаписи. У них были высокие выгнутые спинки и немного потертая бархатная обивка. Они подчеркивали строгое достоинство семьи, сумевшей разбогатеть, но не презревшей своих крестьянских корней. Страховая компания оценила их в 25500 долларов.
Из маленького, но богатого монастыря возле Монте-Кассино[61]61
Монте-Кассино – главный монастырь ордена бенедиктинцев, основанный в 529 г. св. Бенедиктом Нурсийским (480–550) на горе между Римом и Неаполем и прославившийся богатым собранием рукописей. Почти полностью разрушенный в результате налетов англо-американской авиации в годы Второй мировой войны, монастырь был восстановлен в 1950–1954 гг.
[Закрыть] были привезены четыре настенных светильника – медные, с витыми усиками, ягодками и желудями. Они считались церковной утварью и были оценены в 3500 долларов каждый.
У Сантомассимо сохранилась коллекция торшеров, купленных его отцом в Лос-Анджелесе во времена Великой депрессии, но все они были сделаны в Италии, главным образом в Милане. Высокие, с небольшими выемками на центральной стойке, с тремя-четырьмя гнездами для ламп под абажурами из тонкой материи, они зажигались при помощи длинных золотых цепочек, с тяжелой шишечкой на конце. Сантомассимо отказался продать их за 14000 долларов каждый, как предлагал ему кузен капитана Эмери, торговец антикварной мебелью.
На полу лежал тунисский ковер, большой, толстый, с чуть асимметричным рисунком. Но об асимметрии знал только Сантомассимо. Вероятно, она служила своего рода талисманом, призванным приносить удачу. Тунисцы были не менее суеверными, чем итальянцы, – возможно, потому, что долгое время находились под римским владычеством.[62]62
Тунис был колонией Древнего Рима со II в. до н. э. по IV в. н. э.
[Закрыть] Ковер был тончайшей работы и очень редкой расцветки. Агент по продажам с бульвара Ла Сьенега, едва взглянув на него, предложил Сантомассимо 85 000 долларов.
Семья Сантомассимо владела магазином антиквариата, и торговля процветала, пока дяде не пришла в голову мысль обманом прибрать магазин к своим рукам. Все, что осталось Сантомассимо, – эта мебель и вкус к добротным и красивым вещам. Он не имел претензий к дяде, поскольку философски относился к человеческой жадности и порождаемому ею росту преступности. Он обожал свой арт деко и терпеть не мог дурной вкус. Но, к сожалению, в Лос-Анджелесе торжествовал именно дурной вкус.
За столом орехового дерева, инкрустированным более темными пластинами вишни, которые составляли по окружности череду идиллических сценок и гирлянду из виноградных листьев, Сантомассимо вяло жевал разогретый ужин из полуфабрикатов – цыпленка, обвалянного в сухарях со спаржей. Стоимость стола составляла никак не менее 145 000 долларов, а ужина – два доллара девяносто пять центов. Но этот контраст не беспокоил Сантомассимо.
Он решал в уме сложную шахматную задачу, но фигуры были расставлены на неевклидовой доске. Через modus operandi он пытался вывести тип личности убийцы. Непонятно откуда у него появилось странное ощущение, что убийца проделывает то же самое с ним.
Было поздно. Сантомассимо направился в спальню. Здесь обстановка была еще более дорогой. Он посмотрел на портрет родителей, висевший на стене. Суровое, исполненное достоинства лицо и горделивая осанка отца свидетельствовали о благородстве натуры и, возможно, о чрезмерном доверии к людям. Нежный взгляд матери и даже черные волосы, убранные в тугой узел, не могли придать ее лицу строгости – скорее делали ее величавой и необыкновенно красивой. Родители смотрели на Сантомассимо, но помочь ему ничем не могли.
Шум прибоя усилился. Сантомассимо подошел к окну. Зеркальный покой океана, покой дремлющего зверя, был нарушен. Мелкая рябь вздыбилась в черные волны; было слышно, как они бьются о борта яхт на причале. Внезапно движение на бульваре Сансет и шоссе Пасифик-Коуст оживилось: в кинотеатрах закончились сеансы. Сантомассимо сел, откинувшись на спинку кровати, включил лампу. Подложил поудобнее подушки и раскрыл книгу «Старонемецкие гравюры. Том первый: Шонгауэр[63]63
Мартин Шонгауэр (1435/1440 – 1491) – выдающийся немецкий гравер и живописец, старший современник великого Альбрехта Дюрера (1471–1528); сохранилось более ста гравюр Шонгауэра, лучшие из которых отмечены сложностью рисунка, пространственной глубиной, эмоциональной выразительностью и богатством фактуры.
[Закрыть] и Дюрер». И вдруг его взгляд соскользнул со страницы: ему удалось загнать неуловимую прежде мысль в угол.
Связь существовала. Она таилась, словно змея в траве.[64]64
Английское провербиальное выражение, означающее скрытую опасность; восходит к строке из «Буколик» Вергилия: «latet anguis in herba» («…в траве – змея холодная скрыта»; эклога III, ст. 93. – Пер. С. Шервинского).
[Закрыть]
Сантомассимо отложил книгу и взял пульт телевизора. Лицо ведущего новостей то и дело сменяли кадры пожаров, наводнения в Пакистане, уличных волнений в Испании. В местных новостях говорилось о задержании большой партии героина в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. И ни слова об убийстве в «Виндзор-Ридженси». А вдруг, с надеждой подумал Сантомассимо, Сафрана уволили?
Но нет, вот он, цветущий, мордастый, вещает что-то о волне преступности, захлестнувшей Лос-Анджелес. Претендующие на остроумие псевдофилософские разглагольствования о том, что такое убийство в большом городе. Очевидно, что Сафран был о себе очень высокого мнения. Сантомассимо переключился на другой канал. Там шел черно-белый фильм: кореец, спрятавшись за дерево, палил из автомата, затем в дымящуюся воронку полетела граната. Он снова переключил канал.
Музыка Гуно, известного композитора XIX века, была хорошо знакома Сантомассимо, потому что ее очень любил его отец. В домашней фонотеке сохранилось немало его пластинок. Сейчас звучал «Похоронный марш марионеток» – ключевая музыкальная тема знаменитого телесериала, шедшего повторно. Под звуки этого марша толстый, одутловатый человек входил в силуэт собственного профиля.[65]65
«Похоронный марш марионеток» (1872) французского композитора Шарля Гуно (1818–1893), давший название этой книге, являлся центральной музыкальной темой еженедельного американского телевизионного шоу «Альфред Хичкок представляет» – антологии таинственных или страшных историй, поставленных разными режиссерами. Это шоу демонстрировалось на канале Си-би-эс (с сентября 1960 г. – на Эн-би-си) сначала в получасовом (октябрь 1955-го – июнь 1962 г.), а затем – под названием «Час Альфреда Хичкока» – и в часовом формате (сентябрь 1962-го – май 1965 г.). Каждый эпизод обрамляли появления самого маэстро, дававшего иронические комментарии к представленным на экране сюжетам (упоминаемый Де Фелиттой «толстый, одутловатый человек», входящий «в силуэт собственного профиля», – это, разумеется, Хичкок на заставке сериала). Как режиссер Хичкок поставил 20 эпизодов из 372. В 1985 г., спустя пять лет после своей смерти, Хичкок «вернулся» на Эн-би-си в качестве телеведущего: его выступления из оригинальной версии шоу, снятые на черно-белую пленку, были превращены в цветные и использованы для презентации новых серий проекта, реанимированного под первоначальным названием.
[Закрыть]
Сантомассимо смотрел в экран с какой-то маниакальной сосредоточенностью, не обращая никакого внимания на сюжет начавшегося эпизода.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































