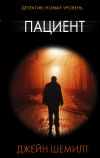Текст книги "Портретный метод в психотерапии"

Автор книги: Гагик Назлоян
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В работе над портретом художник естественным образом идентифицирует себя с моделью. Общее мнение лучше всего выразил М. М. Бахтин. «Первый момент эстетической деятельности – вживание: я должен пережить – увидеть и узнать – то, что он переживает, стать на его место, как бы совпасть с ним… я проникаю внутрь его и почти сливаюсь с ним изнутри» (Бахтин, 1979, с. 24–25). По признанию наших врачей, когда они вылепливают детали, на них находит чувство близкое к deja vu, калейдоскопически мелькают отражения собственного лица, воспоминания разных годов, иллюзия того, что лицо модели своим выражением похоже на близкого врачу человека, которому он в раннем возрасте подражал, с которым отождествлял себя. Иногда врач-портретист ловит себя на том, что он как во сне лепит именно этот образ. Есть много данных о том, что портрет в известном смысле есть автопортрет[27]27
См.: Ельшевская 1992. Сюда же можно отнести знаменитое высказывание Флобера о героине своего романа: «Эмма – это я!»
[Закрыть]. Подобная идентификация не имеет затаенного смысла, и каждая деталь в диалоге, каждый совместный вздох отпечатывается на портрете. Происходит истинное перевоплощение врача-художника в образ своего пациента, «присвоение характеристики другого лица» (Хьелл, 1997, с. 154). Эмпатические способности художника здесь в значительной степени усиливаются особым свойством сострадания, которое знакомо врачу со студенческой скамьи, когда (ввиду неполной доказуемости) он «находил» у себя симптомы почти всех болезней. С годами это чувство, частично сохраняясь, частично переходит в способность «пугаться» (по О. Вайцзеккеру), «ощущать» отдельные симптомы, особым образом сострадать пациенту. К. Ясперс в своем описании «субъективно понятных» явлений, таких как символика, бред, галлюцинации, решил проблему наполовину, потому что мы не знаем, что делать с тем, что мы впитали, запечатлели, куда эти явления отнести в сложном комплексе психотерапевтического вмешательства; и не знаем, наконец, какую роль эти необъективируемые признаки болезни играют во врачебной эмпатии[28]28
Значение этого понятия весьма разнообразно: от «кинестетической эмпатии» (отзеркаливания) до «зрения» в невидимом мире, эмпатии без искусства (телепатии); от артистического восприятия окружающего мира до инженерных приемов отождествления себя с деталью механизма. В нашем случае врачебное уподобление и художественное проникновение сливаются воедино. Этическое вживание врача в «его страдания, в категории другого» (Бахтин, 1979, с. 25), становясь этико-эстетическим, приобретает значение своего (врача) страдания.
[Закрыть].
Мы утверждаем, что психика врача имеет тенденцию отбрасывать их, поэтому соматотерапевт старается ликвидировать «субъективно-понятные сочетания» путем создания объективного досье на больного. Не требует доказательства и тот факт, что названные расстройства порождены монологическим мышлением пациента в условиях патологического одиночества. И здесь врач-скульптор получает преимущество перед своими коллегами, поскольку мишенью его терапевтической активности, его осознанной целью является аутизм. Воспринимая указанные необъективируемые явления в свете проблемы одиночества, он стремится не уничтожить их по одиночке или сразу, а видоизменить, трансформировать через диалог с пациентом. В диалогическом контексте существования «Я» патологические симптомы сами собой дезактуализируются.
Но и больной идентифицирует себя с врачом, который лепит его портрет, и пока скульптурный двойник не сформировался окончательно, врач воплощает это завершение и фактически предстает двойником пациента. Внутренняя речь пациента, как у ребенка, начинает громко звучать (ср. механизм интериоризации речи по Л. С. Выготскому), она обращена к своему двойнику-врачу. Здесь уже не может быть «секретов». У некоторых пациентов наблюдается даже бредообразование с полной идентификацией себя с врачом и вне работы над портретом: то это идеи двойничества, то требующая сложных доказательств идея близнечества, то идентификация по профессиональному признаку.
Больной А. Дж., который считал себя некоей сложной антенной, в отсутствие своего врача проводил интервью с пациентами в кабинете, давал им советы. При этом он подражал манерам и речи своего врача до полного вхождения в образ. Больной Е. Б. считал себя двойником и врача-портретиста, и его консультанта, тем не менее проявлял агрессивные чувства по отношению ко второму. Иногда он весь рабочий день разъезжал между нашим институтом и центром нейроэндокринологии, пытаясь внести ясность в наши отношения.
В процессе лепки врач как бы расшифровывает (через воспроизведение целого и деталей) переживания пациента, опережая его в том, что он собирался выразить словами. Кстати, такое опережение высоко ценилось создателями клинической психиатрии. Продвижение портрета немыслимо без полной взаимной открытости художника и модели. В этой открытости у больного еще нет слов и фраз, как у младенца, – это суть и начало формирования личности. Об этом свидетельствует работа с молчаливыми, иноязычными, умственно отсталыми, глухонемыми пациентами.
В июле 2000 года к нам обратились по поводу глухонемой Н. Л., 30 лет. Она узнавала по губам самые простые слова и произносила по слогам несколько слов, чаще других «постарайся». Это слово стало главным в нашем вербальном контакте. После развода с глухонемым же мужем она осталась в своей квартире в полном одиночестве. Родители, занятые собственными проблемами (пьянство отца), успевали лишь «подбрасывать» ей денег на еду. Увлеклась гаданием, мистикой, советами из желтой прессы. Нарушился сон, упорядоченный быт разрушался, она потеряла чувство времени. Возник и быстро развивался бредовый комплекс с мотивом иного происхождения: она дочь графа, ее родителей убили и выкрали из замка. Стала агрессивной по отношению к «главному преступнику» – ее настоящему отцу, которого с ненавистью называла Колей и часто била. Работа над портретом (первый этап) проходила бурно – смех, слезы, пантомима, записки, рисунки, видеодемонстрация. Это был яркий, полноценный диалог, который запомнился многим. Бредовый комплекс был преодолен, события в семье выровнялись, осталась трудная проблема ее социализации. Мы возобновили второй этап работы с пациенткой.
Отождествление пациента с портретом – главное условие выздоровления. Оно цементирует всю процедуру лечения и может проявиться уже с первых минут работы. В профессиональном искусстве, где имеют право на жизнь самые разные интерпретации модели – вплоть до полного несходства, разговоры на тему «похож, непохож» – признак дурного вкуса. Другое дело лечебный портрет. Постепенное возникновение реалистической (аналитической) оценки своего лица порождает сильные переживания, разрушающие привычный ход мысли больного, «привязывающие» его к собственному зарождающемуся образу, заставляющие часто (иногда украдкой) подходить к зеркалу для изучения отдельных деталей лица, искать сходство с портретом. Эти переживания не могут не отразиться на выборе слов, выражений в диалоге. Например, А. П., чья грубая пока еще маска едва напоминала человеческое лицо, спросил: «Неужели у меня такой угол рта?» Затем подошел к зеркалу проверить и вернулся с недоуменным выражением лица.
Иногда больных удивляет форма собственного уха, носа, рисунок глаз, губ, подбородка. Это и есть первый выход из аутистического плена, первый взгляд на себя со стороны, первая попытка сравнить себя с другими людьми без порочной мифологизации и дисморфофобических установок, искажающих видение мира вообще и мира человеческих отношений в частности. А. Ш., для которого лоб был «полигоном», поверхность носа – «стартовой площадкой», а рот – «пещерой», под конец, вспоминал об этом с иронической улыбкой, как и о своей бредовой идее, что он – пришелец из будущего, и неадекватных поступках.
Параллельно с работой над портретом происходит бурное обсуждение деталей лица больного, который уже настолько включился в этот процесс, что нередко бессознательно повторяет движения рук скульптора – разглаживает, похлопывает свое лицо. Это создает значительное эмоциональное напряжение, а в моменты кульминации – «отреагирование» (по Юнгу), интенсивную разрядку накопленных переживаний. Интерес больного к своему образу так велик, что временами приходится прерывать работу: это нужно пациенту, чтобы уединиться перед зеркалом, или врачу, чтобы оставить того у мольберта и, возможно, предложить ему что-то самостоятельно доработать.
Неадекватность в восприятии своего лица сочетается с незрелостью понятий и принципов, необходимых для творчества и социализации. Жена упомянутого А. П. с досадой сказала нам перед началом лечения: «Кого вы лечите, если личность не состоялась?» Он, кстати, узнавал себя в групповой фотографии лишь по очкам и прическе, т. е. по вторичным признакам. Примечательно, что отличительным признаком психоза Фрейд считал расстройство механизмов образования «я». Незнание деталей своего лица сопровождается незнанием лиц своих близких – жены, ребенка, матери, отца, братьев и сестер. Таким образом, одновременно с реалистическим взглядом на свою внешность к пациенту в диалоге с врачом возвращаются фундаментальные категории общения, устанавливается гармония между аутистической и реалистической функциями мышления (по О. Блейлеру).
Довольно типичная картина: новый пациент – и перед врачом возникает стена, нередко кажущаяся непреодолимой, стена молчания или резонерства, сверхценных или бредовых переживаний больного, его мнительности, негативизма. Однако после того как наступит момент отождествления с портретом (рано или поздно это происходит), от сеанса к сеансу повышается результативность психотерапии. Возникает и развивается ситуация соучастия, творческого сотрудничества. Возможно, еще далеко до выздоровления, но на пути к нему процесс отождествления очень важен. В него включаются и все присутствующие (даже случайные).
Так прокладывается «тропа здоровья» (Фрейд), осознание своей болезни. То медленно, то быстро развиваются интеграция и реинтеграция личности, ее формирование или восстановление, умение управлять моторикой, речью, ориентация в себе самом и в окружающем мире, адекватное мышление. Собственно эстетические мотивы при обсуждении портрета сводятся к минимуму, внимание концентрируется на состоянии, которое в данный момент отражает глина или пластилин. С каждым сеансом больные все серьезнее относятся к своему скульптурному образу, часто они стремятся оградить портрет от неуместной или преждевременной критики; по этому поводу даже может возникнуть размолвка с родственниками.
Отождествление себя с изображением начинается задолго до появления истинного портретного сходства. «Идентификация не всегда относится к лицам, – считал К. Юнг, – но и к предметам» (Зеленский, с. 81). Можно привести немало подтверждений этой глубокой связи: при резких движениях работающего портретиста лицо больного иногда дергается; пациенты часто потирают ту часть лица, которую лепит врач, кривят рот, а при работе над глазами ведут себя так, будто соринка попала в глаз; они жалеют свой портрет, относятся к нему предельно осторожно. Тот же А. П. серьезно рассердился на четырехлетнего сына, показавшего на портрет со словами «это не папа», и на жену, которая высказалась по поводу «недоработанного» глаза. В. Р. создала целый ритуал общения со своим портретом: перед началом каждого сеанса она просила всех выйти из комнаты, потом звала их и сообщала: «Да, это я». Некоторые больные невольно пытались изменить выражение лица на портрете в области губ, бровей, чтобы передать врачу свое состояние. Были случаи, когда пациенты приезжали из другого города, с единственной целью – посмотреть на скульптуру.
2.5. Трансформация основного синдрома заболевания
В процессе работы над портретом раскрываются патологические переживания больных – не только актуальные, но и давние. Приведу отрывок из воспоминаний С. М.: «Мы делали бесконечно важное дело. Мы вместе делали его. Я уже начала болеть этой скульптурой. Я видела, как его руки – то нервно, то нежно – «колдуют» над портретом. Он был взволнован моим рассказом. А говорить хотелось много и все до самого донышка! Он слушал, и это вызывало доверие. Сейчас, во время работы, он мог спрашивать о чем угодно. Да ничего этого не могло быть в кабинете врача. Сейчас я ему верила. Верила!»
Именно потому, что на первых сеансах структура патологических явлений вырисовывается со всей полнотой, в дальнейших беседах нет необходимости к ним возвращаться; так возникает цепочка продуктивного «контакта» с больным. Уже на первом сеансе психотерапии преодолевается удивление и скрытое недовольство больного тем, что врач занят лепкой, пока он пытается обратить внимание на свою личность, высказывая заготовленные дома жалобы и применяя хорошо отрепетированные приемы сопротивления лечению. К примеру, Николай И. после первого сеанса жаловался матери, что доктор невнимательно слушает подготовленные им отчеты и поэтому может неточно изобразить его лицо. В ответ пациент может услышать сходные в эмоциональном отношении признания самого врача.
Будущий «зеркальный двойник» пациента, пока еще в виде куска глины или пластилина, – перед взглядом врача. Начинается воссоздание образа больного. Врачу предстоит найти, вернуть черты лица больного, вытесненные или искаженные расстройством. Психотерапевт, как настоящий художник, полностью погружается в свое творение, идентифицируя себя с моделью, забывая об осторожности, теряя собственные «защитные механизмы». Он «заболевает» тем, от чего должен вылечить другого. Трудно описать силу эмоционального заряда, возникающего в начале лечения и не ослабевающего на всех этапах. Происходит трансформация внутреннего диалога в диалог «врач – пациент» – так называемый «перенос», когда процедура лечения проходит все ступени, описанные в классическом психоанализе. Но сходство это формальное, оно относится к лечебному процессу вообще. Ни принцип либидо (с последующими модификациями), ни представление о комплексах неполноценности (и тем более сложная, вызвавшая споры концепция дифференцированного бессознательного) в рассматриваемом контексте не значимы. Отмечу лишь, что известные методы психотерапии, разработанные для преодоления «сопротивления», для проникновения в интимные или вытесненные переживания больного, оказываются ненужными, когда начинаешь работу над портретом.
Отсутствие временных ограничений в лечебном процессе, о котором говорилось выше, имеет существенный нравственный смысл: никто никуда не спешит, делается глубже и шире диалог между врачом и пациентом. Возникает иллюзия непрерывного общения, и можно позволить себе разговоры на «второстепенные» темы, как бывает в дружеской беседе. Эта нерегламентированность диалога способствует притоку положительных эмоций и в конце концов – к вытеснению многократно повторяющихся (при привычном общении) негативных, собственно патологических переживаний. Так происходит редукция симптомов заболевания – ослабевает фиксация на своей персоне, совершается «коперниканский» переворот в оценочных категориях (Клиническая психиатрия, с. 47).
Точное воспроизведение лица заставляет больного уточнять свои высказывания, по этому поводу и возникает основной конфликт между врачом и пациентом, который продуктивно преодолевается при портретировании. Конфликтная ситуация обязательна на сеансах портретной терапии, она имеет одну и ту же структуру при различном содержании – фактически это модель конфликта, возникающего в контактах больного человека с обществом. Поэтому наши врачи не потакают болезни, не соглашаются с тем, что чуждо общественному сознанию. Преодоление этого конфликта чрезвычайно важно и для продвижения портрета.
Выход из состояния аутизма обычно начинается с первых минут лепки. Пусть врачу недоступен внутренний мир больного, пусть слова врача оставляют его равнодушным, закрытым, но лицо пациента совершенно открыто. Существует целая культура понимания внутреннего состояния человека через внешние его проявления – от уровня здравого смысла до изощренных психологических приемов. В этом отношении портретное искусство не знает себе равных. Нет такого больного, который игнорировал бы направленный прямо на него изучающий взгляд художника – взгляд, сосредоточенный на воспроизведении его лица и его состояния. Первые признаки смущения, неловкости (так хорошо знакомые портретистам) вызывают у врача надежду, оптимистические прогнозы – его внимание уже не поглощают отдельные признаки душевной болезни. Терапевтический азарт невозможно остановить, пока врач не пробьет брешь в аутизме, пока не начнется свободное, действительно духовное общение. Начальный период скованности, самоуглубленности больного, которую можно было бы интерпретировать как еще больший уход в себя, на самом деле часто оказывается мучительным поиском контакта с врачом. (Нелепые высказывания иногда – своеобразные «пробы и ошибки» на пути к серьезному общению с оппонентом.) Нередко сеансы проходят в полном молчании, но это лишь затишье перед важными событиями.
Со временем между врачом-скульптором и больным возникает особая внутренняя связь. Ее характер лучше всего показывают многочисленные примеры «двойного» общения, приведенные выше. Оставаясь недоступным в контакте с посторонними, даже с родственниками, больной неожиданно сильно привязывается к врачу-портретисту, ищет встречи с ним, хотя идет на конфликты. Со временем наши пациенты становятся крайне пунктуальными, тщательно готовятся к началу очередного сеанса, торопят своего «опекуна», помогающего общению с врачом, волнуются перед приходом к нему. Некоторые готовят подробный план беседы, что свидетельствует о продолжающемся в них диалоге и вне реального контакта. Нередко этот внутренний диалог продолжается по инерции и после курса лечения – месяцы и годы, как бы оберегая больного. Такой диалог может проходить и вне портретной терапии (пациент Г. С., художник по профессии, приходил к подъезду психотерапевта, спорил с ним, делал признания, чтобы избавиться от галлюцинаций).
Связь между врачом и больным становится особенно отчетливой, когда из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств курс лечения прерывается – вот тут и выясняется мера надежды нашего пациента, степень мобилизации его жизненных сил, направленных на преодоление болезни. Состояние может настолько ухудшиться, что помочь больному удается лишь в условиях стационара. Но и успокоившись, он испытывает глубокие переживания, связанные с врачом и своим скульптурным портретом. Таким образом, обострение (при «отказе другому в последнем слове» – Бахтин, 1996, 362) протекает не в русле прежних болезненных переживаний, а представляет собой состояние с новым содержанием. В. Б., лечение которого было прервано по не зависящим от нас причинам, приходил в наше отсутствие, чтобы посидеть рядом с портретом, не отрываясь смотрел на него и уходил лишь по просьбе персонала. В. Р. в подобных обстоятельствах (уже из больницы) писала своему другу, что у нее есть шанс на спасение, – у доктора в Москве она оставила «часть своей души» и он сохранит ее до выхода из больницы. В. М. ушла из дома, попала в среду богемных художников и много рисовала, чтобы, как она потом выразилась, «преодолеть тоску совместной работы по портрету».
Надо отметить, что такого рода привязанность не является постоянной – ее особенности неразрывно связаны с этапами создания портрета. По мере его продвижения возникает и растет, с одной стороны, критически-реалистическое отношение к врачу, а с другой – стремление вовлечь в сферу своих переживаний все новых и новых людей; при этом идет активное формирование целей и планов новой жизни. Этому невольно способствует и сам врач, который по мере приближения к окончанию лечения как бы стряхивает с себя это «наваждение» и возвращается к своим профессиональным обязанностям – его ждут новые больные. Некоторое взаимное разочарование не мешает, однако, сохранить теплые чувства друг к другу, воспоминания о совместно пройденном пути.
Что же происходит с тем содержанием переживаний пациента, которое находится на периферии общения создателя портрета с его моделью? Собеседники как будто игнорируют такие «мелочи», как бред, галлюцинации, навязчивые идеи. А ведь именно на этих переживаниях фиксируется внимание больного на первых этапах, именно на их преодоление уходит больше всего сил. Во-первых, иллюзия вечности общения создает у больного уверенность, что к своим основным вопросам он может вернуться, когда только пожелает. Во-вторых, каждая болезнь несет с собой очень ограниченный набор переживаний, к которым приковано сознание пациента. За время лечения портретируемый больной успевает многократно повториться в своих проявлениях – это вызывает недовольство присутствующих, а у врача откровенную иронию и даже «агрессию», так как подобные «надоедливые» повторы мешают сосредоточенности скульптора, необходимой особенно в работе над деталями лица.
Со временем больной научится терпеть «пренебрежительное» отношение к его «неординарным» мыслям и чувствам и, чтобы вернуть свой прежний статус, пойдет на компромиссы, пытаясь приспособиться к вкусам авторитетного для него круга, – придется вести беседы на темы, которые с момента заболевания стали трудно ему даваться. Возникающие из-за этого конфликты психотерапевт улаживает простыми формулами: «Я ненавижу вашу болезнь и люблю вас, у меня ничего не получится, если вы и дальше будете повторять эти непонятные мысли, постарайтесь хотя бы яснее выразить их». Нередко активность больного относительно собственных патологических переживаний так велика, что он направляет все усилия на расшифровку этих переживаний и порой добивается успеха. Так символическое и мифологическое мышление становится конвенциональным и рациональным – это один из главных путей упрощения и редукции основного синдрома заболевания, который в конце становится истериеформным.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?