Читать книгу "Трое в доме, не считая собаки"
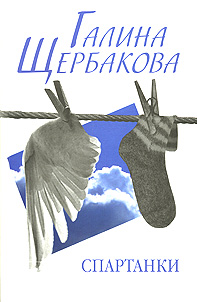
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Галина ЩЕРБАКОВА
ТРОЕ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
Сладкая боль: мягкая лапка двигает сердце то влево, то вправо. От этого она проснулась. Непривычное торканье в груди неприятным не было, но почему-то рождало тревогу. Маня опустила руку, привычно ища Баську. Сейчас она на нее прыгнет, оближет ей морду, и тревога уйдет. Баська – сердечный лекарь. Собственно, и так нормально. Мягкая лапка – даже приятно. По-своему… Но Баськи под рукой не было. «Ба-а-ась!» – хрипло от сна позвала Маня, Баська не прыгнула, а сердце уже колотилось как сумасшедшее.
Она лежала в самом углу, оскалив зубы, на нижней губе у нее присохли таблетки фенозепама. Собака была твердой и холодной.
Маня закричала. Но тут же закрыла себе рот ладонью. Смерть холодом схватила ее босые ноги и как-то сноровисто, будто всю жизнь знала как, стала по ней карабкаться вверх и вверх на встречу с колотящимся сердцем. «У девочек не бывает инфаркта», – сказала она, даже, кажется, вслух. «Еще как бывает!» – ответила та, что уже была где-то в районе пупка и присела передохнуть в ямке.
И тогда Маня закричала, не перекрывая рот. Одновременно (вот ведь подлая человеческая природа, думала она) успела снять с холодной басиной губы таблетки. Они были чуть влажные и распались в пальцах. Можно сказать, что они вмиг исчезли. В дверях стояла мать. Черные подглазья, старая бумазеевая ночнушка и распластанные в сбитых тапках ступни.
– Бобик сдох, – сказала Маня.
Вид матери был так удручающе жалок, так беззащитен в присутствии смерти, что этот «Бобик» случился на языке сам. Ей давно отец объяснял секрет «другого имени». Назови близкое чужим именем, и оно, близкое, перестанет быть им, новое имя отторгнет боль.
Вот и лежащая на полу Бася – вовсе не ее подружка, а чей-то там приблудный Бобик пришел – не звали – и сдох.
Слышишь, бедная моя мама. Это Бобик. Мы его не знаем. Он не наш.
– Это дворники-сволочи! Нарочно разбрасывают у подъезда отраву, – закричала мать.
– Маруся! Ты этого не знаешь, – криком на крик отвечает бабушка Маша, она смотрит из-за спины матери. – Зачем ты так о людях?
Смерть же окончательно растворилась в ямке пупка. И Маня подумала, что даже смерть их не выносит – мать-сквалыгу и бабушку – теоретика справедливости.
– Дворники, дворники! – верещит мать, и лицо ее покрывается красными пятнами в самых что ни на есть неподходящих местах, в подглазье, на лбу и под носом. Ну что стоит пятну сесть на щеки и придать матери свежий морозный вид, так нет же. У нее все не так.
«Бабахнуть бы чем-нибудь, – думает Маня. – Интересно, сколько стоит граната?» Она делает ладонь лодочкой, мысленно кладет в нее гранату и… Тогда бы она наверное успела догнать Баську на дороге к главной переправе. Интересно, там все еще Харон или у них тоже ротация кадров? Она даже повторила вчера или позавчера эти слова за телевизором. Ро-та-ция. Ция. Тора. Дров. Харон бы удивился ей на переправе и даже спросил: «У вас уже девочки умирают от инфаркта?» И тогда она сказала бы ему то, что не сказала «сквалыге» и «теоретику». Она не сказала главного: «Бася съела мою смерть, а это нечестно. Я пошла за ней».
Но сейчас она молчит. Застывший комок жизни возле застывшей смерти.
– Звони отцу, – сказала мать. – Пусть вывозит труп.
«Вот ему я скажу, – думает Маня, – пусть мучается. Он же виноват».
Сладкое это чувство – растворение собственной вины в вине чужой. Так же хорошо, как и перемена имени. Втолкни собственное свинство в пространство свинства другого – и тебе уже покойно и почти хорошо. Нет, конечно, не совсем хорошо, но частично – будто расстегнули тугой пояс. Полегчало.
Отец приехал быстро. Долго звонил в дверь, потому как мать забрала у него ключи сразу и навсегда. Правильно, с какой стати, если он живет в другом доме. Теперь пусть стоит и звонит до посинения. Бабушка в сортире. Мама рисует подглазья. На синем черное – атас. Маня стоит под дверью. И только когда они обе – бабушка и мать – начали на нее орать, Маня впускает отца. Он проходит мимо нее, как мимо стенки. Молчит, глаза у него красные. Сколько разноцветного вокруг.
– Не высыпаешься? – ядовито спрашивает мать.
«Фиг он вам что-то скажет», – думает Маня. Отец берет уже завернутую в старое детское одеяло Басю и идет к двери. Маня плетется следом. Когда открылась дверь лифта, он шагнул в него, а двери стали смыкаться, Маня торжественно и громко сказала в щель: «Бася съела мою смерть», «Теперь он вернется, – думает она. – Мне бы сказала такое дочь, я бы вернулась и вытрясла из нее душу».
Как же ей хочется трясения ее души трясущимися руками отца. Она ждет этого как счастья. Но отец не возвращается.
«Ну и ладно», – думает она, подставив под мягкое и складненькое «ладно» несколько замечательно отобранных точных слов из моря удивительной русской речи, за которые мать лупит ее по губам, в школе выгоняют с урока, а бабушка начинает тягомотину про то, что даже вернувшиеся с войны солдаты не позволяли себе такого сраму, если рядом были женщины и дети.
– Ты пачкаешь себя изнутри, – говорит она, как теоретик, торжественно, – и поселяешь в себе грязь. И на этой почве…
– Говном удобряют, чтоб на ней все росло, – парирует Маня. – Говно – замечательный продукт. Он без химии, потому как сделан внутри человека. А человек – кто? Венец или уже – в смысле говна – нет?
Мать начинает хихикать. Нормально. Она эти разговоры бабушки про войну и послевойну на дух не выносит.
– Почему, – кричит она, – я должна брать в расчет твои воспоминания? Ну, скажи, почему? У меня своих по самую шею, не отплеваться, а я еще должна помнить про того парня? А может, он был идиот? А он точно идиот! Он же кричал – за Сталина! Кричал или не кричал? – кричит она.
В эти минуты святых не выносят, святые уходят сами. Маня даже как бы видит это. Слабое дуновение – и тени, исчезающие в притворе дверей.
Сама она ни на чьей стороне. Это вообще глупость – чья-то сторона. Это для стороны нормально – быть стороной. Но почему она должна быть возле нее? С какой стати? Пусть сторона выбирает ее, если так уж ей это нужно. Но она – сама по себе. И с места не тронется.
Взять того же отца. Вот он довыбирался. Шесть месяцев тому назад он ушел с их стороны на другую. Другая была булочкой с маком. Вся такая розовенькая и много-много мелких родинок на мордочке лица.
– Она рябая, – сказала матери Маня.
– Что?! – не поверила мать. – Где ты видела рябых в наше время?
– У папочки. Его б…, простите, дама сердца такая вся в черную точечку.
– Это родинки, – объясняет бабушка, будто она, Маня, дура и не знает этого.
Но ей хотелось доставить матери радость: рябая. Насколько душе матери стало легче, потому что наличие рябой соперницы – это шанс, что папочка, приглядевшись к перепелиному яичку лица новой жены, однажды, как нормальный человек, закричит дурным голосом прозрения и, как был ни в чем, примчится в свой настоящий дом, и они, все трое Марий, отпоят его теплым чаем с молоком, уложат в постельку, мама принесет таблетку – тьфу! феназепама, – чтобы крепче уснул, и все пойдет по-прежнему.
Маня понимает: такого не будет никогда, потому что нет рябой разлучницы, но маме лучше думать, что есть. Пусть не вернется отец, другая мечта может вырасти на рябой женщине: в лифте ей встретится мужчина и скажет: «Давайте подымемся в небо!» И мама скажет; «Я боюсь высоты». А он ее обнимет и скажет: «Я астронавт». С Маней было такое, то есть совсем наоборотное. В лифт к ней подсел мужик и нажал подвал. Она без внимания. Когда же приехали и она попыталась выйти, он рявкнул:
– Куда прешься, дура! Это технический этаж. В смысле подвал. Ездят идиотки без глаз.
Пришлось подыматься на первый этаж. Потом она из этого придумала историю, как один парень, весь из себя такой «рыжий Иванушка» спустил ее в подвал и кое-что предложил, конкретно предложил, без всяких этих недосказок. Она было даже согласилась, но подвал… «Там воняло», – завершала она гордо свою историю самой себе.
Так из работяги-лифтера сначала вылупился рыжий Иванушка для себя, а потом и астронавт для глупой матери. Глупая – это никакая не грубость и не неуважение, это чистая правда. Мать Маруся тихонько теряет разум, это понимала даже покойная Бася, которая не шла на ее зов: мать по глупости зовет собаку, тогда как на самом деле ей нужна бабушка или Маня, а может, и вовсе третий, которого хорошо бы иметь в дому, а то неровен час, бабушка Маша раньше нее выйдет замуж. Очень уж крепко стало пахнуть в доме бабушкиными духами. «Маже нуар» называются. Мане нравится, хотя чуть-чуть душновато. Мама так прямо и говорит: «Ты задушишь нас своим запахом».
«Это такое… (целый ряд неприличных слов любимого русского), – думает Маня. – Ей ведь уже пятьдесят шесть. И низ живота уже провис. Но, может, они, старики, в этом возрасте спят в трусах, что с их стороны было бы правильно. Даже в молодости у людей это выглядит довольно противно, в отличие от животных, у которых это всегда красиво. Даже у китов.
Все эти скорые мысли, как клипы, пролетают в маниной голове после того, как отец, которому были сказаны главные слова «Бася съела мою смерть», не вернулся, а значит, не испугался, а значит, не любил. «Ну ты и срань поганая, папашка!»
А дело было так. Шесть месяцев тому назад он собрал чемодан с ремнями, который купили, когда все втроем, он, мать и Маня, ездили в Турцию. Чемодан хорошо раздувался, и его практически, не считая трех сумок, им хватило. Так вот, шесть месяцев назад он ушел. А уже через три месяца неким скоростным методом у него родился сын. Он позвонил и сказал Мане:
– Поздравляю, мышь! У тебя родился брат. Его зовут Руслан. Я всегда хотел иметь Руслана и Людмилу. И ты для меня была Людмилой. Если бы не идиотская традиция в маминой семье – называть первую дочь Марией…
Маня остолбенела и, не сказав ни два, ни полтретьего, положила трубку. И странный ветер подул вспять, и годы, запинаясь друг о друга, побежали к своему началу, сбив с ног девять лет и семь. И она осталась с ними, какими-то смущенными в своей сбитости.
– Вам стесняльно? – спросила она лежащие перед ней годы. А потом остановилась на годе девятом.
В девять лет ей ошибочно поставили диагноз – лейкемия.
Бабушка сказала: «Ерунда. В нашем роду такого не было. Нужен другой врач».
Мама же стала выть и царапать себе щеки.
А папа носил Маню на руках и шептал ей в ухо: «Милочка моя! Ты же всем людям милочка, ты мое солнышко. Все будет хорошо у моей девочки, потому что я всегда с тобой, я отнесу тебя от болезни далеко, она побежит за тобой, но не догонит. Я твой Руслан, а ты моя спящая принцесса. И я тебя спасу».
В жизни все оказалось проще и грубее: не то посмотрели, не в ту ячейку положили. Не стоило маминых расцарапанных щек и папиного сладкого пения. Лейкемии не было.
Но Руслан запомнился, и то, что отец называл ее милочкой.
Седьмой год, что валялся под ногами, был годом оперы «Руслан и Людмила», на которой она скучала, когда пели, и возбуждалась, когда гремело железо соперников.
Значит, думала Маня, стоя над рассыпанным временем, если бы я была Людмилой, папа не ушел бы к «рябой», он бы заделал маме Руслана, и сейчас у них в доме был маленький, была бы жива Бася, бабушка нашла применение своим нерастраченным силам и перестала бы бегать к старому пердуну, который ознаменовал свое кавалерство тем, что стал носить чье-то залежалое пенсне, выглядел в нем глупо, если еще прибавить к этому каракулевый пирожок. Маня называла его «Пирожок с ушами и в пенсне».
Одним словом, полгода с хвостиком тому папашка был просто задумчивый («Трудности выживания в бизнесе», объясняла мать), но всегда ночевал дома, спал в семейной кровати, и она скрипела, как ей и полагалось. Манина кровать примыкала к родительской стенке, что дало ей раннюю возможность разобраться в сказке про идиота-аиста. Как она потом поняла, бабушка была отселена в крайнюю, холодную комнату не из желания, как считала бабушка, застудить ее до смерти, а потому что маму смущала тонкая общая стенка. А дочь – ведь дура, ей еще не время различать ночные звуки. Но девочка быстро вникла в суть.
А однажды папа (вот она не помнит, скрипела ли ночью кровать) стал собирать чемодан. До того его нужно было достать с антресолей. Он достал и тщательно вытер с него пыль. Мать была на работе, она врач-фтизиатр. На это слово
...
конец ознакомительного фрагмента
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































