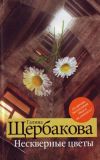Текст книги "Армия любовников"

Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– От страха ни за что не побегу! – говорила она. – А от радости – слабею…
В общем, хорошая женщина, она старалась для людей, водила их в походы, сбивала в хоры, объясняла суть идущих перемен.
А ему, Кулибину, было тогда хоть бы что. Сидит пень пнем и думает об Ольге. Однажды его вызвали в школу, не потому что у Маньки были плохи дела. Завезли целую машину прибамбасов для физического кабинета – тогда это еще делалось по плану, ну и позвали отцов на разгруз. Кто сможет? Кулибин смог. Натаскался от души, забыв про инфаркт. Потом отцы скинулись и дернули с устатку прямо на ящиках, закрыв дверь класса ножкой стула. И так получилось, что физичка сидела с ним на одном ящике, и он невольно ощущал ее тугой бок, даже не бок, а то, что ниже, но их сближенная позиция на ящике определялась гвоздочками по краям, и надо было устремляться в серединку, чтоб ненароком не порвать штаны.
Сидели, что называется, без задней мысли, а после второй или там третьей расслабленное тело почувствовало присутствие другой противоположно-желанной природы. Кулибин никогда не был мастаком по этой части, глаз его не загорался, видя в метро высоко торчащие попки, к которым он вполне мог притронуться брюхом, и никто не придал бы этому значения… Толпа и не то кушает. Кулибин же всегда делал глубокий вдох, чтоб ликвидировать саму возможность прикосновений, если рядом возникало что-то эдакое. На чужое он не зарился и жен, дев, снующих вокруг него, не возжелал. На парткоме, когда возникали такого рода проблемы в виде жалобного письма про измену или грубой анонимки про разврат, Кулибин всегда воздерживался от осуждения; помнил и жалел женскую природу, ту, какая была у Анны Карениной, мадам Бовари, Катерины из «Грозы», с женщинами – даже очень хорошими – случается всякое. И с мужчинами тоже; правда, литературных аргументов в голове Кулибина не всплывало. «Я мало читаю», – осуждал себя он.
– Ты беспринципный, – говорила ему после таких парткомов эмоционально писающая парторг.
– Ну что ж поделаешь! – отвечал Кулибин. – Какой есть. – Время насчет моральных устоев было уже весьма и весьма вегетарианским, так что можно было позволять себе такие вольности и откровения типа «Я такой!».
Но вернемся к сидению на ящике. Кулибин пытался, не глядя на физичку, вспомнить ее лицо. Но не мог. Но бок ее так раскочегарился, что Кулибина охватил неприличный жар, как какого-нибудь малолетку. Когда же все выпили и встали, Кулибин боковым зрением увидел такой призыв за стеклами очков физички, что сам себе отменил все запреты. «Позовет – пойду», – сказал он себе.
Он потолкался на школьном крыльце, ожидая, когда уйдут другие отцы, которые подбивали его продолжить в «стекляшке» хорошо начатое дело, но Кулибин постучал по циферблату: мол, время, братцы, время…
Он еще не знал, что придется переться на электричке до Одинцова. Когда она вышла с тремя набитыми пакетами, его «Я помогу!» было таким естественным и мужским. В электричке Кулибин осознал глупость своего поступка, хмель потихоньку иссякал, организм обретал обычную, неромантическую форму, вот только глаза Веры Николаевны, стоящей рядом, продолжали оставаться горячечно зовущими, хотя Кулибину и приходила в голову мысль: не стекла ли отсвечивают таким странным образом, создавая оптическую заморочку?
Вера Николаевна жила в двухэтажном каменном бараке, обреченном крепостью кладки на долгую жизнь. Возле обитой дерматином двери стояла тумбочка, на которую они поставили пакеты, пока Вера Николаевна слепо ковырялась с ключами. Видимо, это было обычное дело, потому что из комнаты напротив Кулибин услышал, что «опять эта слепая курица не может попасть в замок», из другой, что рядом, кто-то пискнул: «Верка пришла», а третья дверь открылась, и молодая женщина с ребенком на руках радостно сообщила: «Нам дали смотровой! Сходишь с нами?» – «Как здорово! – ответила Вера Николаевна, наконец открывая дверь. – Я потом к тебе зайду, все расскажешь. Через час».
Кулибин как-то очень объемно, даже, скажем, пространственно ощутил количество времени под названием «час» и с этим вступил в комнату.
Через час и пять минут он уже шел к электричке. Было бы просто замечательно, если бы не хотелось есть. Две непривычки сделали голод почти невыносимым: непривычка выпивать средь бела дня, и не по чуть-чуть, а вполне достаточно: у Веры Николаевны оказалась початой бутылка молдавского коньяка, а из еды были одни сушки. Вторая непривычка – любовь в полпятого – ни то ни се. Ни ночь, ни день, а так – сумерки ноября. Он постеснялся сказать, что голоден. То, что между ними случилось, как-то трудно было назвать поводом попросить поесть. То было время, когда продукт не лежал на каждом углу, его даже в магазинах не было, поэтому домой Кулибин добрел совсем злой и снова – в который раз! – оценил Ольгу, у которой всегда в холодильнике все было, и такого позора, как сушки и все, допустить она не могла, как говорится, по определению.
Сытый Кулибин, когда стал перебирать подробности случившегося, поймал себя на желании вернуться к Вере Николаевне, чтоб разглядеть все повнимательней и попристальней. Можно сказать, что любовь к подробностям и легла в основание всего последующего.
К моменту, когда Ольга рухнула в кабинете у врача, у Кулибина географически неудобный роман с учительницей физики шел вовсю. Вера Николаевна грузила на эту тележку большие надежды, тихонечко расшатывая брачный корвет. Почему, спросите, корвет? По кочану, отвечу я. У нее на буфете стоял макетик кораблика, подаренный ей поклонником из далекого прошлого, на нем сбоку было написано нечто несгибаемое в смысле чувств, а где он теперь – тот поклонник? Воистину – поматросил и бросил. А кораблик остался. Вера Николаевна не выбросила его из-за страстной надписи, которая возбуждала возникающих в ее жизни мужчин, а Вера Николаевна дергала плечиком, выражая мысль, что нечеловеческая любовь к ней – дело не случайное.
Ей думалось, что в случае с Кулибиным ей повезет, что еще чуть-чуть, и однажды он останется у нее навсегда…
Вот в момент этой ее мысли и рухнула на пол Ольга, и, не ведая того, Вера Николаевна отлетела от своей мечты так далеко, что обратной дороги уже было не найти.
Вик Вик
«Скорая помощь» находилась с торца поликлиники, и между ними был лаз, маленькая дверь в стене уборной, которой пользовались технички. Вик Вик не то что не мог привести Ольгу в чувство – нет, но это был «частный случай», что называется, не дай Бог, поэтому он «гукнул» соседей. Так говорил их главврач, разбирая жалобы болящих на врачующих.
– Ну не соображаешь мыслью, гукни соседей! – кричал он. Но принято это не было, именно из-за главного. Его не любили и знали ему медицинскую цену. Но тем не менее знали и другое – случись у кого неприятности масштабные по линии партийной или политической, дурковатый по профессии и жизни главврач надевал все свои ордена и медали, прочищал горло настоем зверобоя и шел выручать человека. И случая не было, чтоб не выручил. Но первый день благодарности сменялся вторым, когда вместо нее энцефалитно внедрялась мысль, что ничего ему, главврачу, не стоило помочь, потому как он сам из тех, на кого кричит зверобойным горлом. Все они там шакалы.
Но это, как говорится, к делу отношения не имеет, но именно с его подачи подхалтуривал Вик Вик и с его же совета побежал к соседям, положив Ольгу на кушетку.
Ее освидетельствовали лучшим образом. Сняли кардиограмму, обстучали, обслушали, обсмотрели не без интереса.
– Нерь-вы, – сказал молодой ординатор. – Но ведь обморок давно атавизм. Советские дамы не млеют. Другая природа.
Ольга все это слушала и слышала, просто не открывала глаз.
«Вот гад!» – подумала она.
– Знаете, как мужчины на вас смотрели? А вы из-за кого-то там падаете…
– Млею, – тихо сказала Ольга. – Это правда. И то, что он сволочь, – правда тоже.
Он пошел ее проводить.
– Я могла взять такси, – рассказывала потом Ольга, – но он настаивал проводить, а я не была уверена, что у него есть деньги.
– Но ты же ему заплатила!
– Видишь ли… Получалось, что мои же деньги он на меня бы истратил. Я ведь уже знала, что у него в семье. Мне как раз накануне рассказали про эти повестки из военкомата. В общем, под ручки, как шерочка с машерочкой, мы двинулись в метро. И он был так внимателен на эскалаторе, так осторожен на ступеньках, что я подумала: черт возьми, на меня же бабы зыркают с полной на то завистью. Они ж не знают ситуацию. Они видят, как можно обхаживать подругу в таком оглашенном месте, как метро. И не так, как эти тинейджеры, что у всех на виду лезут друг другу между ног, а по какой-то совсем другой формуле. И мне влетело в голову: а если бы это было по-настоящему? Не из медицинской вежливости? А по чувству? Мне надо было вылечиться от этого гада Членова, и я поняла, что нашла противоядие.
III
Она все сделала, как хотела. Это она была любовником в их отношениях. Это она подгоняла такси к концу его дежурства. Очень хотелось одеть Вик Вика, чтоб с ног до головы стал новенький, но этого было делать нельзя. Разве что накормить как следует, правда, и тут случился конфуз. Вик Вик принес домой запах хорошей еды, и жена замерла в прихожей, прислушиваясь к шелесту молекул аромата, которые миллионно погибали в чужой среде, и вот эту их смерть унюхала жена и была ошеломлена этим прекрасным нечто, которое опадало на болоньевые плащи, на ососулившуюся искусственную шубу, на сто раз чиненную обувь…
– Какой-то дивный запах ты принес с холода… Так однажды пахла Пасха, когда она совпала с маем… Пахло вкусно, празднично…
Жена ушла на кухню, и Вик Вик увидел ее спину с узлом клеенчатого фартука, который она никогда не снимала. Узел на нем был вечен, и жена надевала его через голову. Сквозь тонкую кофточку просвечивал лифчик, и Вик Вик видел перекрученную лямку. Во всем облике жены была какая-то окончательность, завершенность судьбы. Ее нельзя было вообразить в другой одежде, ее нельзя было представить идущей в другом жизненном пространстве, кроме как в пространстве коридора. К тому же она очень долго проходила эти четыре шага до кухни, в этом была некая сверхзадача, чтоб в замедленный ход времени он, Вик Вик, успел увидеть спину и лямку, и они – эти две – должны ему что-то сказать. На повороте в дверь кухни жена привычным жестом поправила бюстгальтер, движение сначала ножом скользнуло по Вик Вику, а потом он ощутил резиновый обхват вокруг собственной груди. Он дернулся, спасаясь от жесткого объятия, но понял: деваться некуда.
Вик Вик отказался от встречи, когда Ольга позвонила в следующий раз, и та долго сидела, замерев над аппаратом. Ей уже была в тягость эта благотворительно-любовная связь, она приносила душевное утешение, но тело ее оставалось равнодушным. Все было как с Кулибиным, хотя последнее время, с того момента, как ей поплохело в кабинете Вик Вика, Кулибин только что на уши не становился ради нее. И тут Ольга заметила некоторые новшества в поведении мужа и с интересом подумала: «Неужели?» Но занятая другим «бедным мужчиной», Кулибина из головы выбросила. А муж тогда старался. Очень. Ему тоже надоело ездить в Одинцово и разглядывать пыльный корвет. Он устал от его застывших парусов.
Так удачно, вовремя закружилась у Ольги голова. Кулибин был многословен, объясняя Вере Николаевне ситуацию по телефону. Та даже посочувствовала болящей. Упасть на ровном месте – дело и опасное, и нелепое. С ней был подобный случай на улице, и она успела увидеть рожи, на которых был смех, а никакое не сострадание. Через несколько дней Вера Николаевна как бы между делом спросила у дочери Кулибина, как здоровье ее мамы. Манька вытаращила глаза и сказала: «Нормально. А что?»
Вера Николаевна страдала зло, ненавидяще и создавала в мозгу картины обстоятельств, когда побитой собакой вернется к ней Кулибин, но у нее уже будет Настоящий Человек, который возьмет его за воротник, приподнимет и… бросит. Шмяканье Кулибина о землю было для Веры Николаевны звуком небесным и божественным. Вера Николаевна была женщиной мстительной и гордилась этим.
Полковник Яресько
Каждый раз, когда Они умирали, она была в отъезде, и каждый раз ее контрагенты начинали нервничать, взвинчивать цену и вели себя так, будто она не сто лет своя в доску, а малолетка-энтузиастка, вышедшая на тропу спекуляции впервые.
Отягчающими жизнь покойниками были Брежнев, Андропов и Черненко.
– Что у вас теперь будет? – каждый раз спрашивала Ванда. – Какую еще нам ждать от вас свинью?
Ольга давно изжила чувство патриотизма, блескучесть которого многими принимается за дорогой товар.
Она уже хорошо знала степень нелюбви и поляков, и венгров, и немцев к матушке своей – родине и считала, что так нам всем и надо. Они за водочкой сто раз переговорили с Вандой о свойстве русских – требовать от мира не по заслугам чести. Но они же и простили им это самомнение, они додумались, что каждый немец не плох, пока его не позвал Гитлер, и каждый русский вполне подходящ, пока на него не напялили идею, и поляк тоже ничего себе из себя лях, только когда ему дают жить по естеству его природы.
Исторические смерти будоражили Польшу, от России ждали больших безобразий. К этому времени Ольга уже накопила денежку и держала ее грамотно, не в сберкассе там или под плинтусом, она покупала старинные подсвечники (некая близость к утюгам и кипятильникам по первородной сути – огня), слегка озеленевших амуров и психей. Мелкий художественный товар из восемнадцатого века, века товарного совершенства, толпился у нее в серванте и на стеллажах, открытость и пыльность дорогих вещей делали свое дело: никто Ольгино «барахло» ценностью не считал. Потом она скажет: «Я знала. Я чувствовала. Я просыпалась утром с мыслью: надо идти на Кировскую. И шла. А там лампадочка. Вещь бесценная, но куда ее в нашу жизнь?.. Это идиоты думают, что некуда, а я думаю другое: Андропов закроет границы, к тому идет, а я проживу на этой лампадке два года, чтоб семья не заметила издержек политики».
Так вот… Когда случались державные смерти, Ольга быстро собирала манатки и возвращалась домой. И дважды ее путь пересекся с полковником Яресько, военным журналистом, который так замечательно устроился, объезжая владения Варшавского договора, и тоже нервничал, когда от Колонного зала до Мавзолея плыл траурный лафет-марафет и старики политбюрошники в застывшем безмыслии совершали этот единственный пеший проход в своей жизни.
Яресько был очень тороплив, если не сказать суетлив. Всякое предварительное разглядывание, говорение полагающихся слов, использование рук, ну, скажем, для нежности, – все это в боевом арсенале полковника отсутствовало напрочь. Единственный способ любви – брезгливое опадание и слово «пардон», которое с трудом вытаскивалось из горла сквозь сцепленные зубы. Когда это случилось в СВ в первый раз, Ольга была просто оскорблена. «Сволочь солдафон», – подумала она вслед выскочившему из купе Яресько. Но потом он пришел снова. И все повторил. «Чистой воды изнасилование, – философски думала она. – Мне есть с чем сравнивать». Она вспомнила себя ту, дурочку безмозглую, которую за здорово живешь можно было завести в уголок и сделать что хочешь. Сейчас через – через сколько же это лет? – через двадцать с лишним с ней поступали так же. И когда Яресько сделал это в третий раз, то они слились в одно – эти два мужчины, прошлый и настоящий, и она напряглась и с какой-то ошеломившей ее ненавистью ответила им как бы двум сразу. Она была свирепа, сильна, агрессивна, она взяла верх, она их победила к чертовой матери, потому что это было ее удовольствие, ее страсть, ее насилие.
– Я перешла с ним в новое качество, – ответила мне Ольга, когда я спросила, что ее, умную бабу, связывает с туповатым полковником.
– Знаешь, – ответила она, – всякое было… И любовью это называлось… И партнерством… И благотворительностью… И браком, между прочим, тоже… Но самый кайф – полное порабощение.
– Тебе мужа совсем уж мало?
– Порабощение, чтоб ты знала, процесс сексуально обоюдный. У русских женщин он доведен до совершенства. Нам всякое насилие в кайф. Мы потом это любим описывать – счастье гвоздя, забитого по самую шляпку. А наши войны? Чтоб друг друга прикладом, ближний бой – это же оргазм! Ну такие мы! Такие! Мы счастливы, когда нас имеют как хотят… И только ждем момента ответить тем же. Я это поняла, и мне стало легче. Надо знать свою природу.
Их роман с Яресько длился долго. Полковник не знал, что был у Ольги параллельщиком, что вопрос о его единственности никогда у нее не стоял, он этого не знал и был ей верен (жена, естественно, не считается). Яресько погиб в Афганистане, хотя как хорошо все там начиналось. Дубленки, ковры, а по заказу Ольги причудливые кальяны, тонкошеие кувшины, пахнущие из горла сокрушительным восточным духом. Но подстрелили Яресько. На войне такое бывает. Ольга ходила на панихиду в клуб, постояла в сторонке, жену покойного поддерживал под локоток слегка пастозный старлей. Было в этой паре что-то внепохоронное, как бы они тут, но как бы и где-то далеко-далече. «Ты был рогат, мой друг, – грустно подумала Ольга. – Но ведь это справедливо. Не так ли?»
На Миусское кладбище она не поехала.
Вик Вик
С какой стати решила съездить туда на девятый день, не знает сама. Скорее всего – близость кладбища к ее работе, едва проклюнувшаяся зелень листочков, которые едва-едва носиком раздвинули мать-почку и замерли от манящей неуютности мира.
– Как хорошо сейчас на кладбище! – сказала Ольге ее подруга по службе – дома ни разу друг у друга не были, а на работе – не разлей вода. У Ольги на самом краешке перекидника было написано – «9 дн.». Она подумала: может, взять подругу? В конце концов, та многое про нее знала, но вот об Яресько – нет. Через час, сославшись, что ей позарез надо уйти, Ольга прыгнула в трамвай и через семь минут была на кладбище. Она не знала последнее место полковника на земле. Она рассчитывала, что достаточное количество людей и венков обозначат ей это место.
На кладбище было хорошо. И пахло странно – рождением. «Как интересно!» – подумала Ольга. Хотелось как-то оформить словами мысль, даже подумалось, что будь она поэтом… Но тут же стало смешно, потому что ничего смешнее – она – поэт! – вообразить было невозможно. Ольга читала только романы про жизнь и любовь, а существование поэзии всегда вызывало у нее сомнение в необходимости этой литературы вообще. Ей хватало ума не вылезать с этим своим сомнением прилюдно, но она очень удивилась, когда ее родная дочь Манька раздобыла где-то «Поэзию вагантов» и исчеркала ее пометками.
Ольга надела очки, свои первые очки, от которых отбивалась до последней минуты. Неинтересно стало сразу, а совсем скучно – через три страницы. «Или она у меня очень умная, или я у себя очень дура», – подумала Ольга. Но первое как-то никак еще в жизни не обозначилось, а со вторым было все в порядке. «Она живет в бархатном ларце – ни сквозняка, ни ветра. Вырастет балдой неприспособленной, а я возьми и помри». Так сформулировался итог попытки познать Средневековье.
Почему-то вспомнилось, как она рожала Маньку, каким беспомощным оказалось в этом деле ее тело, как оно не помогало девчонке выйти в белый свет и на нее орали сразу и врач, и сестра, орали, что она кобыла бестолковая.
– Я тебе говорю – ходи! Ходи по-большому!
– То есть? – пугалась Ольга.
– Она кретинка! – радостно кричала сестра. – Она же полная кретинка! Как ей еще объяснить?
Ольга отвернула голову, чтоб не видеть насмешку, издевательство над собой, и из окошка на нее пахнуло духом почек, живой земли, как бы будущностью всего сущего, и у нее пошла первая настоящая схватка.
Поэтому теперь на кладбище, когда моментно скользнула мысль о поэзии, что было полной для нее дичью, Ольга вспомнила тот сквознячок рождения Маньки.
Ольга шла по тропинке бодро, можно сказать, даже весело, потому что живая, благослови ее Господи, Манька победила покойного, царство ему небесное, Яресько, разве могло быть иначе? Собственно, она даже искать могилу его не стала, прошла сквозь старенькое кладбище и повернула назад. Уже на выходе стало неудобно перед покойным полковником, который дал ей в жизни некое жестокое знание природы вещей, но ему самому это не очень помогло, порабощал-порабощал, а прилетела из-за угла пуля-дура, и где ты теперь, мудрец Яресько? В каких пределах?
Можно сказать, что на трамвайную остановку Ольга вышла в состоянии философской приподнятости и легко вскочила в уже отходящий полупустой трамвай. Она увидела его сразу. Вик Вика. «Боже мой! – подумала она. – Как я ему рада!» И она пошла к нему через пустой вагон с полной готовностью послужить ему верой и правдой и даже еще чем-нибудь, не столь величественным, пока он тут, на земле, в отличие от бедного Яресько, которому она уже ничем помочь не может…
Вик Вик
Они с женой долго ждали трамвая. У нее замерзли ноги. «Ты немножко потопай, – говорил он жене, – потопай». И жена топала. Его охватывал ужас от этих неочеловеченных ее движений. Он боялся слов, которые стояли на выходе его мысли: «Как заводная». Он боялся оскорбить ее даже тайным знанием ее неприсутствия в этом мире. Она ведь так старалась присутствовать.
Двадцать минут стояния на еще холодном весеннем ветру возле Миусского кладбища могли плохо кончиться для Леры. После смерти сына – он подавился пуговицей, которую исхитрился откусить на собственной рубашке, пока жена полоскала в ванной его белье, – с ней все хуже и хуже. Освобождение от калеки-сына, а это и было освобождение в самом чистом понимании слова, стало для нее укором, что она не уследила за ним.
«Если бы он умер своей смертью», – повторяла она бесконечно. «Он – своей, – отвечал Вик Вик. – Его никто пальцем не тронул».
Она затихала на этой формулировке, которую он придумал не с первого раза, и как бы мягчела, оживлялась, но потом, будто кто-то грубой силой оттаскивал ее от жизни, кричала: «Это я! Это я! Где были мои глаза?»
Одновременно она готовила еду, стирала мужу рубашки, разговаривала с людьми, только замедленность, сомнамбулизм движений говорили, что все с ней плохо, что болезнь как некая неизменная данность, видимо, должна существовать в их доме довеку, потому что кто-то там на распределении судьбы пометил им такую карту.
Ольгу он увидел сразу, как только она выскочила из ворот кладбища и птицей полетела к трамваю.
Вот это самое… птицей… полоснуло от плеча до паха.
Но оказалось еще страшнее – птица летела к нему. Раздвинув стены вагона, аннигилировав крышу, птица на ровных крыльях планировала прямо в раздвинутое болью место. Вик Вик обхватил жену за плечи и силой прижал ее голову к себе. И случилось моментно-мгновенное изменение траектории полета. Дунуло только ветром от крыльев. «Слава Богу! – подумал Вик Вик, прижимая к себе жену. – Не хватало ей еще этого…»
Связь с Ольгой была в его жизни фактом не просто странным, а, скажем, экзотическим. Его приятелю на тридцатилетие какой-то идиот подарил петуха, красивую когтистую птицу, которая не могла оценить ни собственного предназначения, ни грубого юмора людей, а потом – оказалось! – не могла вообще оценить человеческого отношения к себе. Птица гадила, больно клевалась, рвала когтями окружающую действительность, побуждая всех к здоровой мысли сделать из нее бульон, но какой же уважающий себя интеллигент с Чеховым на полке пойдет на это? Пришлось ехать на электричке, спрыгивать на деревенском просторе, а потом в ногах валяться у удивленных людей, чтоб взяли петуха Христа ради. Но народ такого дара почему-то принять не хотел. Взял петуха какой-то мужик, подозрительно одиноко существовавший на улице и как бы не тяготеющий ни к одному из домов. В придачу к петуху он попросил всего ничего – святой человек! – деньги на пол-литру, что и были ему положены в карман после того, как петух был всучен в руки.
– Он у меня еще помастачит, – приговаривал мужик, – он того… дело молодое… еще встрепенется…
Конечно, сравнивать Ольгу и петуха не просто неловко, а даже как-то оскорбительно для женщины, тем более что Вик Вик о петухе не думал, в его нынешнем состоянии петух как таковой – последнее, что могло бы прийти ему в голову. Просто волею судеб я знаю эту историю с петухом, поскольку была на дне дарения и там познакомилась с Вик Виком и Лерой. Говорят, через семь своих знакомых можно выйти хоть на Тэтчер, хоть на папу римского. А теперь – через Интернет, я допускаю, можно выйти и раньше. Но я знала Вик Вика, вернее, я больше знала Леру. Если вспомнить мою соседку Оксану Срачица, то можно подумать, не натягиваю ли я искусственно нити. Не натягиваю. Я широко и просторно живу в своих человеческих связях и всего больше ценю связи простые, случайные, неделовые. На их уровне вязь людских переплетений видна лучше. Мы перезванивались с Лерой, которая об Ольге понятия не имела, и пару раз я дарила Лере духи «Цан-цан» из Ольгиного базара.
– Они тебе нравятся? – удивлялась Ольга.
– Моей знакомой нравятся, – отвечала я, а Ольга делала лицо фигой. «Цан-цан» котировку имел низкую.
Но надо вернуться в трамвай. Вик Вик чувствовал присутствие Ольги где-то в конце «червяка», а глазами видел сбитый набок серенький Лерин платочек. Изнутри толчками подымалась ненависть, гнев на жизнь, судьбу, что раскорячилась над ними. Благодаря Ольге (или не благодаря? Это спорный вопрос) он знал о другом уровне достатка, о другой женской одежде и другой еде. Поликлиника, «скорая», что за ее стеной, приятели из «ящиков», НИИ, соседи-учителя жили все одинаково. Прикреплялись к каким-то магазинам, помнили как «Отче наш» часы отоваривания, по цепочке передавали друг другу неожиданно возникающие дефицитные вещи, кроссовки там или сапоги на манке. С Ольгой он будто съездил в Болгарию на Золотые пески. Но что делать? Разовые картинки счастья не подходили ему по определению. Где-то оставалась Лера, и он не просто помнил об этом, он ощущал ее отсутствие как временную ампутацию ноги там или руки. Сейчас, в трамвае, в присутствии двух случившихся в его жизни женщин Вик Вик думал, что надо бежать из этой страны. Он ненавидит ее, ненавидит за все. За этот оскорбляющий платочек жены, которой так шли шляпки, но к старенькому деми в очередь за яичками разве наденешь что-нибудь, кроме платочка? Они сейчас в связи со смертью сына и болезнью Леры в долгах по маковку, а впереди жизнь, которая может оказаться длинной, как этот трамвай, в котором он едет, и такой же уныло безлюдной…
В Америке у Вик Вика жил брат, тоже врач. Брат уехал туда «на лучшем способе передвижения тех лет – жене-еврейке», через два года доказал свою квалификацию, через три – купил дом… Никакой не Нуриев там или Барышников. Обыкновенный честный отоларинголог хорошей выучки.
Он звал Вик Вика, но Лера была русской, и, что называется, никаких оснований для их отъезда не существовало.
«Уехать! Уехать!» – кричало все в нем, и, видимо, силу энергетики его мысленного побега учувствовала и приняла на себя Ольга, отчего и спрыгнула на следующей остановке и уже пешком добиралась до работы.
«Как они оказались в этом трамвае?» – думала она. Ей и в голову не пришло, что они ехали с этого же кладбища, что там у них в могиле Лериной бабушки похоронен сын. Еще Ольга думала, что жена Вик Вика выглядит уж совсем старухой. «До такой степени не следить за собой, – размышляла Ольга, – так и просчитаться можно. Уведет мужа какая-нибудь не такая добрая, как я».
Но тут же, как женщина справедливая, она вспомнила, как отторгла ее его рука, а другую женщину обняла. Не прикоснувшись к ней, ее выкинули.
«А я, дура, летела к нему как птица. Мне хотелось порадоваться, что он живой, а вот Яресько – нет. Я бы ему сказала: „Дорогой! Никто не знает ни своего дня, ни своего часа… Это дает нам полное право брать радость, которая всегда может оказаться последней“».
Пешая прогулка оказалась полезной. Ольга раз и навсегда поняла, что в одной могиле она похоронила двоих. Она теперь будет ездить на Миусское кладбище, зная, что у нее там двое. Не важно, что она не знает, где эта самая могила. Цветы всегда можно оставить на любой. Это показалось заманчиво, и она мне при встрече сказала: «Взять, например, и ходить на какую-нибудь могилу и оставлять цветы… Вот будет переполох в семье, если отследят! Никто ведь про то, что неизвестные цветы – это хорошо, не подумает… Мы ведь все превращаем в гадость. Все». – «Но это же ты так задумала, – смеюсь я. – Ты своей головкой рождаешь гадость». – «Нет, – отвечает она. – Я рождаю цветы. А людей просто хорошо знаю».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?