Текст книги "Маг в законе. Том 2"
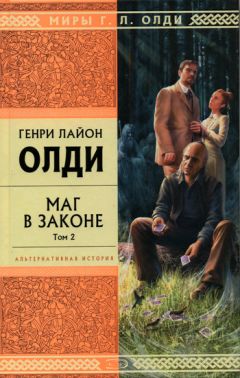
Автор книги: Генри Олди
Жанр: Боевое фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Запала эта история Максе в душу, а когда коня ему заказали, пригодилась.
Эх, Ефрем, фартовый ром! – ведал ли, что и сам в ту легенду угодишь?..
– А где он теперь, этот самый… Жемчужный?
– Помер, – тяжко вздыхает востроносый. – Да он ли один? Ромаш Стойня, знатный лошадник, с полгода назад откинулся, смертью злой…
Ты мысленно перекрестился: надо будет свечку поставить за упокой души. Ромаша Стойню по кличке Два Бубенца ты знал. Толковый был маг, слово его дорогого стоило!
Ай, какие люди уходят!
– …ученик был. Подельщик тот самый, что Ефрему Жемчужному коня графского свести помогал. Тоже – не другим чета! С самим Жемчужным потягаться мог! Бритым его прозвали; бороды не носил, говорил – колется…
Нате-здрасте!
Ты машинально потер подбородок:
– А звали его как?
– Тебе-то зачем, дядя? – насторожился Девятка.
– Да слышал в конных рядах о каком-то Бритом; имя у него еще чудное было… дай-ка вспомнить… Дуфуня?
– В точку! Дуфуня Друц по кличке Бритый! Видишь, известный человек, если даже ты слыхал! Я его видел однажды, вот как тебя, в кабаке. За соседним столом гулял. Мне его барон Чямба показал. Жаль, погиб он, Бритый-то, в позапрошлом году. Царствие ему небесное!..
– Типун тебе на язык, морэ! – опешил ты, хороня свою собственную душу. – Это как же: погиб?!
– А вот так! – зло передразнил тебя востроносый. – В Севастополе под облаву жандармскую с крестником угодил. Крестник во двор, там татары, начали ножами резать… Дуфуня и кинулся парня выручать. Тут облавные и подоспели. Схватился он с ними, двоих уложил, голыми руками! Одного – полковника жандармского! Видят «Варвары»: не сладить с Бритым – ну и застрелили. В спину. А ты, дядя, – «типун»…
Что, Друц, плакать тебе или смеяться? Вот ты, оказывается, какой Бова-королевич! – за крестника жизни не пожалел, двух жандармов голыми руками… И смех и грех! Ну, если Два Бубенца «погиб» так же, как ты, может, рано ему свечку ставить?
Нет, не рано!
Ни Ромашу, ни тебе – в самый раз. Вы уходите. Нет, иначе: сама жизнь вытесняет вас; не сегодня, не вчера начала она выдавливать вас, как гной из раны, – в легенды, в сказки, где встретятся Бритый с Максей Королем, с Грэнгиро Дадом. Шестерки бьют Валетов, Королей, Дам, Тузов… Ваше время вышло, вышло перекурить, да забыло вернуться. Виноват не князь Джандиери с его подельщиками; никто не виноват. Останутся лишь такие вот Девятки, готовые за кружку пива травить байки в гандэлыках, потому что страшно: потерять ученика-подельщика и вскоре загнуться от случайного финта, загнуться жутко, мучительно…
Да и этих востроносых Девяток скоро не останется.
Вот тогда легенды начнут потихоньку ржаветь, превращаясь сперва в сказки, потом в небылицы…
– Тут через дорогу рюмочная есть, – решительно заявил ты, гася окурок прямо в недопитой кружке. – Пошли. Хлопнем по стопке за упокой души.
– Чьей души-то, дядя?
– Моей, морэ. Моей.
Когда востроносый уходил – быстро! не оглядываясь… – ты смотрел ему вслед.
Дожил, Друц?
Ай, рома манца на пьена, гадже на парувэн![5]5
Ромы со мной не пьют, мужики торг не ведут! (ром.)
[Закрыть] Небось озлились таборные прадеды за того крымского жеребца, которого ты так и не свел; с облаков твою рожу невидимой сажей мажут… позорище ты, морэ!..
Заметки на полях
А у Девятки Пиковой, рома закоренного, в темной глубине, сплошь пронизанной смешливыми искорками:
…ай, пыль!
По дорогам, трактам, шляхам, под ногами, сапогами, – желтой змейкой, малым смерчем; под дождем назвавшись грязью, в летний зной назвавшись смертью, в зимний день назвавшись снегом, только эти все названья – ложь, обман, умов смущенье, ибо пыль осталась пылью, как судьба судьбой осталась, как жена со мной рассталась – пыль, сказала, ты дрянная! на зубах скрипишь паскудно!
Ай, ромалэ – одинок я!..
Пыль…
* * *
…Помнишь, Девятка?
Да, ты помнишь. Только сейчас уже не важно, помнишь ли ты нашу встречу; важно удержать толпу, и не просто удержать на краткий миг – надо заставить…
Огненная лава вспыхивает в низу живота. Раскаленным штырем пронизывает тебя, вздымаясь вверх, подступая к горлу – и выплескивается наружу испепеляющим драконьим пламенем.
Пламенем, дыхание которого ощущаешь только ты.
Нет, не только. Ты и Девятка.
И еще – далекая, оставшаяся в городе Акулина.
И, наверное, Федор.
И… Розмар ман о кхам![6]6
Разрази меня солнце! (ром.)
[Закрыть] Кто еще возник там, на самом краю, в туманной дымке?!!
Плевать!.. Дуфунька Друц шутки шутит.
Не черномазый мальчишечка бьется под ногами у мужиков – Грицько Чупрына, белобрысый хлопчик сельского головы! как и подвернулся?! беда!
– Стойте! Стойте, ироды, сучьи дети! Грицько! кровиночка! вон мажонок, у гребли – бегит! Очи вам, курвам, отвел! Не трожьте Грицька!
Дурным хряком проломился сквозь толпу голова. Распихал мужиков: глаза безумные, пегая бороденка торчком, слюна изо рта брызжет; упал возле паренька избитого на колени, обнял, собой закрыл. Опустились руки с кольями, попятились мужики, озираются – где мажонок? где сука?! далеко не уйдет!
Ох, больно много вас! трудно! Что ж стоите?! Скорее, в погоню! Сил ведь уже нету – всем разом глаза отводить, личину на крестнике Девяткином держать, да так, чтоб отец родной обманулся! Девятка, п-падла, держись! Я ведь тоже не железный! Валет я – не Король, не Туз, Лошадиного Отца не дозовусь на помощь!..
…Ай, морэ!.. зачем?!
Не сдюжил Девятка, надорвался. Обмяк на чужих руках, голова на грудь поникла.
Ну же! Сельчане! Бегите, ловите мажонка клятого!
Не бегут. Переминаются с ноги на ногу, моргают растерянно – будто в толк никак не возьмут: зачем моргают? чего ищут? откуда помрачение? Вот один уж голову за плечо тронул:
– Ты, Остап Тарасыч, тово… отойди от греха.
– Гриць! Гриць мой! Убью!
– Хрена там Гриць… сам погляди…
Вывернулся из сонмища юрод-карлик: без порток, в драной рубахе до колен, на шее вериги железные, ржавые, по пуду каждая. Затоптался в пыли неестественно большими, закостенелыми ступнями, черный рот раззявил:
– Обижают свет Прокопьюшку! обижают! обмануть норовят, отводят ясны глазыньки! Ай, беда!..
И запылил прочь: плача в голос, утицей-хромушей припадая набок.
– Прокопий-угодник! – зашептались в народе. – Божий человек! все насквозь! насквозь видит! правду-матку!
Близкой кровью от тех шепотков потянуло.
Вот она, судьба твоя, непутевый ром! Видел ты ее однажды, там, где ждет магов Дух Закона, – видел, да обманул, ушел от судьбы играючи. Дважды догоняла, стерва: один раз Даньку забрала, второй раз била, не добила – облавники вовремя поспели.
Третий раз – самый мажий, что ни на есть.
Не уйти.
Спляшем напоследок? Ай, баро! – вот и кнут в руке! Может, уползет мальчишечка…
– Остынь, Дуфуня. Дай-ка я…
– Не смей, Федька!
– …Феденька!.. не… надо!!!
– Надо. А ну, пр-р-рекратить самосуд!!!
Глотка у Федьки была луженая. Над ухом рявкнуло, как из пушки. Мужики оторопело застыли, и на миг тебе показалось: сейчас все закончится. Вот этот миг, когда ты позволил себе расслабиться, отпустить незримые поводья, которые еще хоть как-то сдерживали толпу, – он решил все.
– За конокрада заступаешься, барин? Небось одной с ним породы?! – оскалился навстречу Федору конопатый верзила, начав демонстративно засучивать рукава.
– Небось, – зло ощерился в ответ Федька Сохач, леший из Кус-Кренделя, отстраняя в сторону господина Сохатина Федор Федоровича, богемного кумира.
Даже ты не видел удара.
Стоит конопатый! летит конопатый! спиной вперед, в толпу односельчан, щедро разбрызгивая из носа красную юшку.
Федор брезгливо отряхнул руки (а виделось: вскинул их к сизой гуще небес!); и ты понял, чего ждать от бешеного Сохача, – говорят, Рашка в молодые годы совсем психованная была.
Нельзя! дурик! сожжешь себя одним-единственным финтом! рано!..
Остаточки, поскребыши, пыль душевную – все собрал ты обжигающей кипенью, которую бросил наперерез: остановить, не дать крестнику самоубийственно выплеснуться, задавить силой старшего, крестного, мага в законе…
* * *
Когда черная пустота мягко толкнула в затылок и земля ушла из-под ног, ты, как ни странно, успел изумиться.
В Закон выходят иначе.
А Федька вышел так.
Круг третий
Дуракам закон не писан
– И труп волшебницы младой мне долго виделся ночами…
Опера «Киммериец ликующий»,ария Конана Аквилонского
Прикуп
– Тогда почему, владыка?
Иннокентий молчал.
Осень бродила вокруг Покровского монастыря, шелестя опавшими листьями, – быть весне, быть листве новой, течь изумрудным шепотом… только этим, сухим, палым, каков барыш с того?..
Труха воспоминаний?
– Слыхал? В Новом Свете мормон-бейлиф Линч, отставной полковник, самосуд и вовсе узаконил…
Владыка откинулся на спинку скамьи; приспустил шторки век, отчего лицо преосвященного стало похоже на морду умной лошади с надетыми шорами. Ишь, синяки под глазами…
Устало продолжил:
– Сперва в Линчберге, что на реке Джеймс, в штате Вирджиния; а там подхватили – общество преподобного Джона Бэрга и то одобрило. Федеральные власти умыли руки: дескать, законодательством за сии подвиги уголовного наказания не предусмотрено… Вот и искореняют, каленым железом. Ежели падет на кого подозрение в мажьем промысле или, того паче, в пособничестве – являются. Ночью, в балахонах. Под окном крест, прости Господи, жгут, с чучелом. Предупреждают, значит.
Отец Георгий дернул щекой:
– Знаю, владыка. На первый раз предупреждают, на второй – жизни лишают. Без суда и следствия. И никто на убийц в розыск не подает. Впрочем, замечу: мы и здесь раньше Нового Света управились, со всеми их мормон-бейлифами… нашим полковникам новосветские Линчи не указ.
– Ну да, ну да… я иногда думаю: где собака зарыта? Сколько лет законность блюли сугубо: маг? богомерзкий преступник?! ордер на арест, подкрепленный уликами; суд присяжных, доказательства, свидетели, материалы следствия, статьи, параграфы – комар носа не подточит! Знали ведь: совместный приговор государства и церкви, приговор справедливый, законный – только он лишает мага силы на срок заключения!..
Недвижная поза Иннокентия противоречила голосу: внятному, сильному голосу проповедника, известного далеко за пределами губернии.
– Мы знали, латиняне знали; магометанские державы знали; авраамиты, буддисты, язычники – все знали! Назубок! Вот теперь спроси меня, отец Георгий: откуда? откуда знали сие?! Ровно нашептал кто… Мы с отцом Павлом, который из Университета, с кафедры богословия, много о том судачили. Отец Павел – муж ученый, на древних языках мало что пишет, говорит свободно! не нашел, говорит, у пращуров объяснения связного…
Мимо просеменил певчий из архиерейского хора. Поклонился, квакнул на ходу; благословения не удостоился и исчез за поворотом. Небось на клиросе звончей разливается… Отец Георгий узнал певчего: бывший бурсак Пехотинский, чьи тайные записки однажды попались в руки репортеру из «Губернских Ведомостей» – и были, к вящему ужасу Пехотинского, обнародованы.
Мещане долго потешались, читая друг другу:
«Пробыл я в певческом хоре три года и приобрел маленькую известность. В городе меня знали многие лица из купеческого звания, и лишняя гривна меди частенько стала водиться в моих карманах. Но это не улучшило нисколько моего положения. Я отвыкал от классных занятий; по-прежнему регент колотил меня. Особенно же огорчало меня то, что преосвященный, которого я душевно любил за его милостивое с нами обращение, разумел меня отчаянным шалуном. Я беспрестанно попадался ему лично в каком-нибудь проступке, основание коего не всегда ему было известно. Как-то: самовольное наряжение в губернаторские ленты; уворованные в Куряже яблоки; избитый регентом во время похорон профессора Корсакова, от горя и ища уединения, я спрятался в архиерейской карете, которая как назло была в сей час подана владыке… По счастью, выслушав горькую мою повесть, владыка подтвердил свое распоряжение, дабы певчих били одни лишь протодиаконы, но никак не злодеи-регенты…»
Отец Георгий проводил отрока взглядом: сам болтун-певчий интересовал священника в весьма малой степени, просто с мыслями собирался.
Теснило в груди: сердце все чаще давало о себе знать.
– Иное спрошу, владыка: откуда тело знает, как болезнь врачевать? Станешь исцеляться вместо лекарств подкупом, шельмованием, начнешь мошенничать с самим собой – в одночасье помрешь. У тела свой закон, у болезни свой – беззаконие.
– Вот! Вот… В эфирных ли воздействиях болезнь сокрыта? От них ли человечество само себя врачует, не думая, не понимая, одним лишь внутренним законом?!
– Нет, владыка. Полагаю, что нет. Испокон веку непонятное пугало, но не убивало; так и здесь. Магия – не болезнь. Из магии, из желания достичь результата путем самостоятельного действия вся наша наука выросла – как росток из семени. Мы же не сажаем в острог хирургов? ботаников? агрономов?! А ведь покажи их действия голому дикарю-язычнику с острова Вату-вара – сочтет магией!
– Сочтет. Всенепременно. По-твоему, выходит, не в самой магии причина отторжения? Не она – болезнь, которую тело лечит?
– Нет, владыка. Не она. Оболочка для болезни; не само зло.
Со стороны набережной потянуло дымком: монахи жгли листья на склонах. В горле запершило; отец Георгий стал кашлять – долго, надсадно, удивляясь приступу.
По-прежнему с закрытыми глазами, преосвященный Иннокентий потянулся, легонько хлопнул обер-старца по спине.
– С-с-спасибо… – просипел отец Георгий, восстанавливая дыхание. – Простите, владыка…
– Кашляй, кашляй на здоровье. Тело бренно, едино душа бессмертна есть. Хотя знаешь: мне иногда кажется, что ты не взаправдашний. Придуманный. И кашляешь вроде, и со мной сидишь, лясы точишь; и ряса на локте протерлась. Ну да, ну да… ясное дело: стареет владыка, дитем сущим сделался. Сущеглупости зрит.
Иннокентий вздохнул; кряхтя, поднялся:
– Ладно, иди. После домолчим.
Сделав шаг, другой, владыка остановился.
Кинул через плечо, не глядя:
– Вчера твоего ходил смотреть… как вы говорите? крестника, прости господи? На тебя похож. Тоже ненастоящий. Отец келарь докладывал: пример монашеству, ходячий кладезь добродетелей, одна беда – глаза шибко умные. Раздражает братию. А я на твоего смотрю и тебя вижу. Для того и позвал: сравнить. Скажи мне на милость: отчего так? зло ли сие есть? добро?! Ведь сын на отца меньше походит! А ты с ним видишься раз в год, по обещанию… я справлялся. Эх, понять бы… пока Линчи повсеместно воду не выплеснули, с младенцами-то…
И ушел, не став ждать ответа.
В шепоте осени; маленький, сухой человечек.
Отец Георгий зачем-то ковырнул ногтем скамейку, загнал занозу и, сунув палец в рот, двинулся к воротам.
IX. Рашка-княгиня, или Средь шумного бала, случайно…Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим.
Книга притчей Соломоновых
Есть тайная прелесть в провинции. В ее дородной медлительности, ярком румянце щек, исчерна-густых, не тронутых пинцетом бровях, в полнокровной улыбке; в запаздывании по отношению к блестящим столицам-туберкулезницам, в отставании моды, в несоответствии времени – провинциальное «сейчас» в некоторой степени больше «вчера», чем «сейчас».
А совпадения… эти иглы в сердце…
Бог с ними, с совпадениями.
Ведь ты помнишь, Рашка… да что там помнишь, когда непосредственно видишь перед собой: десятки, сотни шандалов, канделябров, свечных розеток из старого серебра – и всюду истомой тает нежный воск, всплывая по предсмертному воплю фитиля, отдаваясь огню со страстью и негой безнадежности.
С открытой верхней галереи захлебываются гобои, гнусаво плачет фагот, скрипки искупают все грехи мира, опираясь из последних сил на мрачное плечо контрабаса – вальс месье Огюста Бернулли, слегка подзабытого властителя душ, кружит головы, кружит тела… о, раз-два-три, раз-два-три, и не важно, что вальс уже давно утратил постыдный титул пляски развратников, совершенно неважно, потому что скрипки… и гобой… и шелест, шуршание шелка – чш-ш-ш, не мешайте…
Тебе совершенно не хотелось работать.
С самого начала.
Еще когда подымалась по карарскому мрамору лестницы, сплошь устланной винно-красными коврами; еще со входа в длинную, просторную залу, чьи колонны венчались капителями в форме лепестков нарцисса; еще с золоченых, чертовски неудобных кресел, куда едва ли не силой усаживали почетных гостей.
Джандиери садиться отказался. С самого начала он встал за креслом начальницы института (за левым плечом! левым…), ведя легкую беседу; да там и остался, когда парадно одетые облав-юнкера стали один за другим входить в залу, направляясь к вам для поклона.
Ты отвечала легким кивком, приклеив дежурную улыбку.
Ты была не здесь.
«Княгинюшка!..»
Некогда румяное, живое, а сейчас наспех вылепленное из грязного воска, лицо Короля жалобно сморщилось. Свечной огарок, не лицо.
«Довелось… свидеться…»
Прямо над головой, на площадке с перилами, основанием которой служили две крайние колонны, расположился оркестр под руководством дирижера Колниболоцкого – известного также виолончелиста, коему один из князей Голицыных, Николай Борисович, завещал свой многотысячный инструмент работы Страдивари. Не видя музыкантов, ты макушкой чувствовала: вот они, стая воронья во фраках! Да, несправедливо; да, оркестранты не виноваты в дурном расположении духа некоей Эльзы Джандиери, чей характер изрядно подпорчен каторгой и «скелетами в шкафу»; но что поделать?!
Хотелось тишины.
Страстно, безнадежно.
Улыбайся, Княгиня! улыбайся, кивай, Рашка, чтоб тебя!.. они же кланяются, смотрят восхищенно! они пришли на бал, а не на похороны!
Джандиери словно почувствовал (словно?! или почувствовал?!). Расшаркался перед начальницей, отошел к твоему креслу, слегка оперся о спинку.
Картинный, роскошный офицер.
– Хотите, милочка, я извинюсь, и мы уедем домой?
– Не надо, – ответила ты, испытывая благодарность; это было неприятно. – Мы остаемся.
После окончания приветствия объявили полонез.
Пришлось танцевать. К счастью, не в головной паре: возглавили танец начальница института с губернским предводителем дворянства, медлительным усачом. Джандиери вел тебя легко, чуть отстраненно, позволяя собраться с мыслями.
Улыбка держалась, как приклеенная.
Губы сводило.
– Та-ак… Господин Ознобишин, если я не ошибаюсь? Петр… э-э… Валерьянович?
«Не оши… ошибаетесь…»
– Почему он не отвечает? – спросил князь у тебя, игнорируя возмущенную сестру милосердия за спиной.
– Он отвечает, – сказала ты, еле удерживаясь, чтоб не закричать.
Вальс.
Наконец-то; опять.
Можно отойти в сторонку, к окну. Тронуть (не ухватиться! тронуть!..) портьеру, ощутив колючее золото шитья. Сесть (не упасть! сесть!) в кресло – по счастью, не золоченый постамент официозу. Раскрыть веер, позволить ему затрепетать в руке пойманной бабочкой.
Все хорошо.
Все чудесно.
Воспитанницы института, бессовестно кокетничая, вальсируют с господами облав-юнкерами; здесь же кружит Зиночку Раевскую, признанную в городе красавицу, гость из столицы – пресыщенный жизнью выпускник Пажеского корпуса. Завитой кок трясется надо лбом; паж косит по сторонам влажным, лошадиным глазом, ждет ревнивых взглядов.
Не дождется.
Старики (старики – это ты, Рашка…) разбрелись по углам. Сплетничают, насмешливо изучают молодежь в лорнеты, монокли, тщетно пытаясь за иронией скрыть зависть. Смертельно хочется водки. Граненый стакан. Мелкими глотками; до дна. И языком собрать капли. Увы, здесь не разносят даже шампанского. Что вы! Опомнитесь! Еще со дня основания института, когда Императрица Мария Теодоровна назначила ежегодную сумму на содержание и утвердила устав, в оном уставе было сказано, черным по белому:
«…дабы воспитываемым здесь бедным девицам дать образование и нужные познания в науках и рукоделиях, посредством которых они по выпуске могли бы снискивать себе пропитание обучением детей или трудами рук своих, умея при том добрым порядком избегать недостатка даже в самом ограниченном состоянии!»
Будем избегать недостатка, Рашка. Будем снискивать пропитание. Добрым порядком. И все-таки: смертельно хочется водки.
Стакан.
Мелкими глотками.
Помянуть детского доктора Ознобишина.
* * *
«Княгинюшка!..»
Некогда румяное, живое, а сейчас наспех вылепленное из грязного воска, лицо Короля жалобно сморщилось. Свечной огарок, не лицо.
«Довелось… свидеться…»
– Та-ак… Господин Ознобишин, если я не ошибаюсь? Петр… э-э… Валерьянович?
«Не оши… ошибаетесь…»
– Почему он не отвечает? – спросил князь у тебя, игнорируя возмущенную сестру милосердия за спиной.
– Он отвечает, – сказала ты, еле удерживаясь, чтоб не закричать.
Королю было больно. Пожалуй, никто, даже врачи, давно привыкшие к чужим страданиям, даже фельдшеры, чье ухо огрубело от наихудших криков боли – детских… никто не понимал, насколько ему в действительности плохо.
Никто.
Кроме тебя.
Так спелое на вид яблоко лопается под пальцами, открывая источенную червями, гнилую, дурно пахнущую сердцевину; так под твердой кожурой ореха воняет тленом бывшее ядро.
Король умирал, выбрав отнюдь не самый легкий способ самоубийства.
«Княгинюшка…»
«Зачем?» – одними губами; нет, какими там губами! – сердцем, душой, тайной струной, готовой порваться в любой миг, спросила ты.
– Господин Ознобишин! Вы можете говорить?!
«Зачем? Полгода – ни единого финта, Рашеленька… ни единого! Они Андрюшеньку – булыжниками… Груда камней, груда, и шевелится… долго. А меня, старика, пальцем… пальцем не тронули! Божьи мельницы, дескать! медленно мелют, дескать! даже искать не стали – иди, кто бы ни был! гуляй! на том свете дороже заплатишь!..»
– Господин Ознобишин? Вы слышите меня?
«Н-не… н-не надо… меня арестовывать… Я сейчас… я уже…»
– Он слышит. – Ты тронула Джандиери за предплечье и мельком удивилась: камень, не рука. – Он слышит вас, Шалва. Не надо его арестовывать. Он сейчас умрет, и все закончится.
– Да как вы!.. – замельтешила сестра, гневно поджимая и без того узкие губы. – Кто умрет?! Кто умрет, я вас спрашиваю?! Петр Валерьянович, не слушайте вы их! Сейчас профессор Ленский приедет! За ним послали, на извозчике! Эх, вы! Петр Валерьянович детей! с того света! он – доктор, целитель! А вы!..
«Рашеленька!.. закрой ее, глупышку. Или нельзя?..»
– Можно, – кивнула ты. – Сейчас нам все можно, мой Король.
Под рукой камень стал наливаться свинцом: Джандиери почувствовал твой «эфир», не мог не почувствовать, но тебе было все равно. Полгода – ни единого финта… как же он смог? как выдержал?! И еще: ребенок этот… Уртюмов, внук Ермолая…
Зачем?!
«Низачем, Рашеленька. Просто так. Мальчишечка от пневмонии… только-только… Сумел дотянуться; за уши… Выволок. Оно можно, когда… только-только… Низачем. Пора мне, Княгинюшка».
– Грехи замаливал, Король?
Не хотелось, а спросилось.
Само.
«Дура ты, Княгинюшка. Сумасшедшая дура. Сама ведь знаешь…»
– Знаю, Король. Прости.
Впервые ты самовольно работала в присутствии облавного полковника. Научилась, значит. Впервые и, должно быть, в последний раз. Замолчала, как отрезало, сестра милосердия – завтра и не вспомнит, о чем кричала-гневалась; Джандиери, закованный в броню нечувствительности, просто молчал, не забирая руки, за что ты была ему признательна; а ты работала.
– Так и живем. То платим, то не платим
За все, что получаем от судьбы.
И в рубище безмолвные рабы,
И короли, рабы в парчовом платье —
Так и живем, оглохнув для трубы…
Булыжник лег под ноги: крупный, тесаный.
Стены поднялись вокруг: зубчатые, могучие.
Ворота.
Галерея сверху.
И во дворе замка, на троне из слоновой кости, умирает король-некромант.
Тучами кружат в небе нетопыри, скорбным писком салютуя уходящему, багровый глаз солнца течет слезой, скатываясь в черный проем между башнями; стражники у подъемного моста застыли железными истуканами, подняв алебарды в салюте прощания.
Так, мой Король?
«Спасибо… спасибо, Княгинюшка…»
– Мы не хотим, не можем и не знаем —
Что дальше? что потом? что за углом?
Мы разучились рваться напролом,
Ворчим под нос: «Случается… бывает…» —
И прячем взгляд за дымчатым стеклом…
Череп в медной диадеме страдальчески оскалился, благодаря. Доктор Ознобишин теснее закутался в плащ, в расшитый жемчугом бархат, словно стыдясь тела, предавшего его в такой момент; плоть таяла на суставах пальцев, обнажая кости, кожа истлевала гнилой ветошью.
Смрад забивал тяжкий аромат благовоний.
И еще: брезжил на самой окраине взгляда (присмотрись – исчезнет!) – Белый Рыцарь. Некто; никто. В иссиня-снежной броне; лишь сквозит алым в сочленениях доспеха – ранен? измарался? мерещится?!
Ладно.
Пусть его брезжит.
Да, Король?
«Ты живи, Княгинюшка… живи, ладно?.. На Тузовых сходках… долго спорили. Решили: пусть. Живите. Авось задержитесь… после всех. Ты живи, Княгинюшка… пожалуйста…»
– Хорошо, мой Король. Уходи спокойно.
Бились стяги на ветру: треугольники из вощеной бумаги.
– …Все как один – с иголочки одеты
И даже (что греха таить?) умны.
Мы верим книгам и не верим в сны;
Мы выросли, мы все давно не дети —
А дети ночью чуду шепчут: «Где ты?!»
Ах, дети! непоседы! шалуны…
– Все, – сказала ты, возвращаясь. – Король умер.
– Да здравствует Король? – спросил Джандиери, глядя мимо тебя. И на миг показалось: он все видел. Замок, стены, трон; труп на троне. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда, но синяя жилка трепетала на виске князя, и крупная капля – пот? слеза?! – сползала по щеке к углу рта.
Наверное, все-таки пот.
Душно.
Будто отвечая, небо громыхнуло на востоке. И дробью отозвалась крыша оранжереи. Засуетилась сестричка, кинулась к дверям… вопросительно уставилась на вас из-под навеса…
До нее ли, глупой?
– Что скажешь, Княгиня? Да здравствует Король?
– Нет, Шалва. Просто: Король умер.
* * *
Покинув танцевальную залу, ты спустилась вниз, в холл. В дамскую уборную не пошла. Просто встала у окна, опершись о дубовый, крашенный белилами подоконник. На улице еще только копились по углам сумерки; бал для институток всегда начинался рано, начальница за этим следила строго.
Зря, что ли, императорским указом начальниц института ввели в попечительский совет?
Глупости! Все глупости!.. Ах, дура ты, Рашка…
Швейцар, отставной фельдфебель-гренадер, бочком высунулся из своей каморки. Гулко чихнул, растопырив прокуренные усищи, будто черноморский краб – клешни; устыдился своего чиха.
Спрятался в нору.
В портсигаре оставались три папироски «La jeunesse», тонкие, длинные. Ирония судьбы: «Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»,[7]7
Я хочу сокровища, которое вмещает в себе все, я хочу молодости! (франц.)
[Закрыть] речитатив Фауста. Ты огляделась, комкая мысли ни о чем, как иногда комкают платок – от нервов; и швейцар мигом все понял.
Объявился рядом, поднес огоньку.
– Наливочки-с? – заговорщическим тоном крякнул он, вроде бы ни к кому конкретно не обращаясь. – Смородиновой? Господам облав-юнкерам – ни-ни, мы службу понимаем… для солидных людей, если в расстройстве или там душа просит!.. В особенности – для дамского употребления…
Вместо ответа ты отстранила его. Прошла в швейцарскую каморку, забыв спросить разрешения (о чем ты?! Ах, глупости…), без «эфира», как к себе домой. Говорят, у ветошников тоже бывает такое: интуиция называется. Противная штука; ты только сейчас поняла, Княгиня, по себе – до чего противная.
Вроде протеза у инвалида: не под штаниной, а так, наружу.
В раздолбанной тумбочке нашлась початая бутылка водки; стакан – в меру чистый – стоял здесь же.
– Помянем? – спросила ты, наливая себе до краев.
– Кого-с?
Он был разумен и понятлив, этот швейцар. Дамочка в летах, все при ней, да недолго носить осталось; с двух концов свечку палит. Времени-то у дамочки с гулькин нос – форси, пока хвост есть! Может, любовник кинул или еще что… Решила дурить – значит, лучше подпеть вторым голосом.
Молодец, держи ассигнацию.
И давай-ка выйдем… В холл, на воздух.
– Э-э-э… так кого поминать велите-с?
– Символ. Эпоху.
– Ну что ж, ваша светлость… символ так символ. Царствие ему небесное, новопреставленному! А я, с позволения-с, из горлышка… тут глоточек всего-то…
Водка оказалась совершенно безвкусной.
Вода, не водка.
– А заедок-то и нет, почитай! – огорчился швейцар, опасливо косясь на лестницу: не приведи бог увидит кто из институтского совета!.. ф-фух, тишина… – Колбаску я схарчил уже; да и с чесночком она, колбаска, не про дамские вытребеньки! Простите старика, ваша светлость!.. ситничек есть, корочка…
На лестнице звякнули подковки сапог.
– Эльза Вильгельмовна! Разрешите обратиться!
Пашка Аньянич, лихой портупей-вахмистр, вытянулся во фрунт. Вороная прядь упала на лоб, глядит прямо, чуть насмешливо… это у него скоро пройдет.
Навсегда.
Заметки на полях
Вы никогда не заглядывали в глаза облав-юнкеру, без пяти минут офицеру? В глаза Пашке Аньяничу? Ну что ж, попробуйте:
…статуя.
Почти готова. Звонкие, короткие удары молотка по резцу. Летит каменная крошка, запорашивает глаза. Проморгайтесь – и вот: из куска гранита уже проступил гордый разворот плеч, торс, закованный в ребристую кирасу. Человек словно вырастает из скалы, сбрасывая с себя лишнее, но по-прежнему оставаясь камнем. Одна беда: лицо… Не вяжется это молодое, мечтательное лицо с фигурой Каменного Гостя. Рука у скульптора дрогнула, что ли?
Близится резец: выше, выше…
* * *
За спиной Аньянича прятались две институтки: совсем юные, свежие… Глазенки-то лампадами горят!
– Что вам, Пашенька?
Едва не ляпнула:
«Водки? Так мы со швейцаром допили…»
– Не соблаговолите ли записать за мной вторую кадриль?
Насмешничает?
Вряд ли.
– Пашенька, милый! Мало ли вам девочек?! Они на ваш мундир, на лазурь «Варварскую», как бабочки на огонь – только поманите!
– Эльза Вильгельмовна! Я обещал показать сим девицам, как истинная кадриль танцеваться должна! Без вашего согласия! Умоляю!
– Стара я, Пашенька, кадрили вытанцовывать!.. Ты уж сам…
Молчит.
Ждет.
– Пашенька!.. ну хорошо, хорошо, идите в залу, я скоро…
– Если позволите, Эльза Вильгельмовна, я обожду здесь.
– Милый вы мой мальчик! Знаете, я должна вам…
Стены пошли вприсядку; потолок холла накренился, завертелся безумным волчком. Что с тобой, Княгиня?! – еле удержавшись на ногах, ты ухватилась за перила. «О розы алые! в хрустальных гранях вазы!..» – закричал кто-то в самое ухо; оглушил, испугал.
Опьянела?!
И только в следующую секунду поняла: случилось.
Феденька в Закон выходит.
На собственном опыте ты знала: канун выхода в Закон оба – и крестный, и крестник – чувствуют примерно за сутки. Чтобы было время укрыться от назойливых глаз, лечь на дно; уединиться. Сейчас же творилась околесица: тебе не дали времени! совсем! снег на голову! Еще минута, может быть, две, и ты рухнешь на мраморный пол, раскинешься бесчувственным манекеном – они вызовут врача, станут мельтешить, спасать, подсовывать флаконы с нюхательными солями…
Боже!
Если б еще знать: как ты выглядишь со стороны, когда Закон призывает тебя к себе?
Как?!
– Эльза Вильгельмовна? Вам плохо?
– Ничего… ничего, Пашенька! девочки!.. Вы идите, я сейчас…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































