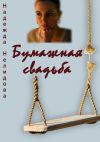Текст книги "Байрон и его произведения"

Автор книги: Георг Брандес
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
II
Сатира эта по праву пользовалась известностью и пользуется еще до сих пор, но не ради её остроумия и юмора, которых напрасно было-бы в ней искать, и не ради меткости её ударов, которые падают мимо, направо и налево, по ради её мощи, чувства собственного достоинства и неслыханной смелости, которые лежали в её основе и проявились здесь во всей своей силе. Нападки критики вызвали в Байроне в первый раз такое чувство, которому суждено было укорениться в его характере, чувство, в котором он впервые узнал самого себя, а именно: я один против вас всех! Это впечатление было для него, как и для других великих исторических борцов, жизненным элексиром: «Меня осмеять безнаказанно! Сметь думать меня уничтожить! Меня, который один сильнее их всех!» Вот что звучало у него в ушах, когда он писал свою сатиру. Эдинбургцы привыкли видеть, когда им удавалось одною из подобных рецензий сбить с ног какого-нибудь дюжинного поэтика, подобно мухе или жалкой подстреленной пташке, как раненый грустил в тиши или малодушно признавался в своем ничтожном даровании, так что за рецензией, во всяком случае, наступало молчание. Но тут они натолкнулись на такого, вся сила и слабость которого в том-то именно и заключалась, что он никогда не приписывал себе вины в неудаче, но обыкновенно усердно сваливал ее на других. Но и на этот раз за рецензией последовало полуторагодичное молчание. Потом произошло то же, что и у Виктора Гюго в его «La caravane» (из «Châtiments»):
Tout it coup nu milieu de ce silence morne
Qui monte et qui s'accroît de moment en moment
S'élève un formidable et long rugissement,
C'est le lion.
И картина верна. Действительно, эта ни чудная, ни грациозная, ни остроумная сатира скорее – рычание, нежели пение. Поэт, обладающий соловьиным голосом, приходит в упоение, слыша впервые трели своего чудного голоса; гадкий утенок замечает свою лебединую природу, когда попадает в свою сферу; но рычание молодого льва приводит его самого в восторг и показывает ему, что он теперь вырос и обладает силой. Поэтому нечего искать в «Английских бардах и шотландских обозревателях» ударов меча, которыми наделяет мощная и верная рука; эти раны наносила не рука, это царапины, сделанные лапой, – но ex ungue leonein! Здесь нечего искать ни критики, ни сдержанности, ни даже здравого смысла; разве раненый зверь знает меру или пощаду, если пуля, которая должна была убить его на-повал, только ранила его? Нет, зверь видит, как льется его кровь перед его глазами, и он хочет в отмщенье также пролить кровь. Он ищет не того только, кто сделал выстрел; если один из толпы охотников ранит молодого льва, тогда горе всей толпе! Все знаменитые английские поэты, наиболее известные и наиболее прославленные, все те, которые стояли на хорошем счету у «Edmbourgh Renew», все писавшие для этого журнала, третируются, как школьники, в этой сатире двадцатилетним юношей, тем именно юношей, который сам еще недавно только сошел со школьной скамьи. Английские поэты и шотландские рецензенты должны были здесь один за другим пройти сквозь строй. Здесь нередко попадают довольно ядовитые словца, которые говорят далеко не на ветер. Натянутая фантастичность поэмы Соути «Талиба» и чрезвычайная плодовитость этого писателя, доводы Вордсворта, доказывающего на своих стихотворениях истину своего положения, что стихи и проза – одно и то-же, нелепое ребячество Кольриджа, прихотливость Мура, – все это подвергается тут самым ядовитым насмешкам. Над «Мармионом» Скотта, напоминавшем инвективы Аристофана против героев Эврипида, одним ударом произнесен окончательный приговор. Но большинство этих нападок все-таки так неразумны и бессмысленны, что они впоследствии причинили самому автору гораздо более неприятностей, чем тем, против кого они были направлены. Опекун Байрона, лорд Карлейль, которому еще так недавно были посвящены «Часы досуга», но которой отказался ввести в парламент своего питомца, люди, как Скотт, Мур, лорд Голланд, которые позднее были лучшими друзьями Байрона, были выруганы здесь беспощадным образом без всякого повода с их стороны, на основании совершенно ложных догадок и без всякого критического такта. Ругань эта могла быть оправдана ими только благодаря той готовности, с которою Байрон, придя к иным взглядам, извинился перед ними и старался загладить последствия своих прежних заблуждений. Он несколько лет сряду напрасно старался изъять из обращения свою сатиру; ему удалось только уничтожить её пятое издание; первые четыре издания этой сатиры имели громадный успех и принесли автору её желанное удовлетворение.
В начале 1809 года Байрон поселился в Лондоне, чтобы отдать в печать свою сатиру и занять принадлежащее ему место в верхней палате. Так как ему не к кому было обратиться, кто бы провел его в парламент, то он сам ввел себя туда, вопреки всем правилам и обычаям. Вот как описывает эту сцену друг Байрона Даллас. Когда он вошел в палату, то был бледнее обыкновенного, и на лице его можно было прочесть выражение недовольства и негодования. Канцлер лорд Эльдон, улыбаясь, встретил его и любезно приветствовал. Холодным поклоном отвечал Байрон на приветствие и слегка пожал руку, протянутую ему Эльдоном. Канцлер, заметив пренебрежение, с каким отнесся к нему Байрон, возвратился на свое место, а Байрон затем небрежно расселся на одной из незанятых скамеек оппозиции. Просидев здесь несколько минут, он встал и удалился, желая показать этим, к какой партии он принадлежит. «Я занял свое место», сказал он Далласу, – «еперь я могу ехать заграницу.» В июне 1809 года он покинул Англию.
Давно уже, как говорится в одном из его писем к матери 1808 года, он чувствовал, «что тот, кто видел только свое: отечество, никогда не будет в состоянии судить о человеке с независимой общей точки зрения»; ибо, говорит он, «познание приобретается из опыта, а не из книг; нет ничего поучительнее познавания предмета чувствами».
Сначала он отправился в Лиссабон, и описание Цинтры в первой песне «Чайльд Гарольда» обязано своим появлением именно этому пребыванию. Затем, он поскакал с своим товарищем, мистером Гобгоузом, в Севилью, а оттуда побывал в Кадиксе и Гибралтаре. Ни один из великолепных и исторических памятников Севильи не произвел на него особенного впечатленья, но здесь, как и в Кадиксе, все его помышления были исключительно заняты женщинами. Он, как юноша, чувствует себя польщенным тем вниманием, которое ему оказывали красавицы-испанки, и из Севильи, как какие-нибудь священные предметы, привозит с собою косу в три фута длиною. Гибралтар, само собою разумеется, как английский город, является для него «проклятым местом». Но насколько мало его интересуют исторические воспоминания, настолько живо начинают занимать теперь политические отношения его страны, и первое, на чем он останавливается, это отношение Испании к Англии. Обе первые песни «Чайльд Гарольда» показывают, какое горькое презрение питал он ко всей тогдашней английской политике; он смеется над так называемой «Мадридской победой», где англичане имели более 5,000 убитыми, не причинив французам никакого существенного вреда, и даже доходит до такой смелости, что называет Наполеона своим героем.
Из Испании он направляется в Мальту и здесь к воспоминаниям старины, которые впоследствии приводили в такой восторг старого больного В. Скотта, он опять остается совершенно равнодушным. Историко-романтический дух так же мало был ему чужд, как и романическое национальное чувство. Его поэтические мысли и чувства стремились не к зеленым лугам Англии, не к туманным горам Шотландии, но к Женевскому озеру, с его вечною прелестью красок, и к греческому архипелагу. Его занимали не исторические деяния его народа, но война между алой и белой розой, но политика настоящего, а в воспоминаниях старины ему дороги были только предания о великих войнах за свободу. Древние статуи были для него простым камнем; живые женщины ему более нравились, нежели античные богини («горшечная работа» называет он их в «Дон-Жуане»), но он погрузился в размышления на Марафонском поле и воспел его в чудных стихах в своих двух героических поэмах. Когда в последние годы своей жизни он посетил Итаку, то на предложение проводника показать ему памятники острова он ответил: «Я терпеть не могу этого антикварного вздора. Неужели люди думают, что у меня нет светлых минут и что я за тем приехал в Грецию, чтобы пачкать бумагу всякой чушью, в которой и так нет недостатка?» Практический пафос перед свободой поглотил в нем, наконец, даже и поэтический жар. С Байроном окончилась романическая сантиментальном, и начался новый дух в поэзии. Потому-то поэзия его влияла не только на его родину, но и на всю Европу, потому-то он навсегда останется певцом для тех, которые принадлежат своему времени.
На Мальте Байрон почувствовал себя сильно увлеченным одною красивою особой, с которой он познакомился там, мистрис Спенсер Смит, которая из каких-то политических причин находилась под опалой Наполеона, и между ними завязалась горячая дружба, оставившая по себе памятник в целом ряде байроновских стихотворений (Чайльд Гарольд, песнь II, стр. 30: К Флорансе. В альбом. Во время бури. В амбрацийском заливе).
Из Мальты через западную Грецию он отправился в Албанию, «непокорную кормилицу диких сынов», как он называет эту страну, о которой пост:
Разве не характеристично для Байрона, что его первое путешествие направлено было именно через те страны, которых вовсе не касалась никакая цивилизация, и где индивидуальность могла развиваться, как ой было угодно, но взирая ни на какие стесняющие понятия о приличии. С этими природными сценами, с этими людьми он находился в свойстве; будучи последователем по прямой линии Руссо, он чувствует себя особенно сильно привязанным ко всем людям, живущим в естественном состоянии[7]7
В одной строфе «Чайльд Гарольда» (III-я песнь, 77-и строфа) Байрон изобразил Руссо; строка эта могла быть отлично перенесена на него самого:
Здесь прах Руссо. Певец страданья,Страстям он прелесть придавилИ доводил до обожаньяВсе муки сердца. Он искалВ безумьи – близость идеала;Все мысли черные, делаБлестящим светом заливалаЕго софизмов похвала.Они мгновенно ослепляли,Как блеск от солнечных лучей,Так, что нередко из очейПотоком слезы выбегали,И переполненная грудьВ слезах хотела отдохнуть,(Пер. Д. Минаева).
[Закрыть]. Албанцы и по сию пору еще так же дики, как их предки пелазги; кулачное право и кровавая месть еще и теперь являются у них единственным правовым порядком.
Мужчины и женщины, стоявшие на берегу в своих великолепных одеяниях, в поярковых шляпах или тюрбанах. в сопровождении чернокожих рабов, богато убранные кони, барабанная дробь призыва муэдзина с минарета, заходящее солнце, освещавшее своими лучами всю эту картину, все это, казалось, было зрелищем из «Тысячи и одной ночи». Янина показалась гораздо более красивым городом, нежели Афины. Туристы близ этого города зачастую теряют своих проводников в том беспросветном мраке, который воспел Байрон, и тут, среди гор, имея впереди голодную смерть, он произвол на своих спутников довольно сильное впечатление своим непоколебимым мужеством, которое во всех опасностях составляло его главную характеристическую черту.
В самый день своего прибытия, Байрон был представлен Али-паше, турецкому Бонапарту, которому он всегда дивился, не смотря на его свирепый и дикий характер. Али принял его стоя, был крайне любезен, просил передать свой поклон его матери и сказал, что особенно польстило Байрону, что по его маленьким ушам, белым рукам и кудрявым волосам он узнает его аристократическое происхождение. Посещение Али-паши послужило поводом для изображения нескольких прелестных сцен в четвертой песне «Дон Жуана»; Ламбро и многие другие байроновские образы срисованы с него, которого, между прочим, впоследствии, изобразил и Виктор Гюго в своих «Orientales». Али обходился с Байроном, как с избалованным ребенком, и посылал ему на дню раз двадцать то миндалю, то фруктов, то шербету, то еще каких-нибудь лакомств.
Снабженный пашою вооруженными проводниками на случай нападения разбойников, которые там бродили целыми шайками, Байрон путешествовал теперь безопасно по всей Албании, и его дикие спутники до того привязались к нему, что, когда он через несколько дней захворал лихорадкой, грозили доктору смертью, если он не вылечит; вследствие этого, доктор бежал, а Байрон поправился сам собою. Во время этого путешествия, Байрону пришлось переночевать в пещере на берегу Артского залива, где он случайно сделался свидетелем ночной сцены, – танца мечей под пение албанских песен, – сцены, доставившей материал для известного описания этой пляски в «Чайльд Гарольде» (Песнь II, начиная с 67 строфы) и прекрасной песни «Tamburgi, Tamburgi!»[8]8
В русс. переводе Д. Минаева «Барабаны! ваш грохот сзывает… (Изд. Гербеля).
[Закрыть]. В Афинах досада на англичан, разграбивших из Партонона скульптурные произведения, послужила поводом для его стихотворения «Проклятие Минервы», а интрижка, которую он завел там же с дочерью английского консула Макри, – для небольшой песенки «Афинской девушке», героиня которой, много лет спустя, уже сделавшаяся толстой матроной, была постоянным предметом любопытства для английских туристов. 3-го мая Байрон совершил свой известный подвиг: он переплыл Дарданельский пролив. Этим подвигом Байрон гордился всю свою жизнь. Он упоминает о нем, между прочим, и в «Дон Жуане». Все, что ему пришлось видеть и переживать во время своих путешествий по чужим краям, все это впоследствии послужило ему поэтическим материалом. Раз в Константинополе он увидал, как собаки средь бела дня обгладывали труп, и эта им самим пережитая сцена дала повод к изображению ужасов в «Осаде Коринфа» и затем к изображению в «Дон-Жуане» тех ужасных сцен, которыми сопровождалась осада Измаила. А когда он возвращался чрез Морею в Афины, то, как кажется, сам испытал то любовное приключение, которое лежит в основе его «Гяура» (письмо маркизы Слиго упоминает об этом). Во всяком случае, нет никакого сомнения, что он однажды, идя домой с купанья в Пирее, натолкнулся на толпу турецких солдат, которые несли зашитую в мешок молодую девушку, намереваясь ее утопить в море за её любовную связь с христианином. С пистолетом в руке Байрон заставил дикую орду вернуться назад и частью подкупом, частью угрозами добился освобождения девушки.
Но вся эта пестрая скитальческая жизнь не могла дать его душе необходимого для неё удовлетворения. В его последних путевых письмах слышится глубокая грусть. Бесцельность этих путешествий и, вследствие этого, пресыщение жизнью, по-видимому, крайне тяжелым гнетом ложились на его душу. Сверх того, беспокойство о долгах, мысли о пошатнувшемся здоровья, расстроенном частыми лихорадками, и о неимении настоящих друзей, не давали ему ни на минуту покоя. Дома он ждет только приветствий от кредиторов. Тут он получает еще известие о болезни матери. Он спешит в Ньюстед, чтобы увидать ее еще раз, но приезжает уже на другой день после её смерти. Горничная, увидавшая, как он однажды сидел над трупом и плакал горькими слезами, попробовала было уговорить его не предаваться так горю, но Байрон отвечал ой сквозь слезы: «Был у меня один только друг, и тот вот теперь умер». И все таки он, но желая выказать своего горя пород посторонними, но в силах был преодолеть своей чрезмерной нелюдимости, и отказался проводить свою мать до могилы, а остался стоять у ворот замка, пока похоронная процессия не скрылась из глаз. Затем, он позвал своего пажа, велел принести свою фехтовальную перчатку и принялся с судорожною яростью за свои обычные упражнения. Но горе взяло свое: он бросил перчатку и заперся в своей комнате. Тут с ним сделался припадок меланхолии, во время которого он прибавил в завещании, чтобы его похоронили рядом с его собакой.
Едва вернулся Байрон в Англию, как друг его Даллас обратился к нему с вопросом, не привез-ли он с собой из путешествия каких-нибудь стихов. Поэт, бывший в то же время плохим критиком, не без гордости указал на «Hints from Horace», новую сатиру в стиле Попа, и, когда друг, по справедливости, не особенно удовлетворенный после прочтения её, спросил его, нет-ли у него чего-нибудь другого, Байрон дал ему, как он выразился, «несколько небольших стихотворений и массу спенсеровских стансов», – это были две первые песни «Чайльд Гарольда». По настоятельной просьбе друга, они были впервые отданы в начать.
Для людей нашего времени впечатление этих двух песен легко сливается с воспоминанием о двух последних песнях, написанных шесть-семь лет позднее тех. Однако следует строго различать эти два впечатления, если хотим вполне отчетливо уяснить себе ход развития байроновского творчества. От первой половины «Чайльд Гарольда» ко второй такой-же резкий переход, как от этой последней к «Дон-Жуану». Стансы, которые показывал Байрон Далласу, написаны очень звучным стихом, глубоко прочувствованы и нередко торжественны; здесь впервые раздаются пение и музыка из тех уст, из которых лилось множество дивных звуков до той норы, пока они сохраняли дыхание. Но здесь пред нами еще только слабый очерк физиономии того поэта, который спустя лет десять сделался известен по всей Европе. Многочисленные и могучия картины природы являются здесь главным предметом, лирические места в сравнении с ними совсем незначительны. Поверхностному взгляду читателя песни эти могут показаться путевыми впечатлениями молодого, знатного и утомленного жизнью англичанина, облагороженными лишь, благодаря строго идеальному, высоко-художественному слогу, так как «Чайльд Гарольд» столько-же идеальное произведение, сколько «Дон-Жуан» реальное. Здесь мы встречаемся с настроением, которое все покрывает одним мрачным колоритом. Но Байрон здесь еще не поэт, переходящий от одного чувства к другому, чаще всего в противоположную крайность, чтобы всем ил придать особую силу, и чем сильнее напряжены эти чувства, тем с большею яростью разрывает он их. Но если мы взглянем на поэта только с одной стороны, в профиль, и забудем язвительную иронию сатирика, забудем его то цинический, то шутливый смех, – перед нами здесь выступит, в пламенном и торжественном пафосе юноши, великое я поэзии нашего века. В этой поэме господствует та субъективность, которая проникает собою все, преобладает, – то я, которого не в силах подавить никакое чувство, которому не чуждо ни одно изображаемое им лицо. В то время, как личность всякого другого поэта могла-бы видоизмениться в воздушную, подвижную или кристаллизированную форму, в то время, как иная личность могла-бы или стушеваться здесь за другою личностью, или-же исчезнуть совершенно в чувственных впечатлениях, охватывавших ее извне, – здесь мы наталкиваемся на то я, которое всегда и везде относится и возвращается к самому себе, на то живое, страстное я, о душевных волнениях которого свидетельствует своего жизненностью даже самая незначительная строфа, подобно тому, как шум отдельной раковины напоминает шум целого моря. Чайльд Гарольд (первоначально Чайльд Бурун), после дико и бурно проведенной молодости, с сердцем, разбитым сплином, покидает свою родину, где не оставляет ни друга, ни возлюбленной. Он испытывает уже томление жизнью, преждевременное пресыщение наслаждениями; он чувствует, что физический организм располагает его к меланхолии. В нем и следа не осталось беззаветной юношеской веселости, в нем нет уже прежней жажды ни славы, ни удовольствий, он думает, что он уже покончил со всем этим, хотя ему пришлось еще очень мало испытать, и поэт до такой степени полно сливается с своим героем, что никогда даже ни на одну минуту не относится к нему иронически. Все то, что производило такое импонирующее действие на его современников, далеко не соответствует вкусу новейшего более трезвого читателя, ибо трагическая «поза» чересчур резко бросается в глаза, да и время, когда разочарованность могла быть интересна, давным-давно миновало. Но, с другой стороны, всякий опытный глаз легко заметит, что если осторожно удалить маску, – а она здесь, несомненно, есть, – то из-за этой маски выглянет серьезное, мученическое лицо. Эта маска была маска отшельника; снимите ее, и вы увидите за нею истинное одиночество! Эта маска была трагическая меланхолия; сорвите ее, и вы увидите за нею неподдельную грусть! Паломнический плащ Гарольда, во всяком случае – только маскарадное домино, но он скрывает под собою юношу с пламенным чувством, острым умом, юношу, вынесшего из жизни одни разочарования и всею душою стремящагося к полнейшей свободе. В идеальном и Чайльд Гарольда нет ничего неточного: за все его чувства и мысли отвечает сам Байрон. И если кто-нибудь, знакомый с настоящим образом жизни Байрона, в его последующие годы, обратит внимание на контраст между старческою тоскою вымышленной личности и юношеским пылким наслаждением действительной личности, то все это разногласие объясняется единственно тем, что Байрон, твердо державшийся еще вь поэзии абстрактно-идеалистического направления, но мог, в первых песнях «Чайльд Гарольда», выказать всего своего существа. Конечно, и это произведение является до некоторой степени зеркалом его характера, но в нем живет еще совершенно иной мир, который он мог вполне изобразить и воплотить только в «Дон Жуане» и других своих поэтических произведениях. Не следует поэтому неполноту самоизображения объяснять притворством или аффектацией.
В феврале 1812 года Байрон произнес свою первую речь в парламенте в пользу бедных ноттингэмских рабочих, переломавших ткацкия машины, которые оставили их без куска хлеба; он хотел отстоять тех, которых намерены были покарать самым строжайшим образом. Речь эта не особенно серьезна и отличается риторикою, но за то жива и тепла. Байрон с любовью говорил за голодающую, доведенную до крайности массу и весьма последовательно доказывал своим согражданам, что десятой доли тех денег, которые они так охотно ссудили португальцам для ведения войны, было-бы вполне достаточно, чтобы устранить ту страшную нужду, против которой теперь хотят идти с темницами и виселицами. Живая и упорная ненависть Байрона против войны – это один из тех многих «гранов здравого человеческого смысла», которые можно постоянно найти в растворе в его поэзии. Она же одухотворяет и первые песни «Чайльд Гарольда». Его вторая речь касается эмансипации католиков; она менее понравилась публике, чем первая, но, на самом деле, была несравненно превосходнее её.
Первая речь Байрона была как нельзя более кстати, так как могла теперь одновременно служить рекламою для двух первых песен «Чайльд Гарольда», появившихся в свет два дня спустя после произнесения её. Успех поэмы был чрезвычайный: сразу Байрон сделался знаменитостью, новым львом Лондона, законным владыкою города на 1812 год. Вся аристократия Лондона, т. е. все, что было в нем красивого, знатного, высокообразованного и блестящего, все это лежало у ног двадцатитрехлетнего юноши. Если бы первые песни «Чайльд Гарольда» обладали достоинствами последних, т. е. если бы они отличались глубокою оригинальностью и благородною энергиею, одушевляющими обе последние песни «Чайльд Гарольда», то, весьма вероятно, они не достигли-бы такой громкой известности. Истинное благородство и истинная оригинальность никогда не приобретают сразу расположения массы. Но именно эта полускрытая интересность, эта неясная разочарованность в первых опытах гениального поэта и имели такое сильное действие на массу: энергия, проглядывавшая там и сям в поэме, производила тем большее впечатление, что высказывалась несколько театрально. Это была цветущая пора дендизма, когда с легкой руки известного Бруммеля настоящая лондонская high life дошла до такой роскоши и ветренности, каких не видали со времен Карла II. Визиты, балы, театры, игра, долги, любовные интриги и следовавшие за ними дуэли, – вот что составляло содержание жизни тогдашней аристократии. И Байрон был героем дня и даже целого года. Сколько удивления и поклонения мог он вызвать в том обществе, которое скучало и томилось от собственной своей пустоты! Так молод, так красив и так порочен! Все были вполне убеждены, что он сам был таким именно mauvais sujet, как его герой.
Ко всякого рода искушениям и лести Байрон не относился с таким хладнокровием и спокойствием, как Вальтер-Скотт. Он плыл вместе с течением, уносившим его. Как художнику, ему страстно хотелось пережить все треволнения, и он ни одного не прогонял от себя прочь. Он легко удержал на должной высоте свою поэтическую славу, потому что в короткий промежуток вслед за «Чайльд Гарольдом» последовали поэтические рассказы: «Гяур» (май, 1813). «Абидосская невеста» (декабрь, того-же года), «Корсар» (окончена на новый год 1814), который в один день разошелся в 13,000 экземплярах. Полная горечи «Ода к Наполеону», по случаю его отречения, доказывает, что Байрон за занятиями поэзией не терял из виду и политики. Затем, в 1815 году он написал «Паризину» и «Осаду Коринфа». Новизна, своеобразность и беспримерная страстность этих произведений привлекли к ним внимание изнывавшего от скуки лондонского общества. Он стал феноменом, с которого не сводили глаз. Молодые женщины трепетали от восторга при одной мысли, что он их, может быть, поведет к столу, и не осмеливались прикоснуться ни к единому блюду, зная, что он не любит видеть, когда женщины едят. Они с благоговением отдавались надежде, что он напишет той или другой несколько строк на память в альбом. На каждую его строчку смотрели, как на сокровище. К нему постоянно приставали с вопросами, сколько гречанок и турчанок уморил он своею любовью и скольких супругов отправил на тот свет. Вся его наружность как будто говорила о его глубокой преступности. Он не употреблял пудры и его волосы были так же растрепаны, как и его чувства. Совершенно непохожий на обыкновенных смертных, он, подобно своему «Корсару», был крайне воздержан в пище. Как-то раз, обедая у одного лорда, он пропустил мимо себя одиннадцать блюд и потребовал себе только бисквит и содовой воды. Какая обида для хозяйки, которая употребила столько хлопот на приготовление обеда, и какая безтактность в обществе, где хороший аппетит считается национальною добродетелью!..
Таким образом, мы видим, как Чайльд Гарольд превращается в дом Жуана. Одинокий скиталец становится теперь салонным львом. Такое же сильное впечатление, как поэзия Байрона, производили в дамских кружках, конечно, и его высокое положение, его молодость и его редкая красота. В биографии Вальтер Скотта встречается следующая заметка о наружности Байрона: «Мне случалось на своем веку видеть многих лучших поэтов моей страны, и хотя у Бориса были чрезвычайно прекрасные глаза, однако никто не обладал в такой степени истинно-поэтическою наружностью, как Байров. Портреты его дают неправильное представление о нем; правда, и в них виден огонь, но огонь этот не горит. Лицо-же Байрона заключало в себе нечто такое, о чем можно только мечтать». Известно, что одна из первейших английских красавиц, в первый раз увидавши Байрона, воскликнула: «Это бледное лицо решит мою судьбу!» Женщины тщательно старались проникнуть во внутреннюю жизнь Байрона, а некоторые намеки в «Чайльд Гарольде» послужили поводом к молве, будто Байрон в Ньюстеде содержал настоящий гарем, хотя этот гарем на самом деле, надо думать, состоял всего из единственной одалиски. О его любовных приключениях во время путешествия ходила масса самых нелепых рассказов. Вследствие этого, женщины буквально брали его с бою; на его столе ежедневно появлялось множество писем от знакомых и незнакомых ему дам. Одна даже явилась к нему в одежде пажа, очень вероятно, желая походить на Каледа в «Ларе». Чтобы понять должным образом, в каком водовороте страстей приходилось ему жить, нужно припомнить его рассказ Медвину о том, как он однажды после своей свадьбы застал в квартире своей жены трех замужних женщин, «которыя», выражаясь его собственным языком, «знакомы были ему все, как одного поля ягода».
Эта жизнь, полная пустых наслаждений, была торжеством для его тщеславия, но для Байрона она была все-таки лучше покоя, потому что покой, как выражается он в «Чайльд Гарольде», это – ад для сильных душ. Не играло ли тут какую-нибудь роль его сердце? Не думаю. Любовные интриги, занимавшие в этом году Байрона и получившие некоторое значение в его позднейшей судьбе, были, как нам показывают его письма того времени, водоворотом в водовороте и, интересные сами по себе, они оставляли в совершенном покое его сердце. Лэди Каролина Лэмб, молодая женщина из высшего аристократического круга, впоследствии супруга известного государственного человека, лорда Мельборна, давно имела весьма страстное желание познакомиться с поэтом «Чайльд Гарольда». Это была взбалмошная, мечтательная, беспокойная натура, не выносившая никаких принуждений и следовавшая, без всяких рассуждений, своим первым влечениям; в этом отношении, она была в некотором духовном родстве с поэтом, который был на три года моложе её. Она была стройная и красивая блондинка с весьма приятным голосом. Все её существо, не смотря на аффектацию и эксцентричность, обладало довольно сильною притягательною силой. Она играла в жизни Байрона точно такую-же роль, как г-жа Кальб в жизни Шиллера. Её отношения к поэту настолько обратили на себя внимание общества, что мать молодой дамы не могла быть спокойна, пока они не прекратились с отъездом последней в Ирландию. Тогда Байрон написал лэди Лэмб прощальное письмо, с которого она впоследствии дала копию лэди Морган, письмо, которое крайне типично для слога Байрона в ранний период его поэтической деятельности, по в котором вряд ли психолог отыщет какие-нибудь следы языка любви. Оно очень походит на пародию гамлетовской записки к Офелии: «Если слезы, которые ты видела и на которые, как тебе известно, я не особенно щедр; если душевное волнение, с каким я прощался с тобою, – душевное волнение, которого ты не могла не заметить в продолжение всего этого потрясающего нервы события, хотя оно вполне ясно обнаружилось только, когда наступила последняя минута разлуки; если все, что я говорил и делал, и все, что готов еще сказать и сделать, если все это не достаточно доказало тебе, каковы мои действительные чувства к тебе, моя дорогая, и какими они останутся на все будущее время, то у меня нет более никаких других доказательств… Естьли что-нибудь такого на земле или на небе, что могло-бы меня так осчастливить, как твое согласие на брак со мною? Ты ведь знаешь, что я с радостью отдал-бы все сокровища и по ту, и по сю сторону могилы, и если я еще не раз повторю тебе все это, ужели и тогда я буду нспопятен? Для меня нисколько не важно, узнает-ли кто это и какое он сделает из этого употребление; слова эти относятся к тебе и к тебе только одной. Я был твоим и остался им до сих пор, никем и ничем не связанный, чтобы тебе угождать, почитать и любить тебя и вместе с тобою бежать, когда, куда и как бы ты ни захотела или приказала». Поэтому никто ни мало не удивился, когда через несколько месяцев сделалось известно, что он порвал с ней всякия связи. Его любовь была лишь рефлективною любовью, которая подобно зеркалу подражает всем колебаниям пламени, но не в силах произвести огонь. На одном балу, несколько времени спустя, лэди Лэмб случайно встретилась с Байроном. Эта встреча так сильно на нее подействовала, что она в отчаянии схватила первое попавшееся под руку острое орудие, – одни говорят ножницы, другие (Galt) разбитый стакан от желе, и поранила себе горло. После этой неудавшейся попытки самоубийства, она (по уверению графини Гвиччиоли Guiccioli) сначала обратилась с просьбою к молодому лорду вызвать Байрона на дуэль и убить его, «делая ему за это невероятнейшие обещания», но вскоре сама явилась к Байрону «отнюдь только не затем, чтобы перерезать себе или ему горло». Записка, которую она ему оставила у него на столе, не застав его дома, послужила поводом для эпиграммы Байрона «Remember theel», помещенной в его сочинениях. Пылая мщением, лэди Лэмб взялась теперь за перо и написала роман «Глепарвон», который появился в самое неблагоприятное для Байрона время, именно вскоре после его размолвки с женой, и произвел большое впечатление в умах его противников, Роман имел в эпиграфе слова из «Корсара»:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!