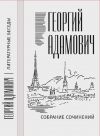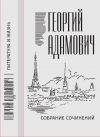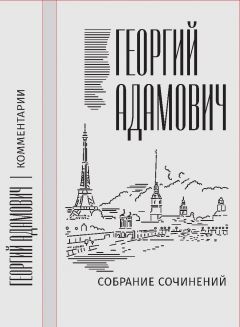
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
У него, у Достоевского, были свои причины быть больным. У его теперешних поклонников – причины совсем другие. Но в состоянии обнаружилось соответствие и нашлись черты если и не вполне одинаковые, то сходящиеся, одна за другую цепляющиеся, и это-то и вызвало страстное, исключительное влечение. Осуждать нечего и некого, но и разделять всеобщие восторги не обязательно. Достоевский ответственен за очень многое в современных литературных и художественных настроениях, – не виноват, а именно ответственен, – и, право, если хочется сказать «ответственен за порчу вкуса», то не в том значении слова «вкус», которое подразумевает любовь к изящным картинам и звучным стихам. Он ответственен за показную, непроверенную тревогу, возникшую в подражание ему, за опрометчивость в основных положениях, за новизну «во что бы то ни стало», провозглашенную, увы, Бодлером, но которую он, Достоевский, всеми своими открытиями и догадками, сам о том не думая, утвердил, ответственен за уверенность, что все, что угодно, можно вообразить и изобразить, раз мир все равно с каждым годом все больше уподобляется сумасшедшему дому. Короче, за коренную беззаконность тех или иных положений, за безумное метафизическое «все позволено», которое, раз прорвавшись, не скоро и не легко будет загнано обратно.
Достоевский, будто весь вытянувшись, глотнул воздуха, которым до него никто не дышал, и, собственно говоря, главный, даже единственно важный вопрос сводится к тому, был ли его опыт трагически-никчемным экспериментом, с неизбежным финалом у разбитого корыта, или действительно был обогащением, расширением горизонта. Было прозрение или был бред?
Вопрос риторический, если отнести его к тем людям, которые теперь распоряжаются наследием Достоевского как своим неотъемлемым достоянием. Никаких нет просветов из нашей жизни в иную, крышка захлопнута плотно, окончательно, нравится нам это или нет! Достоевский-то сам, может быть, и в силах был в своей разреженной атмосфере жить, но у них, у его последователей, закружилась голова, только и всего, и принялись они болтать лишнее, высокомерно поглядывая на тех, кто остался в стороне. Им-то что, им море по колено, и миражами своими они восхищены – до тех пор, пока не настанет утро, рассвет и все опять водворится на свои прежние места. Скучные, бедные места, пусть и в скучном, бедном, плоском мире! Но других нет, и не стоит обольщаться, чтоб в конце концов опять стукнуться головой о крышку.
Все это должно было когда-нибудь обнаружиться. Достоевский заплатит, вероятно, за свое теперешнее влияние и славу долгим, на некоторое время даже преувеличенным помрачением, не той умеренной, почтительной переоценкой, которая постигла Тургенева, а озлобленной, несправедливой, вроде как после выхода из ловушки. Кстати, Толстой, не любивший ни того, ни другого, сказал: «Тургенев переживет Достоевского» (у Бирюкова). Что это значит? Не мог же он не сознавать, что все-таки во всех отношениях Достоевский больше Тургенева, даже и как художник. По-видимому, Толстой о чем-то подобном и думал, и, сопоставляя сравнительно-скромную и однообразную кухню с другой, роскошной, но сильно приперченной, оказал доверие первой.
XXXVII
«Проблемы…»
Если говорить о «проблемах», то, разумеется, Достоевский неизмеримо щедрее и занимательнее Толстого. Да и кто же не знает, что задетыми или поднятыми им вопросами живет добрая половина новейшей западной литературы?
Но «проблемы» по существу призрачны, условны, и требуют несколько суетливого участия в современной умственной путанице, без чего исчезают. «Проблемы»
требуют аппетита к этой путанице. Конечно, бессовестно было бы со стороны любого из нас притворяться многомудрым пустынником, для которого ничего, кроме вечности, не имеет значения, и уж лучше на крайность окончательно в «проблемах» увязнуть, чем ломать комедию. Но Толстой-то комедии не ломал, и для него действительно «проблем», во множественном числе, не существовало. Он о них, вероятно, и не думал, а может быть, по складу его огромного, но малоподвижного, плохо дробившегося ума, они и не были ему доступны. Для «проблем» нужно проникать в щели, а глыба в щели не пройдет… Как бы то ни было, Толстой был на том духовном уровне, при котором «проблем» не еще нет, а уже нет.
Когда-то в Петербурге, еще до революции, Вячеслав Иванов в прениях по чьему-то докладу сказал фразу, поразившую меня и запомнившуюся (и какой он был мастер окутывать всякую, даже заурядную свою мысль волшебными туманами!): «В природе нет алгебры, ее выдумал человек…» Не совсем верно, если вдуматься. В строении природы алгебра есть, но она от человека скрыта, и человек ее не выдумал, а обнаружил. «Проблемы» тоже не выдуманы, но в стихиях действительно их нет: возникают они скорее в истории. Основное же отличие Достоевского от Толстого именно в том, что у одного был слух и чутье к истории при более чем натянутых отношениях с природой, а другой только в природе, то есть в стихиях, и жил, посматривая на историю хмурым, рассеянным и недоверчивым взглядом.
История движется, дробится, стирает в порошок человеческие судьбы и в ходе своем не может не оставлять за собой тысячи недоумений и загадок. Достоевский опередил свою эпоху, уловив, подхватив все, что она несла или только обещала, и наполнил свои романы намеками, отражениями, возражениями, утверждениями, развитием, искажениями ее сложнейшего идейного содержания. Читая «Бесы», например, мы невольно переносимся к тому, что происходит сейчас, и спрашиваем себя, верно ли оказалось пророчество. А иногда современность, «актуальность» Достоевского сказывается и в менее отчетливом виде, доходя до едва различаемых оттенков в воззрениях и суждениях. Ницше признавался, что научился у Достоевского большему, чем у кого бы то ни было, а от
Ницше до, скажем, Сартра заимствования продолжались непрерывно, порой безотчетно, порой сознательно, но всегда с такой наглядностью в преемственности, что без Достоевского, кажется, иные авторы и появиться на свет не могли бы.
Достоевский необычайно «интересный» писатель, и есть какое-то странное – и стоящее того, чтобы над ним задуматься! – соответствие между полицейски-авантюрной занятностью его фабул и тревожным, дразнящим изобилием затронутых им «проблем». У одних дух захватывает от любопытства, кто убил старика Карамазова, или сознается ли Раскольников, у других от того, можно ли вернуть билет на право входа в жизнь, или что именно символизируется баней с пауками, но глаза горят, книга зачитывается «до дыр», ночь проходит без сна. Конечно, и над «Анной Карениной» ночь порой проходит без сна. Но едва ли с тем же голым любопытством, едва ли с волнением, вызванным какой-либо особенно животрепещущей «проблемой». Ален, большой французский философ, тончайший аналитический ум, и притом страстный почитатель Толстого, сказал о его мыслях: «…ces robustes pensées de l’âge de fer»… И совершенно верно: железный, даже каменный век! В природе нет «проблем», нет личности, свободы, большевизма, всеобщей ответственности, государственной необходимости, европейской культуры, «страны святых чудес» и прочего и прочего, а два-три вечных, как сама природа, вопроса не поддаются ни развитию, ни разработке, и притом все-таки несут в себе всю мировую поэзию, все искусство от первого дня до последнего. Неизвестность остается точно такой же, какой была тысячи лет тому назад и какой будет через другие тысячи лет. В промежутке можно, разумеется, заниматься «проблемами», и даже не только можно, но и необходимо, – поскольку человек в истории живет, от нее страдает и с ней связывает свои надежды. Еще раз скажу: нелепо и бесчестно для среднего человека пофыркивать на историю, бежать от нее и от ее неурядиц, прикрывая бегство мнимой преданностью мнимым высшим, «единым на потребу», интересам. Но когда раз в столетье является человек, естественно обращенный лишь к «самому важному», – нельзя и не почувствовать своего перед ним ничтожества.
(Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским. Дурное слово, не само по себе дурное, а будто развращенное дурным и часто никчемным употреблением! Один видный философ-богослов читал несколько лет тому назад в Париже публичную лекцию, озаглавленную «Проблема рая»! Ну как после этого не почувствовать к «проблемам» отвращения!)
XXXVIII
В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе – только эпизод.
Но революция, война – тоже эпизоды… И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии теперь сказать того, что сказал бы он – о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории… Есть, правда, сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель, у которого чутья больше, чем дарования, – Ремарк в «Триумфальной арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул по ней, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?
Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который поговорил бы на эту тему с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать все случившееся раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников, он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то все же осталось бы утешение, что хоть кто-то попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века!
Ну, да, человек бывает в положении, когда он никому не нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, все прочее, дивная наша музыка, для того ли… ловлю себя на желании перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом своем шлеме» и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцем пиджачке»… для того ли, чтобы придти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад вспыхнул духовный пожар, чтобы при последних его догорающих угольках невозмутимо связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И притом с передержками, с недомолвками и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме? Ну, да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-то довзойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что все-таки нет масс как неделимого целого, а есть миллионы отдельных воль, стремлений и страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ большинства, силы, молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч?.. Я только начинаю бередить тему, и уже, как бирюльки, вопрос тянется за вопросом.
Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил среди декораций и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще державшихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что рассказать остальному миру. Но еще раз, еще раз, еще раз, как жаль, что нет Достоевского! История ошиблась, поторопившись выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он один нашел бы в наши дни вдохновенье для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.
Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами. Но корень советской вражды к Достоевскому несомненно глубже. Из реакционера сделать передового, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить – Гоголя к юбилею там препарировали так, что от его реакционности, да и от всех его мучений и сомнений, не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот беспокойный, взрывчатый его склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, – по-моему, самое проницательное, что о Достоевском вообще было сказано, – «в нем есть что-то еврейское», – вспоминается сразу, как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени, были и остаются эмиграцией человечества с теми же темами, теми же обидами и укорами.
XXXIX
Мережковский: «Они нас ненавидят, и они нас боятся».
Они – это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждает, что ему давно уже приходится сталкиваться с глухой неприязнью к России, и что отношение это вовсе не ново и выходит далеко за пределы теперешней политики. По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», притворно ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.
Действительно, неприязни ко всему русскому на Западе много. В частности, через все пренебрежительные оценки, через отрицательные рассуждения о России проходит одна мысль: Россия ничего оригинального не создала, она все заимствовала у других. Это было одним из основных доводов Чаадаева, об этом писал маркиз де Кюстин в книге, возведенной теперь в «пророческие» и где при несомненном уме и остроте взгляда есть и изрядная доля невежества, лжи и вздора. А с тех пор это повторяется на все лады. Даже Тургенев в «Дыме», раздраженный слепым и наивным русским мессианизмом, несколько опрометчиво присоединился к общему хору. В России будто бы нет ничего, полностью ей принадлежащего, кроме варварства, рабства, тьмы и в лучшем случае какой-то нигилистической жажды все стереть с лица земли ради неясных будущих свершений.
Не будем сейчас спорить «по существу». Согласимся, что действительно русская цивилизация в последние два века была кое в чем слепком с цивилизации европейской… Но она-то сама, эта новая европейская культура, полностью ли она самостоятельна и оригинальна? Все то, чем она живет, ею ли единственно и создано? В вопросе этом нет никакого злорадства, нет и тени полемической запальчивости. Наоборот, Европа была и остается для нас «страной святых чудес», тысячу раз я готов повторить это, но, с совершенной искренностью кланяясь ей, храня в сердце бесконечную ей благодарность, позволительно вспомнить все-таки, что и ей самой есть кого благодарить за уроки. Весь смысл культуры – в преемственности, в отказе от национальных «авторских прав», и нельзя, не сойдя с ума, требовать в этой области оригинальности во что бы то ни стало. Новая Европа ничуть не теряет своей «святости» от сознания, что она не только творила, а и перерабатывала. Пусть же и за нами признает она право на переработку.
В нашем мире было только два подлинных, несомненных первоисточника – Афины и Иерусалим, да еще, пожалуй, – но в меньшей все-таки степени, на более низком уровне, – Рим, откуда человечество взяло государственные и правовые идеи. Бесспорно, и английская, и французская, и итальянская культуры внесли что-то свое, неотъемлемое в общее достояние. Англии мир обязан высоким понятием гражданственности, истинного народовластия, – но даже и это, казалось бы столь характерно-британское по духу, британски-горделивое по складу, могло ли бы оно возникнуть без того, чтобы римские и палестинские веяния, скрестившись и смешавшись, не принесли плодов? А Франция? «Париж – новые Афины», – как с видимым и понятным удовлетворением говорят сами французы. Действительно, это новые Афины, откуда в течение нескольких веков струился свет на весь остальной Запад. Но ведь те-то, настоящие Афины, маленький город на пыльных раскаленных скалах, чудо истории, никаких сравнений в памяти не вызывали? Ренан ездил молиться на ступенях Акрополя и был прав: если у него был Бог, то именно тот, который там впервые людям открылся. Паскаль, конечно, поехал бы молиться в другой город, дальше, на Восток, но и он чувствовал, что его «дом», его истинная «родина» – вне той земли, где приходится ему жить. В Британском музее хранятся обломки мраморов, когда-то украшавших Парфенон; на них поистине «без волнения смотреть невозможно», и вовсе не потому, чтобы они действительно казались так исключительно прекрасны, – в этом разбирается один человек из тысячи! – а потому, что они «оттуда», что их видел Платон, видел Софокл… Все европейское пришло «оттуда», осложнившись в течение веков иными, христианскими мотивами. «Фаустовское», по Шпенглеру, томление о бесконечности – от христианства. Нет в новой европейской культуре ни одной великой книги, ни одного сколько-нибудь значительного явления без этой двоящейся родословной, и, следовательно, оригинальность этой культуры все-таки условна, и в процессе ее ковки были переплавлены иные, не ей принадлежащие руды… Конечно, у нас, русских, все это было проделано слишком торопливо, и даже с каким-то механическим привкусом, что и вызвало нескончаемый, неразрешимый славянофильско-западнический спор. Конечно, мы многое получили в готовом виде, из вторых рук. Конечно, были мы не столько наследниками, сколько учениками. Но если бы древний римлянин взглянул на то, что сделали потомки презираемых им готов и галлов, он, пожалуй, тоже обвинил бы их в обезьянничаньи – и при этом тоже ошибся бы. В культуре почти все, что кажется подражанием, есть продолжение, обработка, усвоение общих сокровищ, а сказать, что Россия ничего в этом смысле не сделала, может только тот, кто склонен заведомо называть белое черным! Нас попрекают Византией, вернее, византийством, темным, формальным, лукавым византийским духом, – но неужели русское христианство, например, у Нила Сорского, или более позднее, вплоть до Федорова, византийским и осталось? Или неужели сквозь «галломанию» не прикоснулась Россия и к другому вечному источнику всяческой ясности и гармонии?[3]3
Тэн, по свидетельству М. де Вогюэ, утверждал, что Тургенев – «единственный эллин» в новой литературе. Это, конечно, преувеличение. Но возможно, что сквозь Тургенева Тэн почувствовал его учителя, Пушкина, и если это так, никакого преувеличения в словах его нет.
[Закрыть]
До известной степени, значит, и со всякими оговорками, и «мы», и «они» – в одном положении, и «мы», и «они» должны бы сознавать себя должниками. Разница есть. История оказалась к «ним» благосклоннее. Но и «мы», и «они» живем на чужой счет.
Спора не стоит начинать. Спор был бы пустым, а по нынешним временам даже и тягостным. Спорить, в сущности, и не о чем, и будущее рано или поздно наведет во всех этих недоразумениях порядок. Но трудно оставить без возражений или хотя бы только примечаний все то несправедливое, что было о России сказано и написано.
XL
Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд – пустяк, очередная глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?
«Последнее прибежище негодяя – патриотизм», – сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому.
Отчего же все-таки мы уехали из России? Или, точнее, раскаиваться ли в том, что уехали, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, может быть, и оправданным, но все-таки несчастьем, тяжкой бедой, на нашу долю выпавшей?
Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений и разъяснений, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические выводы, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех ее проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой – с огромной, неисчислимой лихвой – ощущением какой-то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей задачи! Даже больше: освобождения, – как бывает после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго остававшийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен, и линии его сошлись. Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы скорей сплоховали… Братья-беженцы, по всему свету рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что есть руки, которые протянулись бы в ответ.
Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своем, особом обличии, в своей внутренней тональности, и, право, политика тут ни при чем или, во всяком случае, при чем-то второстепенном. Да, бесспорно, революция дала нашей судьбе определенные бытовые формы, отъезд фактический, а не аллегорический был вызван именно революцией, именно крушением привычного для нас мира. Разумеется, возможность писать по-своему, думать и жить по-своему, пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть? Но не все этим исчерпывается, а если бы этим исчерпалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слез нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.
Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, по-видимому, к тому, что сделал Петр, – сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические ткани не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность тут едва намечена, и, думая о ней, убеждаешься, что найти для нее твердые обоснования было бы трудно. Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная, – впрочем, тут подвертываются под перо десятки эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая», – одна Россия как бы выпирает другую, не то что ненавидя ее, а скорей не понимая ее, косясь на нее с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. Другая, вторая Россия… для нее подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее облике то, что она не сомневается в полноправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна; «космополит – нуль, хуже нуля», сказал, если не изменяет мне память, Тургенев в «Рудине». На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она – Россия, дух от духа ее, плоть от плоти ее, и никакими охотнорядскими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или новейшими, этого ее убеждения не поколебать.
Мережковский когда-то сказал в «Зеленой лампе», – и слова его поразили меня своей меткостью – или, может быть, думаю я теперь, тем неподражаемым умением преподносить эффектные афоризмы как глубоко проникновенные мысли, которым Мережковский отличался в своих словесных импровизациях под конец публичных споров:
– Первым русским эмигрантом был Чаадаев.
Нет, это только поверхностно верно, хотя высочайший диагноз, признавший Чаадаева умалишенным, и совпадает с некоторыми теперешними утверждениями. Чаадаев очень умен, но надменен и в самом одиночестве своем, с примесью дендизма, как-то вызывающе декоративен: нет, гарольдов плащ москвичам не совсем к лицу. Но замечательно все-таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло задолго до нее. Не Чаадаев, так кто-нибудь другой, не одна книга, так строчка тут, полстранички там, обрывок стихотворения, вздох, не нашедший логического выражения, воспринятый современниками как нелепость, но предвидение отрыва, отказа, освобождения, смутное предчувствие короткого, как молния, счастья средь повседневных наших дел, да, «лицемерных», средь «всякой пошлости и прозы».
Эмигрантская литература должна была бы это подхватить. От чаадаевского наследия отталкивало ее, однако, то, что она отнюдь не была склонна променять Россию на Запад, и никакой обетованной землей Запад для нее не был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то «никуда», «вглубь ночи», в русское рассеяние, внезапно наполнившееся для нее смыслом, но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск видела, полностью его признавала и отдавала себе отчет, что в Париже ей есть чему поучиться. Запад сиял перед ней во всем своем прочном, многовековом ореоле, а случаи вроде многим из нас памятной комически-высокомерной, рассейски-заносчивой статьи Шмелева о Прусте были исключением. Но если бы нас спросили: то ли это, чего вы ищете? – ответ был бы: нет, не то. Дома на Западе мы не были.
XLI
Чего же мы хотели? Думаю – по крайней мере, надеюсь, – что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только при предвзятом желании изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало обнаружить наготу короля. Мы знали, чего не хотим, но чего мы хотим – не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декадентством или модернизмом. К 1917 году он как будто уже выдохся, однако не совсем и вскоре ожил, правда, в уже ослабленном, почти что призрачном виде.
Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного – это бесспорно. Но было и что-то незабываемое, редчайшее, и, как никто другой, чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой, – трагический потому, что безнадежно и беспомощно хотелось ему в мечте обнаружить правду.
С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не конченные. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая – ошибочно или нет, как знать? – обман, иллюзию, «последнюю лесть горше первой». Блока измучила потребность этического оправдания эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые претендовали на учительство, место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей и столпов русского Ренессанса. Блок – друг, верный спутник и потому-то и учитель: чувствуется, что на полдороге он не заскучает и не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое, к сожалению, надо сделать хотя бы ради беспристрастия: по-видимому, Блок, при всем своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умен в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности рассудка, в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, – что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «сегодня я – гений») или некоторые замечания в письмах. Блок оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошовой, лжемистической одури, которую культивировало его окружение. Но в главном, в основном он остался на высоте, никем в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вернее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову или даже Соловьеву, – хотя помню, как Алданов, толстовец, так сказать, дословный, сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок – нищета, предпочтенная богатству, неизвестно каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежности к «элите», и в конце концов, именно в силу своей безупречной душевной честности, он залог того, что не все в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумками. Что-то действительно мелькнуло.
У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями, доходившими из России. «Тень несозданных созданий…» – готовы были мы повторить как пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, и тут же мы останавливались, смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. В глубине души по складу своему мы, – придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных, неведомых друзей, разбросанных волею судьбы по всему свету, – в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорей «достоевского», чем толстовского, воспринимая Толстого преимущественно как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство эфирные струйки, о которых я упомянул, конечно, проскользнули они в нашу литературу при содействии Достоевского или еще до него, но еле-еле уловимо с Лермонтовым. Пушкин и Толстой – наши вершины, но беседа у нас легче налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли и в общении с ними мы были свободнее. С Достоевским в особенности, по меньшей его сравнительно с Лермонтовым загадочности. В вольных, произвольных, нередко плохо кончающихся умственных странствованиях Достоевский даже казался вожатым с Бедекером в руках. Только полюбопытствовать насчет маршрута, заглянуть в книжку он нам не давал, да и знал ли сам, что в ней, на последних ее страницах, содержится?