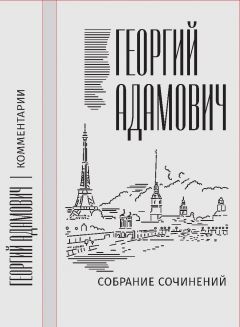
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Георгий Викторович Адамович
Собрание сочинений в 18 томах
Том 14
© О. Коростелев, составление вступительная статья примечания, 2016
© Е. Березина, оформление, 2016
© Издательство «Дмитрий Сечин», 2016
Комментарии
(1967)
Эта книга составлена из заметок и статей, написанных в последние тридцать – тридцать пять лет. Большая их часть была помещена в различных изданиях под общим заглавием «Комментарии».
Заметки на первый взгляд разрознены, и связи между ними нет. Как ни трудно человеку о себе самом судить, впечатление это представляется мне поверхностным и ошибочным: связь есть, а если читатель не в силах ее уловить, значит, автору, к сожалению, не удалось сказать то, что сказать он хотел, с необходимой отчетливостью.
В книге попадаются повторения, немало в ней и противоречий, в особенности когда речь возникает о поэзии. Оставил я их умышленно, считая, что не к чему искусственно сглаживать написанное на протяжении долгих лет, порой с очень большими промежутками. Именно единство или по крайней мере родство тем делают естественным и даже неизбежным возникновение иной, новой их разработки: на одной странице надо было оттенить то, что оставалось не ясно, на другой – дать место тому, что было забыто.
Хронологический порядок заметок кое-где нарушен. Мне казалось это нужным для внутренней цельности книги, – так же, как и включение в нее трех статей, помещенных в конце.
Париж, 1967.
Г. А.
I
После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации оставался человек один, наедине с собой, вне общества и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, – все-таки и после всего этого не поздно и не лишне повторить, что главный для нас, общерусский вопрос, над личными темами, есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия – страна промежуточная. И конечно, этот вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем, во всех областях, есть подготовка материала для решения, составление «дела», «досье», где время наведет порядок.
А все же, так или иначе, Россия должна бы остаться Россией, с единственными своими чертами, с тем, чему она нас научила и от чего не отречемся мы никогда. С тем, что должны бы мы передать нашим детям, внукам, правнукам.
Как долго, годами, десятилетиями, обольщались мы насчет Европы! «Дорогие там лежат могилы». Действительно, дорогие, этого забыть нельзя. Хорошо и верно, Иван Федорович, говорили вы об этом своему младшему брату, послушнику. В Европу, на запад, нас несло почти что на крыльях любви. И вот, донесло. И после всех наших скитаний, без обольщения и слезливости, со свободной памятью, спокойно, уверенно говоришь себе:
сладок дым отечества. Все серо, скудно и, Боже мой, до чего захолустно. Но уверенно, ответственно, учитывая последствия и выводы, хочется повторить: сладок дым отечества, России.
Не потому, что это – отечество, а потому, что это – Россия.
II
Как бы об этом сказать? Бывало в рассказах, в одном из толстых журналов. Вечер. Станция, где-нибудь в средней полосе России. Поезд только что прошел. Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй, еще и березки, непременно «чахлые», за палисадником, непременно «пыльным». Ждать больше нечего.
Это, разумеется, должно было быть в восьмидесятые или девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что незачем и вглядываться, а кому не знакомо, тот действительно ничего «не поймет и не заметит». Здесь почти все пелены уже прорваны, жизнь наполовину призрачна. Это русская глушь, переходящая в елисейские тени. Все белое и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, безнадежная музыка Чайковского, выветривающиеся «идеалы»…)
Но долго длиться это не могло. Что-то должно было произойти – и произошло.
III
А. говорил мне:
– Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали… если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?», и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.
В дополнение: любопытно, что теперь наши поэты все больше клонятся к тому, чтобы уподобиться ангелам за счет естества человеческого. Им душен воздух земли, и поднять весь человеческий груз им очевидно не по силам. Они и сбрасывают его, после чего беспрепятственно добираются до мнимых небесных сфер. Но по старинному глубокомысленному преданию, человек больше ангела. «Гёте был пошляк!» – воскликнул в запальчивости и раздражении, на многолюдном парижском собрании, один из старых ангелических русских писателей, верно улавливая отталкивание, но с ужасающим кощунством в порядке истинной иерархии ценностей.
IV
Конец литературы.
Книги, конечно, никогда не перестанут выходить, их всегда будут читать, разбирать, хвалить, критиковать. Но речь вовсе не о книжном рынке, хотя бы и самом изысканном, самом «культурном», а о том, что может смутить сознание писателя.
По самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю возжаждать «вещей последних», как литература (своя, личная литература) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться, и превратится в ничто. Может убить ее ирония. Но вернее всего убьет ее ощущение никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это не важно и то не важно, это – пустяки и то – всего только мишура. Листик за листиком, безостановочно, безжалостно, в нетерпеливом предчувствии самого верного, самого нужного… которого нет. Есть только листья, как в кочане капусты. Едва пожелаешь простоты, как простота примется разъедать душу серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко мефистофельское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты, но и как достичь ее, не уничтожившись в то же мгновение? Все не просто, простоты быть не может. Простота есть ноль, небытие. «Я – конечно, я воображаемый, – еще могу написать то, что все вы пишете, но я уже не хочу этого. И пусть не намекают мне с сочувственной усмешечкой на бессилие: умышленно, сознательно предпочитаю молчание».
Возможно и другое объяснение, пожалуй более наглядное: литература принуждена выбирать случайную тему, случайные образы, то есть одного человека из миллионов, не схему, а личность. Если же случайного, то есть игры, я избегаю, литература гибнет. Представим себе круг с радиусами. Литература – на концах радиусов, где поле необозримо, где манят и мерцают тысячи случаев, тонов, ритмов, случаев, сюжетов, настроений. Удача выбора, оправданность его посреди всей этой сложности и есть свойство таланта, и чем безграничнее материал выбора, то есть чем дальше скольжение по радиусам, тем в творчестве больше радости, а в игре больше свободы. Но иногда возникает желание: спуститься к центру. («Не хочу пустяков, хочу единственно нужного»). И поле неуклонно суживается, радиусы стягиваются, выбор уменьшается, все удаленное от центра кажется поверхностным, все одно за другим отбрасывается. Человек ищет настоящих слов, ненавидя обольщения, отказываясь от них неумолимо-логическими в своей последовательности отказами. И вот наконец он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть. Настоящих слов в языке нет, а передумывать и перестраиваться – бить отбой – поздно, да и невозможно.
В духовной биографии Пушкина кое-что именно так становится понятно. Пушкин ссыхался, затихал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной были тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его иссякал, вопреки предположению Белинского, – конечно, нет! Но, по-видимому, не хотелось ему уже того, чем этот талант прельщался раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, останься Пушкин жив, как знать? – но пути его не видно, пути его нет. В последних, чудесно зрелых стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул со ступеньки на ступеньку, мог бы докатиться и до конца. Это – к великой чести Пушкина, как и всех, кому мерещится «непоправимо белая страница», после чего еще можно жить, но уже нельзя писать. (Рембо – одна из снеговых вершин французской литературы, внезапно променявший поэзию на коммерцию, а вместе с ним, наверно, и другие, оставшиеся нам навсегда неведомыми, устоявшие перед соблазном литературной удачи и славы.)
V
За что вы любите Толстого?
Вопрос задан был мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, в плоскости «нравится», мне все-таки не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да, но по давним декадентским воспоминаниям, от которых мне трудно отделаться, оно мне чуждо. (При всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь сказать что-нибудь не совсем общее. Убрать себя со своей дороги нельзя. Здесь «я» не цель, а средство, не объект, а призма. Приходится это объяснять во избежание «досадных недоразумений», устраивать которые всегда найдутся добровольцы-любители). Многое другое перебирал я, но, признавая «да, и это», все же чувствовал, что главное обхожу.
Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие: просто я по-новому понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза номер «России и славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском переводе «Слова о полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице; русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов… И ни разу, нигде – имени Толстого! Как это хорошо! Как хорошо, что имя его невозможно… нет, не в этом ряду, а в этом контексте! Как хорошо, что нельзя устроить ко
«дню русской культуры» собрание в зале Трокадеро, посвященное Толстому, а если устроить, то получится такая ложь или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой – это все-таки Россия, только не такая, какой представляет ее себе редактор «России и славянства». Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, что у Петра Струве, и даже Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуют в сусально-патриотическом маскараде, и даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Толстом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном торжестве с демонстрированием наших национальных слав лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.
Повторяю, это мелочь. Ну что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в великом и в малом.
Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет, – хотя и не совсем еще ясно, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним – и, значит, без бутафории, – чем любое благоустройство, будто бы его «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове.
VI
В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.
Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутомимой настойчивостью, доходя до ясновидения и усматривая ложь там, где никто никогда ее не замечал. В сущности, это его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и в самом деле знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить будто по инерции: «Ложь, фальшь, притворство!» – когда никакой лжи не оставалось? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это была скорей маниакальная подозрительность, чем зоркость.
В лицемерии он готов был заподозрить и Бога, каким представила его церковь. Он отверг обрядность, ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели, если Бог есть Бог, требуются ему какие-то ухищрения, штучки, фокусы, неужели нельзя обращаться к нему просто, как бы «с глазу на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и всемогущему Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, слабому человеку, Толстому, это противно, и, лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем нужна Богу вера в него? Богу должны быть нужны только дела. Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, вопреки обличениям, большей частью мало серьезным. Есть вообще в облике Толстого, – как в позднем протестантстве, – какое-то глубоко человечное, очищающее и честное величие. Но, требуя от Бога прямоты, он отдалил от него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неуловим, и доступа к нему нет.
Так путь к правде оказался путем к небытию… Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности должна быть допущена? Может быть, Богу нужны обряды? Может быть, Богу нужны догматы? Толстой с этим никогда не согласился бы, но как знать? – не остался ли он в ужасном и безысходном одиночестве, без опоры, без поддержки именно там, в тех высших, небесных духовных сферах, где он уверен был опору и поддержку найти?
VII
Есть древняя легенда, которую, вероятно, все знают. Но, зная, будто сложили на полочку, где лежат и прочие «ценности»: для обозрения в часы досуга.
Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию помимо его воли, из его полноты, рискнул пожить за свой страх, на авось, на будь что будет. И вот выясняется, что ровно ничего не «будет». Смерть непобедима, несчастья и страдания неустранимы, их будет все больше и больше на «пути прогресса», потому что пути нет, прогресса нет и всякое «вперед» есть только дальнейший прыжок в пустоту, без малейшей надежды на что-либо опереться, чего-либо достичь.
Конечно, это удивительное сказание, с удивительными выводами, которые сами собой из него возникают, не для всех на «полочке ценностей». Оно многих измучило, но его следовало бы предложить на ежедневное размышление всем людям в качестве «пробного камня» внутреннего опыта, как духовное упражнение. Опровергается оно только изнутри, не умом, а каким-то согласием со всей жизнью, «солидарностью» с ней до тех ее слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии. Однако сомнение остается. А что, если все это обман, иллюзия – эти слияния с природой, эти летние полдни, когда все видимое, окружающее так спокойно и счастливо, и почти одушевленно приглашает человека к покою и счастью, – что, если все это обман?
Закаты не обманывают, – куда они зовут? Поэзия не обманывает, – о чем она? Откуда она и куда?
Отчего в шестнадцать лет, на пороге жизни, человеку всегда так безотчетно-тревожно, отчего так понятны ему закаты, так близка ему поэзия, будто именно у «порога», «оттуда» его в последний раз призывают оглянуться, возвратиться, одуматься? А потом человек становится инженером, поступает в банк, и уж до самой смерти ни на что не оглядывается… И вот в душу закрадывается соблазн, поистине последний: не надо ли «погасить мир», то есть на это работать, потому что всякое подлинное «вперед» идет лишь по направлению назад, а если упорствовать и заниматься «строительством», в любом стиле, в любом вкусе, то никогда ничего, кроме умножения бедствий, не получится? «Могий вместити…». Принципиальные, прирожденные оптимисты ничего не подозревают, «вперед без страха и сомнения», и точка! Опыт их не имеет никакого значения ни в жизни, ни в искусстве, потому что они просто-напросто не знают, в чем дело, «не подозревают». Если им растолковать, они ответят: «Полноте, батенька, чепуха-с!» (Оттого этот человеческий склад, «батенька» и прочее, во всех его современнейших разновидностях, невыносим до дрожи, до тошноты, как кощунство. И рядом так хороша «задумчивость».) Но тот, кто услышал, уловил «голос оттуда» и справился с ним, действительно достоин быть учителем человечества. Если даже все остается гадательным, лучше наугад решить «да», чем наугад сказать «нет», а здесь, в этом случае, не только лучше, а мужественнее, прекраснее, милосерднее, не знаю, как выразиться еще…
В сущности, в этом «да» все таинственное обаяние Гёте. Другие или не все расслышали, или – как русская литература, кроме Пушкина, – не окончательно справились.
VIII
Тайна писательства, по-видимому, заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и при даровитости пишущего интонационно приходится там, где поддержки требует смысл. Не только в способности согласовать это распределение веса с естественным течением речи.
Но еще и в том – больше всего в том, – что слово падает на точно предчувствуемом (нельзя было бы сказать «точно отмеренном») расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко – оно безжизненно, слишком далеко – оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть результат напряжения всего существа – ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.
Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. Линия стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают: слова падают то слишком далеко, то слишком близко. «Пишите прозу, господа», – сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа», – говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле.
IX
Годами, годами думает человек о том, что хотел бы написать, а именно этого никогда и не напишет.
«Прощание с Вагнером». Не сомневаюсь, страница останется пустой, навсегда, «средь всякой пошлости и прозы», благополучно и беспрепятственно, из-под того же пера, укладывающихся на бумагу.
Вагнер. Имя незаменимое, хоть и вызывающее досаду. Свет сильнейший, но не вполне чистый. Волшебство, огромным усилием воли достигнутое, но без первичной благодати. Вагнер… да, да, театральщина, романтизм, звуки, оказавшиеся все же чуть-чуть беднее, чем нам казалось… да, да, дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море.
Но, как будто сходя с лестницы, на последней ступени, с которой еще виден «весь горизонт в огне», перед тем, как перестать оглядываться, перед тем, как пойти вместе с другими в общий путь в общих тесных рядах, перед всем этим – привет, поклон, благодарность! Вагнер – наша круговая порука, будто одним только нам и было понятно, о чем вспоминает Зигфрид перед смертью. Вагнер – таран, пробивший главную брешь, Вагнер – залог, «может быть, залог». Пусть и старый фальшивомонетчик, пусть, возможно, – как знать, может быть, Ницше и прав, да и в чем, кроме мелочей, Ницше когда-либо ошибался? – но за фальшивые ассигнации нам-то выдано было чистое золото. Прощание с тем, что мы сами уже еле-еле различаем, что «в ночь идет», что «плачет уходя». Прощание с тем, что кружило голову Андрею Белому, с тем, что знал бедный, мало кому уже ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на истинных весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами. Прощание, смешанное с надеждой, с предчувствием новой встречи, когда-нибудь, где-нибудь.
X
После доклада Бердяева.
Утверждение, что именно «красота спасет мир», что без красоты мир спасен быть не может.
А не сжимается ли сердце в сомнении и страхе оттого, что красотой, может быть, придется пожертвовать? Красота аристократична – я едва не написал реакционна, – и по связям своим, в родственном своем окружении, она социально порочна, – и как остро, как безошибочно верно чувствовал это Константин Леонтьев, человек эстетически-гениальный, но морально-безумный, как остро, как безошибочно чувствовал это Толстой, человек морально-гениальный и именно потому-то, именно в силу этого-то стремившийся к эстетическому нигилизму, принявший его как вериги! Красота исключает равенство, и пускай Леонтьев вкупе с Достоевским сколько им угодно издеваются: не равенство, мол, а «всемство», – от игры слов сущность дела не изменяется. Красота, создаваемая одним человеком, требует молчания, подчинения, невольной, бессознательной жертвы со стороны ста тысяч других, лежащих под ней навозным удобрением. Красота возникает от пестроты мира, от игры света и теней, от скрещения бесчисленных лучей в одной точке, а если свет распределить равномерно, она иссякает… «Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, когда он отверг свое художественное творчество, а ему ведь было стыдно, что в то время, как обворожительная Анна в бархатном черном платье пляшет на московском балу, какие-то люди, такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют на кухне грязные тарелки. И на это, на праведность этого стыда нечего возразить. Красота? Дело даже не в бархатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в том, что Анна не могла бы так изящно любить и мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. А если все равны, если все имеют право на то же самое, то бархата на всех не хватит, и придется нам остаться с грязными подолами во всех смыслах, дословном и переносном.
Как трагичен этот вопрос. В какую глубь уходит он корнями. К каким отказам и отречениям мало-помалу ведет. Но можно ли без кощунства произнести слово «Бог» или хотя бы только слово «культура», если усомниться хоть на миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы ценой ни пришлось за это платить.
XI
Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!
Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно вглядеться повнимательнее: позднее утро сейчас, солнце взошло уже высоко, и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. Тайна осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах ее, но в воздухе ее нет, и нельзя уже навязать ее миру. Будет трезвый, грустный день[1]1
Это писано лет тридцать пять тому назад, и теперь, после долгожданного оживления Церкви, после папы Иоанна и второго Ватиканского собора, это может показаться ошибочным. Дай Бог, чтоб ошибочным это и было! Но не оттого ли церковь и очнулась от забытья, не оттого ли содрогнулась, что опасность стала слишком уж очевидной и близкой?
[Закрыть].
Мережковский кричит: «Кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни?» Увы, увы, это лишь полемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше бы обойтись. Ответ несомненен. Кем надо быть? – подлецом. Возражающий посрамлен и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно все-таки ее отрицать. И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?» Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, сочиняет как ни в чем не бывало новые догматы: старых ему, очевидно, мало. От уверенности, что обладает истиной, он-то, может быть, и предает ее: в темных углах, по одиноким душевным убежищам еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, – тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема, образ.
«Мы свой, мы новый мир построим». Лично – отказываюсь (не о себе: «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пустоте, и тем, другим, «новым», ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь. Удивительно, что Мережковский не захотел понять потустороннего риска христианства и, пристыдив подлеца-собеседника насчет «оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и метафизику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «Не люди – Бог против Него, не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, чтобы этот вызов всему всемирному здоровью или благополучью был в согласии со всемирной жизненной волей…» И так далее. И тут же евангельские цитаты: блаженны нищие, – отчего именно нищие? блаженны плачущие, – отчего только плачущие? отчего вообще блаженны неудачники? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий все вверх дном! И богатый юноша, который не случайно же «отошел с печалью». И, наконец, последнее: «…кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»! Одиночество Христа тут и обнаруживается вполне. Не люди оставляют Его: природа, мир отказываются подчиниться Ему. Последний, предсмертный стон на кресте: «Боже мой, Боже мой…» еще не утратил значения, и если уж быть Ему верным, то «нельзя в это время – то есть до конца дней – спать», как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть с Умершим.
Не опровергнуто христианство, конечно. Но испускает дух, выдыхается, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим вслед ему – смотрим, и не можем оторвать глаз. «О, свет вечерний»! Единственный свет, никогда такого не было, надо бы на колени стать, провожая его.
Но слепота ничему не поможет. Даже и подумать нелепо, чтобы сейчас можно было опять вдохнуть его в кровь человечества и, например, поднять какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди лишь до-любливают это, до-веровают, до-думывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошенько потрепала перед этим. В выбывших из строя, словом. Тогда они вспомнят «блаженны нищие» – и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого, по Христу, не было бы выхода, нет «дна» вообще. В этом смысле – нет смерти.
Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое Церковью изречение, – в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя Мое…»:
– Где и один человек, Я с ним.
Будто торопливая, запоздалая поправка в ясновидящем и милосердном понимании того, что бывает иногда человеку нужно. Церковь должна была эту поправку отвергнуть: она подрывает самое ее основание. Но все очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.
XII
Веяния подлинности. – Наука, признавая существование Христа, почти ничего о нем не знает. «Он неуловим», – заметил недавно осторожный Рейнак. То же утверждает Луази.
Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания. Случается, перечитывая Евангелие, останавливаешься и, пораженный, говоришь себе: этого не могло не быть! Есть у всех четырех Евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, и вдруг каждое слово становится по-новому ясно.
Рассказ о крестной смерти:
– В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани!», что значит «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!». Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «вот, зовет Илию».
То же повторено у Матфея.
Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая! Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть, тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «вот, зовет Илию». Можно ли у литературно-простодушного Марка предположить такой профессионально писательский опыт, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь так сочинять впору умелому теперешнему бытовику, Тригорину какому-нибудь… Значит – было. Марк не заботится о картинности. Марк записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, как собирал и другое. Значит, было, все было: по одному слову убеждаешься в целом.
XIII
Он говорил с людьми решительно обо всем. Но Он ни разу не сказал им, что надо быть честными. Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Представьте себе в них: «Блаженны честные». Невозможно! Будто какой-то барабан вторгается в райские скрипки: все меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно!
Но Рим и здесь одержал над Ним победу. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грозноокому орлу-полковнику, который, не моргнув, подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:
– Иди, застрелись. Это твой последний долг.
И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено. Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя наш полковник, вероятно, ходит по воскресениям к обедне и лобызает золотой крест, выносимый его приятелем-батюшкой, все-таки он душой всецело с Цельсием, со всеми теми, кого ужаснуло когда-то христианство как безумие и ужас. Если бы ему это сказали, он удивился бы, ибо привык чтить все установленное веками: как же ему враждовать с церковью? Глухой, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, «под самым носом» церкви, при ее попустительстве или в редчайших случаях под ее беспомощные, грустные вздохи. Надо было вновь укрепить и скрепить расшатывавшийся мир, нельзя было признать, что над идеалом общественно-нужным вознесен идеал общественно неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени повторяет это как непререкаемую истину. Даже если он не в силах этим принципам полностью следовать, то не позволяет себе в них усомниться и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимо-чтимого Учителя на «второе пропятие».









































