Текст книги "Чем пахнет неволя"
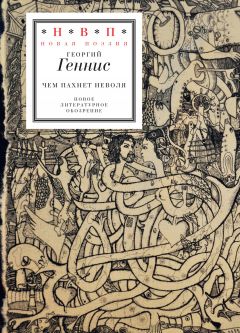
Автор книги: Георгий Геннис
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Георгий Геннис
Чем пахнет неволя Избранные стихотворения
© Г. Г. Геннис, 2019
© Л. Оборин, предисловие, 2019
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *

Жестокий талант revisited
В «Песнях матушки Гусыни» есть образчик старинной английской страшилки – стихотворение о нарядной даме, которая пришла в церковь и почему-то увидела там гниющий труп, описанный во всех неприглядных подробностях.
Священника дама спросила с тоскою:
«Ужель и меня ожидает такое?»
Священник в ответ: «От судьбы не уйдёшь,
Так будет с тобою, когда ты помрёшь».
Стихотворение (здесь – в переводе Ю. Левина) заканчивается одинокой строкой «И тут дама завизжала», но то было в прошлые века. В наше время от осознания своей некрасивой смертности уже не визжат, но ещё его не рифмуют. Его обычно вытесняют подальше (будущему бывшему человеку состояние его тела будет уже безразлично). Но некоторые его проговаривают: жёстко, безжалостно, утрированно и вместе с тем точно – так, что в этом нет никакого болезненного любования, а есть особый род гуманизма.
Соблюдённое memento mori серьёзно меняет оптику – и человеческую, и поэтическую, и читательскую. В случае с Георгием Геннисом читатель ещё и находится под властью удивления: манера поэта, которой уже больше сорока лет, представляется монолитной, как бы неподвластной историческим обстоятельствам. Страшно интересно (страшно и интересно), какие же обстоятельства окружали автора, который уже в конце 1970-х предлагал новый взгляд от лица не-достоевского «подпольного человека» – не маниакальное самоупоение, а сострадательное созерцание. Увидел, ощутил, зарегистрировал. Запомнил и проводил в последний путь. Принёс пользу и себе – «присев на скамейке в парке», где внезапно самовоспламенился человек, «смаковал / тающий холодок милосердия» (это важные слова, запомним их). Холодок – пишущему, а мороз по коже остаётся читателю – например, разделённые десятью годами стихотворение «Бабушка» и «Безумная мама».
Мир, описываемый Геннисом, – мир постоянного физического распада, отмены цельности; человек здесь может развалиться на составные части, его можно сложить и утрамбовать в сумку. «Человек устроен из трёх частей», «Калугина сложили пополам и выкинули его как сор» – да, хармсовские мотивы тут как тут: Хармс думал ту же мысль, что и Геннис, пока его не прервали представители цельного исторического сознания. Важное следствие этой мысли – в том, что распад угрожает, в конце концов, и самому субъекту, пусть даже он застрахуется от него переходом в третье лицо:
Язык поэта выскользнул
в дурноту темнеющей комнаты
и стал прыгать как лягушка
Поэт бросился за ним на пол
и ползал в забвении слов
Потеря языка отнюдь не так комична, как потеря носа у Гоголя, – ещё и потому, что язык, хоть и становится отдельным существом, не демонстрирует интеллекта и самим фактом своего демарша лишает поэта возможности вступить с ним в диалог. Возможно, такими же беглецами из доминиона субъекта, распоясавшимися alter ego поэта оказываются сквозные персонажи поэзии Генниса – в первую очередь это Кроткер и Клюфф.
Эти супруги, единственные Амур и Психея (а заодно Филемон и Бавкида, ибо среди их многочисленных приключений есть и молниеносное старение), которых мы заслуживаем, – главные участники геннисовского эксперимента над телами и умами людей. Есть и другие: друг Кроткера Борх; некто Лёня Сумерк, расчленяющий женщин, которые после соития с ним становятся деревьями; его подруга Анна Клеть, то добровольно дающая бросить себя в пруд, то превращающаяся в товарный вагон. Если позволительно такое сравнение, герои Генниса напоминают персонажей мультсериалов «South Park» и «Happy Tree Friends»: в первом почти в каждой серии гибнет один из главных персонажей – мальчик Кенни, а в следующей серии он как ни в чём не бывало оживает, чтобы погибнуть вновь; во втором самыми разнообразными смертями, как правило связанными с нарушением техники безопасности, умирают милые зверушки – зайчики, белочки, ёжики и исключительно тупой лось. Ни эти мультфильмы, которые при всём обилии крови весьма жизнерадостны, ни стихи Генниса не дают основания заподозрить, что герои умирают или калечат друг друга, а потом на их месте вырастают новые такие же: скорее, дело происходит в параллельных вселенных – или, в случае Генниса, автор придумывает одну версию событий, потом как бы стирает её и придумывает другую. Но самым верным мне всё же кажется предположение, что персонажи, по крайней мере самые важные – Кроткер, Клюфф и некоторые другие, – это ипостаси авторского «я», crash test dummies авторской фантазии. Ей не нужно оправдываться в своей мрачности, потому что окружающая реальность, преломлённая авторской оптикой, ничуть не радужнее.
Эти роли далеки от вспомогательных: с помощью своих персонажей Геннис на фоне константы смертности деконструирует этику (в том числе инстинкт сострадания) и телесность; первую – фигурально, критически, вторую – буквально. Подчёркнутая физиологичность стихов Генниса, несколько мамлеевского свойства, обращает на себя особое внимание. Человек здесь может оказаться сам себе отцом и ребёнком: в одном тексте «Кроткер понял что забеременел самим собой / и теперь обречён / выдерживать схватки»; в другом, не вошедшем в эту книгу, ещё один сквозной персонаж Генниса по имени Бунтий «летом целый месяц ходил в меховой шапке / и вы´ходил / из перхоти сала и жара / зародыш собственной головы». С одной стороны, перед нами некий субститут размножения – или возвращение к старым его способам, скатывание на последнюю ступень подвижной лестницы Ламарка, к делению амёб. С другой стороны, неприятная физиология у Генниса намекает на особенности тех отношений, которые возникают у лишённых почти всякой культурной идентичности «голых людей на голой земле». Им есть чем обмениваться друг с другом и есть что друг другу пожертвовать (вот, например, ещё одни роды: Анна Клеть рожает «машинку для стрижки бороды», которую той же ночью губит Лёня Сумерк: «Запахло палёным / Сумерк испугался и выдернул штепсель из розетки»; наверное, даже Бубнов, которого мечтала родить и таки родила хармсовская Хню, прожил более радостную жизнь). Но из нашей бытовой реальности, обложенной ватой иллюзий, всё это выглядит гротеском.
Буддист мог бы сказать, что Геннис демонстрирует нам страдание, которым полнится сансара, но штука в том, что никакой нирваны не предполагается: Геннис показывает новые перерождения своих героев, не наслаждаясь ими, не проповедуя урок. Если принять ранее высказанную мысль о героях как проекциях авторского «я», стоицизмом автора можно только восхититься (в очередной раз ощутив мороз по коже). Здесь есть особый гуманизм, но это слово не должно обманывать читателя. Жалость к другому у героев Генниса – весьма специфического свойства:
Как-то вечером
перебрав мелочь подаяния
Клюфф разочарованно вздохнула
и пока Кроткер спал
отпилила ему лобзиком
обе ноги по самое колено
надеясь вызвать в прохожих спазмы
расточительного сочувствия
Утром Кроткер упал
едва попытался встать на призрачные опоры конечностей
и долго ползал
в поисках своих ступней и тапочек
Впрочем, в другом стихотворении (не попавшем в эту книгу) Клюфф отпиливает правую ногу уже не Кроткеру, а себе – и даёт её мужу в дорогу:
если тебе станет скучно
достанешь
и будешь гладить
как кошку –
как-никак моя плоть
гордо сказала она
Это трогательное самопожертвование в порядке вещей во вселенной Генниса. Здесь люди, не способные ответить на мандельштамовский вопрос «Дано мне тело – что мне делать с ним?», но в то же время сопротивляющиеся коллективизации этого тела («Только Кроткер барахтался / сопротивляясь натиску сплочения»), почти автоматически совершают странные вещи: ритуалы, кажущиеся дикими только сторонним наблюдателям. Казалось бы, это сближает Генниса с «новыми эпиками» – такими как Леонид Шваб и Арсений Ровинский, – но Геннис, начавший свой путь гораздо раньше, принципиально занят более плотным, основательным письмом. Может быть, здесь лучше работает сравнение с Фёдором Сваровским, которому законченная история интереснее фрагмента (тем более что в одном стихотворении Бунтий и Бунтия оказываются роботами, чьи половые органы одновременно служат частями огнестрельного оружия). Истории, которые рассказывает Геннис, могут принадлежать к одному большому нарративу (как, собственно, стихи о Кроткере и Клюфф), но в силу того, что они вариативны, порой противоречат одна другой, и ни одна из них не приоритетна, у каждой из них возникает самостоятельная ценность. Это чувствуется в самой организации нынешнего избранного: на месте многих выбранных автором стихов могли бы находиться другие, не менее интересные. Нет нужды угадывать внутреннюю мотивацию автора при выборе того или иного текста: практически все читанные мною стихи Генниса репрезентативны; про любое, если случайно его услышать, можно сразу сказать: «Это Геннис», что, конечно, признак состоявшегося и замечательного поэта. Если его имя не сразу возникает в голове при дежурном разговоре о современной поэзии, причиной тому, по-моему, только характер материала, с которым работает Геннис. Охотников до этого материала немного.
Большой плюс, впрочем, в том, что геннисовский взгляд на мир – при всём его сюрреализме как бы «более реальный», чем взгляд условно-обывательский, – позволяет осмыслить самые разные процессы, в том числе и политические. Временами стихи Генниса обнаруживают привязку к узнаваемой истории. Когда персонаж Коля Люберц, до самозабвения любящий Родину и готовый «облить себя бензином и поджечь / и пылающим факелом ворваться / в колонну её ненавистников», начинает страстно жевать голенище своего солдатского сапога, «чтобы напитаться ещё более яростной любовью / бессильный её обнять / ощутить прикосновения / её отзывчивых пальцев», мы не удивляемся, обнаружив под стихотворением дату – 2014 год. Этот акт любви – вполне в духе нынешних текстов Владимира Сорокина, ещё одного «жестокого таланта», чей художественный метод по воле истории вновь приобрёл политическую актуальность. Другое дело, что у Генниса политический комментарий – не самоцель, а одно из завихрений, одна из намеченных и сразу оборванных траекторий.
Геннисовские стихи последних лет ознаменованы возвращением к «я» – как правило, к наблюдателю сюрреалистических сцен, а не к активному их участнику. Это «я» может быть не манифестировано в тексте, но оно явно чувствуется. В отличие от историй о Кроткере и Клюфф, описание подобной сцены предполагает фигуру того, кто тихо стоит в сторонке и смотрит:
мужчины сидят на стульях вдоль стены и ждут своей очереди
крайний левый передаёт сложенную бумажку сидящему справа
тот своему соседу
и так далее
последний теряется вдали
на противоположном конце коридора
через некоторое время бумажка
преодолев путь обратно
возвращается к первому
он её расправляет
хочет прочитать что там написано
но испугавшись
комкает и глотает
мужчины ожидавшие продолжения
набрасываются на него
валят на пол
кто-то коленом придавливает его шею
кто-то пытается разомкнуть сжатые зубы
и вырвать проглоченное
Невключённость говорящего-наблюдателя в вакханалию – ещё один признак того, что целостность мира невозможна. Странное взаимодействие говорящего с теми людьми, кто принадлежит к его интимному кругу (вот он жуёт птичьи перья, которые протянула ему «она»; вот он вынимает из отца чёрные стебли и ставит их в вазу), не способствует преодолению его обособленности. Неожиданным выходом из этой ситуации оказывается любовь – примерно как люди в фильмах про конец света обнимаются и держатся за руки накануне кометного удара или столкновения с планетой Меланхолия. Инстинкт сострадания возвращается и в метафизическом смысле (который тоже возвращается) совпадает с инстинктом самосохранения. Растаявший холодок милосердия вновь меняет агрегатное состояние. «Исчезает линия горизонта / куда-то проваливаются холмы / размываются домики / растекаются зелёные пятна рощ» – так в недавнем стихотворении Генниса «наступает будущее». И вот порыв говорящего, запротоколированный так же бесстрастно, как всё остальное:
я опустился на колени спиной к ней
и расставил руки чтобы её защитить
‹…›
я повернулся и повалил её на землю
её лицо оставалось нетронутым
пока нас жалили и терзали
передовые отряды
Ясное дело, что спастись никому не удастся, но, может быть, это движение, противоположное почти всему, что мы читаем в книге Генниса, зачтётся при следующем, более счастливом перерождении.
Лев Оборин
Пылающий человек
Из цикла «15 стихотворений о подвале»
Вадиму Сидуру
* * *
Течением относило женщину вниз
я видел только её беременный живот
пузырь плыл по реке
* * *
Женщины выбрасывали младенцев из окон
Подобрал одного
Дыханием согревал ему лоб
и слизывал кровь
вытекавшую из его носа
Окоченел от жалости и бессилия
* * *
На четвереньки встав
друг друга беспокойно щупали
два безголовых неуклюжих тела
* * *
Мы шли в темноте
Отец нёс мамину голову
прижав её к груди
Я постучался в дверь
на которую мы наткнулись в конце коридора
Отец присел на корточки
ссутулившись
и что-то зашептал
маме
Я зажёг свечу и сел рядом
Мы услышали шорох
Человек в белом халате
соскочил с велосипеда
и взял голову из папиных рук
Он отворил дверь ключом
и исчез
прикрыв её за собой
Послышался плеск воды
и чьё-то глухое ворчанье
Дверь опять скрипнула
Оттуда
высунулся длинный хобот
и обвил шею отца
Его очки соскочили на пол
рубашка на спине задралась
Я схватил его за плечи
пытаясь удержать
Задыхаясь
он с трудом обернулся
и я увидел синий крест
на его виске
* * *
Мы спинами срослись
затылком трусь о твой затылок
обнять хочу
руки вывёртываю
будто надеваю пиджак
Твоего лица никогда не видел
а может быть
от моей отпочковалась женская плоть?
Упёрлась
ногти в мой пах вонзила
кожу содрала на рёбрах
и обессилела
Тебя тащу куда-то на спине
напрасно извергая семя
1976–1977
«У меня в крови блуждает ресница…»
У меня в крови блуждает ресница
женщины проскользнувшей как шорох
1983
«Дом был таким высоким…»
Дом был таким высоким
что пока тело умершего
спускали вниз
оно начинало разлагаться
и люди переставали разговаривать друг с другом
возмущённые тем что до сих пор в квартиры
не провели трупопроводы
куда можно сбросить покойника
вместе с мусором
и сопутствующими ему вещами
1980
«Пригоршнями…»
Пригоршнями
он зачёрпывал мёртвых мух из мешка
взвешивал на весах
и насыпал подходившим
в сумки
в пакеты
в оттопыренные карманы
в кульки из газет
а некоторые
предъявив документы
ели прямо из рук продавца
Иногда насекомые оживали во рту
Их глотали
но они выползали из горла наверх
и люди давились
и задыхались
Глухонемой показывал всем
ожившую муху
у себя на высунутом языке
Она лежала вниз крылышками
перебирая беспомощно лапками
Инвалид её съел
утомившись ходить
с разинутым ртом
Дóма я нанизывал их
на длинную нитку
протыкая иглой
а потом во дворе продавал
ожерелья из мух
1982
«Женщина держала под мышкой…»
Памяти Вадима Сидура
Женщина держала под мышкой
Мужскую голову словно плод
Сорванный с дерева плоти
Среди неустанного шелеста
Любовных объятий сада
Она положила голову к себе на колени
И глядела в неё как в облик младенца
Распутывая непокорную отчуждённость волос
И лаская пальцем
Проницательную тишину взгляда
А на поляне совсем рядом
Резвились девушки
Каждая катила по заросшей травой земле
Голову своего мужчины
Подталкивая её ногами
Тяжкая мгла полуденных пространств леса
Пахла трепетом сырости и ленью забвенья
Головы перекатывались пачкая щёки и лбы в зелени
И просили взять их на руки
Устав от головокружительных перемещений
И распалившихся лучей солнца
«Сложите нас» сказал один мужчина
Он тяжело и напрасно вгонял в себя воздух
Не в силах отдышаться сквозившим насквозь ртом
Девушки остановились и начали подбирать добычу
И когда головы замерли в тесноте сетки
Облизываясь и косясь друг на друга
Они уселись в кружок
Вокруг поблёскивающего капельками пота холмика
И начали снимать с себя платья
Выгибая спины и предчувствуя близость
Неутолимой радости
Чутких прикосновений
1994
Бабушка
Бабушка умирала несколько лет
Она сходила с ума
Не узнавала себя в зеркале
Спрашивала что там за мужик в передней стоит?
Мочилась в постель
Ложилась мимо кровати на коврик
Отхаркивалась за батареи
– ещё долго после её смерти
на стенах в самых укромных уголках
оставались рыжие полосы засохшей мокроты
пока мы не сделали ремонт –
Прятала под подушку ломтики хлеба
Тайком брала сахар из сахарницы
Боролась с домашними растениями
Особенно с кактусами
Говорила что они за неё цепляются
Когда она проходит мимо
Норовила выкинуть отцовы книги
Весь дом заполонил брошюрами
И в итоге умерла кажется от печени
В той самой больнице
Где когда-то лежал я
С юношеским подозрением
На порок сердца
Случилось это в мае 1977 года
А родилась бабушка в деревне Пешки под Москвой
Болела тифом в гражданскую
Ездила за хлебом на крыше вагона
Бандиты поезд остановят и всё отнимут
Вспоминала нэповские магазины
Чего изволите? Заходите пожалста
А мы бегом оттуда: денег-то ни у кого не было
Сталина называла рябым
а Гитлера кривым чёртом
Ругала попов за то что они мучили их в школе
Законом Божьим
А то и побьют бывало
Под конец жизни она ненавидела всех
Говорила что финны злые
Нашим глаза выкалывали штыками во время войны
Что немцы жадные
Из одной косточки варят себе суп целую неделю
Слово еврей она произносила шёпотом
Читала газеты и книги
Пока не стала беречь глаза
Ей нравились Три товарища
Которых написал Ревмарк
С удовольствием смотрела телевизор
Особенно когда передавали кохей
Мама не хотела открыть гроб
Считая что у нас в памяти должен сохраниться
Другой образ бабушки
Так обезобразили её смерть и старческое слабоумие
А служитель морга спросил у меня
Что? Протекла бабуля?
1994
Безумная мама
В коридоре бродит безумная мама
Я оставил ей свет
но она всё равно не может отыскать уборную
Спрашивает – как она очутилась в этой квартире
и кто там шумит на кухне
Я провожаю её
закрываю за ней дверь
и жду
Потом отвожу в комнату
снимаю с неё очки
помогаю вынуть челюсти
укладываю в постель
Её лицо озаряет улыбка внезапного счастья
Как хорошо – шепчет мама
щекой касаясь подушки
Я целую её в губы
и возвращаюсь на кухню –
в телевизоре шумит и мерцает
неуёмная жизнь
Я понимаю – МАМА УМЕРЛА ДЛЯ МЕНЯ
мы навсегда разошлись
во времени и пространстве
2004
Сыра земля
Я ел сырую землю
сидя на пашне
пригоршнями
Земля была чёрная
сдобная
Иногда попадались белые прожилки корешков
камешки
даже черви
К полудню я насытился
и почувствовал что вот-вот нальюсь буйной силой
только на ноги не поднялся
не смог
такая бродила в теле тяжесть родной почвы
Тогда я улёгся поудобнее
прямо на комьях
и принялся слушать песню раздолья
Ветер сыпал в лицо крупинки песка
муравьи заползали под одежду
обживая тёмную пылкость кожи
В животе зрело
омерзение будущих зёрен
апрель 2001 года
Упавший
Я упал в давке
качнулся – не удержался – рухнул
Через меня перешагивали
об меня спотыкались
меня растаптывали
Вдавливали тело в асфальт
ломали рёбра
лопатки
Дробили
крушили
вскрывали во мне потёмки
Женщина наступила на голову
шпилькой туфли пробила темя –
каблук застрял в мыслях
Я с трудом его выдернул
Платье взметнулось
она сверкнула ослепительной вульвой
и бросилась прочь
ПОХОТЬ ХЛЫНУЛА ЗА НЕЙ
ГОРЛОМ
2005
Пылающий человек
На человеке внезапно вспыхнули волосы
Голова озарилась тёмно-красным
и скоро от густой чёрной шевелюры
ничего не осталось –
ветер уносил хлопья пепла в даль одержимой
зноем улицы
Голый обугленный череп дымился
лицо изумлённой боли едва проступало сквозь дымку
Потом загорелись руки
Человек вскинул над собой два пылающих факела
и держал так
пока огонь не обглодал кисти рук до самых костей
Пожар прекратился
но в воздухе ещё долго пахло палёным
Человек дул на обнажённую анатомию
сожжённых ладоней
и это приносило ему облегчение
Я не стал подходить к погорельцу
опасаясь новых воспламенений
Я купил себе мороженого
и присев на скамейке в парке
смаковал
тающий холодок милосердия
январь 2003 года
Болезнь ботинок
У поэта что-то случилось с ботинками
они покрылись каким-то странным налётом
стали плесневеть и зарастать мхом
Шнурки в ужасе извивались
пытаясь покинуть жилище внезапной хвори
Поэт выставил ботинки на балкон под палящее солнце
в надежде их исцелить или хотя бы продлить
срок их полезной жизни
Но обувь продолжала умирать как обувь
и превращалась в дремучие очаги леса
Вскоре поэт заразился от собственных ботинок
и перестал узнавать себя в зеркале
Дикий взъерошенный кустарник
таивший блестящие ягоды глаз
глядел на него из потусторонней дали
Язык поэта выскользнул
в дурноту темнеющей комнаты
и стал прыгать как лягушка
Поэт бросился за ним на пол
и ползал в забвении слов
2002
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































