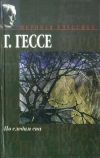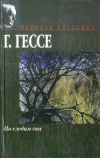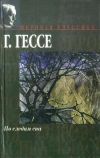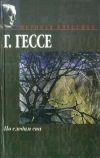Текст книги "Прерванный урок"
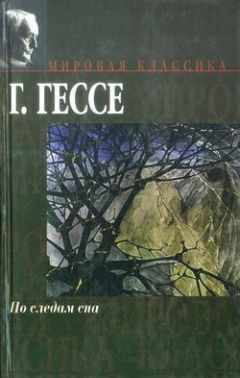
Автор книги: Герман Гессе
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Герман Гессе
Прерванный урок
Как все старые люди на закате своих дней, я должен не только снова обратиться к воспоминаниям детства, но, отчасти и в наказание, еще раз, и уже в совершенно изменившихся условиях, пробовать и испытывать себя в сомнительном искусстве рассказывания. Рассказывание предполагает наличие слушателей и требует от рассказчика смелости, которую он обнаруживает лишь в том случае, если у него и у его слушателей есть общее пространство, общество, обычаи, язык и образ мышления. Образцы, которые я почитал в юности (и сегодня еще почитаю и люблю), прежде всего автора зельдвильских историй, долго поддерживали мою благую веру в то, что я по рождению и по традиции тоже принадлежу к этой общности, что и я тоже, когда рассказываю истории, живу на общей родине со своими читателями, играю им на таком инструменте и в такой нотной системе, которая для них и для меня совершенно привычна и естественна. Свет и тьма, радость и печаль, добро и зло, поступок и страдания, святость и безбожие хотя и не отделялись и не обосабливались там столь категорично и резко друг от друга, как в морализирующих рассказах из школьных и детских книжек, там были нюансы, была психология, они отличались юмором, но там не было серьезных сомнений ни в доступности моих рассказов слушателям, ни в пригодности их для рассказывания; действие разворачивалось в большинстве из них совершенно прилично, с экспозицией, кульминацией, развязкой, и они доставляли мне и моим читателям почти столько же удовольствия, как когда-то приносило рассказывание историй великому мастеру из Зельдвилы и вслушивание в них его читателям. И лишь постепенно и против воли я с годами пришел к мысли, что характер моих переживаний и манера моего повествования не соответствуют друг другу, что я, стремясь к добротному повествованию, насиловал свой опыт и переживания и теперь должен либо отказаться от рассказывания, либо решиться стать плохим рассказчиком. Мои опыты в этом направлении – от «Демиана» до «Паломничества в Страну Востока» – уводили меня все дальше от доброй и прекрасной традиции рассказывания. И когда я сегодня пытаюсь записать даже какое-то маленькое, совершенно изолированное переживание, все мое искусство рассыпается и пережитое мною каким-то таинственным образом становится многоголосым, многослойным, сложным и непроницаемым. Я должен смириться с этим, более крупные и более старые ценности и сокровища сделались в последние десятилетия сомнительными для упражнений в искусстве рассказывания.
Однажды утром мы, школьники Кальвской латинской школы, сидели в нашей нелюбимой классной комнате за письменной работой. Это было в первые дни после долгих каникул, совсем недавно еще мы сдали наши голубые табели, которые родители должны были подписать, мы еще не вжились по-настоящему в плен и скуку, а потому переживали их еще острее. Также и учитель, мужчина, не достигший еще и сорока лет, но казавшийся нам, одиннадцати– и двенадцатилетним, древним стариком, был скорее удрученным, чем расстроенным, мы видели, как он сидит на своем высоком троне, с желтым лицом, склонившись над тетрадями, со страдальческой гримасой. С тех пор как умерла его молодая жена, он жил один со своим единственным сынишкой, бледным мальчиком с высоким лбом и водянисто-голубыми глазами. Напряженный и несчастный сидел этот серьезный человек в своем возвышенном одиночестве, внушающий уважение, но также и страх; когда он сердился или тем более гневался, луч адской ярости мог исказить классическую позу гуманиста и покарать ложь. В помещении, пахнущем чернилами, мальчиками и обувной кожей, было тихо, лишь изредка раздавался разряжающий шум: стук упавшей книги на пыльном пихтовом полу, тайное перешептывание, щекочущее, заставляющее оглядываться пыхтение подавленного смеха, каждый такой шум доносился до восседающего на троне, и тишина тут же восстанавливалась, обыкновенно для этого достаточно было лишь одного взгляда, предупреждающей мимики на лице с выдвинутым вперед подбородком или же угрожающе поднятого вверх пальца, иногда это было покашливание или короткое слово. Между классом и профессором в тот день, слава Богу, не было грозового напряжения, но была все же та мягкая напряженность атмосферы, из которой порой может возникать нечто неожиданное и нежелательное. И вполне возможно, что это было мне больше по душе, чем совершеннейшая гармония и покой. Возможно, это было опасно, возможно, что-то могло случиться, но в конце концов мы, мальчишки, во время подобной письменной работы ничего не ожидали с таким нетерпением и жадностью, как перерывов и неожиданностей, хотя они всегда плохо кончались, – слишком уж сильна была скука мальчишек, слишком долго и слишком строго принуждаемых к тихому сидению и молчанию.
Сейчас я уже не могу вспомнить, что это была за работа, которой занял нас учитель, сидевший за дощатым укрытием своего трона и занимавшийся служебными делами. Но это ни в коем случае не мог быть греческий язык, поскольку весь класс сидел вместе, в то время как на уроках греческого наедине с мастером оставались всего лишь четыре или пять «гуманистов». Мы начали изучать греческий язык с этого года, и отделение нас, «греков», или «гуманистов», от остального класса придало всей школьной жизни новое качество. С одной стороны, мы, то есть несколько греков, будущих священников, филологов, людей с высшим образованием, были уже сейчас отделены и известным образом выделены из большой толпы будущих дубильщиков, суконщиков, торговцев или пивоваров, что являлось честью и означало также притязание и поощрение, поскольку мы были элитой, предназначенной для более возвышенных занятий, чем ремесло и зарабатывание денег, и все же, как и бывает в подобных случаях, эта честь таила в себе сомнительную и опасную сторону. Мы знали, что в отдаленном будущем нас ожидают легендарно сложные и строгие экзамены, прежде всего страшный государственный экзамен, на котором соперничают в знаниях выпускники гуманистических гимназий со всей Швабии, собираясь для этого в Штутгарте, где во время многодневного экзамена отсеивается небольшая и настоящая элита, экзамена, от результатов которого у большинства кандидатов зависит их будущее, поскольку большинство из тех, кто не проходит через эти тесные врата, обречено на отказ от запланированной учебы. И с того времени, как я сам принадлежал к гуманистам, временно зачисленным кандидатами в элиту школьникам, мне уже неоднократно, под воздействием разговоров моих старших братьев, приходила в голову мысль, что гуманист, призванный, но еще далеко не избранный, должен будет испытать очень неловкое и горькое чувство, когда ему придется снять с себя почетный титул и снова отсиживать последний и высший класс нашей школы невеждой среди многих других невежд, опустившись и уравнявшись с ними.
Таким образом, мы, несколько греков, с начала учебного года вступили на эту узкую тропу к славе и тем самым попали в гораздо более интимные и именно поэтому в гораздо более щекотливые отношения с нашим классным учителем. Он давал нам уроки греческого языка, и теперь мы, немногие, не сидели больше среди класса и в массе, которая власти учителя по крайней мере могла противопоставить свое количество, но выступали поодиночке, слабые и выставленные напоказ этому человеку, который по истечении короткого времени знал каждого из нас намного лучше, чем всех прочих наших одноклассников. В эти нередко торжественные, но еще чаще ужасно тревожные часы он отдавал нам все, на что был способен в знаниях, в контроле за нами, в тщательности, в честолюбии и в любви, но также и в капризности, недоверии и чувствительности; мы были призванными, его будущими коллегами, небольшой группой более способных и честолюбивых, предназначенной для высших целей, его усердие и его забота относились больше к нам, чем ко всему остальному классу, но и от нас он ожидал гораздо большего внимания, старательности и желания учиться, а также гораздо большего понимания его и его задачи. Мы, гуманисты, должны были быть не заурядными учениками, позволяющими учителю тащить и волочить себя до предписанного минимума школьного образования, но старательными и благодарными спутниками на крутой тропе, осознающими свое особое место как высокую ответственность. Он хотел бы видеть перед собой гуманистов, которые вынуждали бы его постоянно укрощать и притормаживать их пылающее честолюбие и жажду знаний, школьников, которые бы даже мельчайшую кроху духовной пищи хватали и проглатывали с нетерпением изголодавшихся, тут же перерабатывая ее в потоки новой духовной энергии. Я затрудняюсь сказать, в какой мере тот или другой из нашей маленькой группы греков был в состоянии и хотел соответствовать этому идеалу, но я полагаю, что с остальными дело обстояло примерно так же, как со мной, выделение в разряд гуманистов способствовало развитию некоторого тщеславия, а также некоторого чванства, они воспринимали себя как нечто лучшее и ценное, и из этого высокомерия порой прорастала некоторая обязательность и ответственность; но мы были всего-навсего одиннадцати– и двенадцатилетние школьники и пока мало чем отличались от наших негуманистических одноклассников, и если бы нам предложили выбрать между дополнительными занятиями греческим языком и свободным времяпровождением, то мы, гордые греки, ни секунды не сомневаясь, с восторгом предпочли бы свободу. Несомненно, мы именно так бы и сделали – и все же в наших юных душах содержалось и то, что наш профессор ожидал и требовал от нас столь страстно и зачастую столь нетерпеливо. Что касается меня, то я не был ни умнее, ни зрелее своих лет и от греческой грамматики Коха и чувства достоинства гуманиста меня мог отвлечь куда меньший соблазн, чем рай свободного от занятий времени. И все же иногда и в некоторых пространствах моего существа уже просыпался касталиец и паломник и бессознательно готовил меня стать членом и историографом всех платоновских академий. Иногда, при звуках греческого слова или при вырисовывании греческих букв в моей тетради, испещренной безжалостными поправками профессора, меня озаряло чудо духовной родины и моей принадлежности к ней, и тогда я чувствовал себя готовым без всяких сомнений и побочных желаний повиноваться зову духа и руководству мастера. Таким образом, в нашем глупом чванстве и в нашей действительной привилегированности, в нашей изолированности и в нашей беззащитности перед внушающим страх учителем был все же и луч истинного света, предчувствие настоящего призвания, дуновение чистой сублимации.
Но сейчас, в это безрадостное и скучное школьное утро, когда я, склонившись над своей давно готовой письменной работой, вслушивался в приглушенные шумы помещения и в далекие, веселые звуки внешнего мира и свободы: хлопанье голубиных крыльев, кукареканье петуха или щелканье кнута извозчика, – сейчас казалось, что добрые духи никогда не посещали эту низкую комнату. Следы благородства, сияние духа можно было заметить разве что на утомленном и озабоченном лице профессора, на которое я смотрел тайком со смешанным чувством участия и вины, готовый тут же избежать встречи с ним, если он поднимал глаза от тетрадей. Совершенно не задумываясь и без какого-либо намерения я предавался созерцанию, намереваясь запечатлеть некрасивое, но не лишенное черт благородства лицо учителя в моей детской книжке с картинками, и оно действительно хранилось в ней свыше шестидесяти лет: жидкая челка волос над бледным резко очерченным лбом, несколько увядшие брови со скудными ресницами, желтовато-бледное, худое лицо с необычайно выразительным ртом, умевшим столь ясно выражаться и столь грустно-скептически улыбаться, энергичный, чисто выбритый подбородок. Портрет отложился во мне, один из многих, годы и десятилетия он сохранялся невостребованным в беспространственном архиве памяти, и оказалось, когда однажды пробил час и он понадобился, что он в любой момент может предстать передо мной столь непосредственно и свежо, словно секунду назад передо мной стоял его прообраз. И пока я наблюдал за мужчиной на кафедре, вбирая в себя его страдающие, подернутые страстью, но укрощенные духовной работой и тренировкой черты и запечатлевая их в надолго запоминающемся образе, скучная комната уже не казалась столь скучной, а казавшийся пустым и скучным урок уже не был столь пустым и невыносимым. Наш учитель уже давным-давно покоится в земле, и вполне вероятно, что из гуманистов того года я единственный, кто еще жив, и что я есть именно тот человек, со смертью которого этот образ исчезнет и сотрется навсегда. В то время дружба не связывала меня ни с одним из греков, я был их товарищем лишь короткое время. Об одном из них я знаю, что он давно умер, о другом, что он погиб в 1914 году на войне. О третьем же, который мне очень нравился, и единственном из нас, кто на самом деле достиг нашей общей тогдашней цели, став теологом и священником, я впоследствии узнал лишь отрывочные эпизоды, свидетельствовавшие о его удивительном и своеобразном жизненном пути: он, предпочитавший досуг любой работе и понимавший толк в скромных чувственных удовольствиях жизни, в студенческой корпорации получил прозвище «материя», остался холостяком, как теолог дослужился до деревенского священника, много путешествовал, постоянно получал порицания за упущения по службе, будучи еще молодым и здоровым, подал прошение об отставке и, претендуя на пенсию, вел длительную судебную тяжбу с церковным начальством, начал страдать от скуки (уже мальчишкой он отличался необыкновенной любознательностью) и боролся с ней либо с помощью путешествий, либо просиживая по нескольку часов ежедневно на судебных процессах; где-то к шестидесяти годам он утопился в Неккаре, поскольку пустота и скука совершенно задавили его.
Я испугался и, словно схваченный с поличным вор, опустил взгляд с черепа учителя, когда тот, подняв голову, стал обводить взором класс.
– Веллер, – услышали мы его зов, и Отто Веллер, сидевший в задних рядах, послушно встал у своей скамьи. Его большое красное лицо, словно маска, стало перемещаться над головами сидящих.
Профессор пригласил его к себе на кафедру, сунул ему в лицо маленькую голубую тетрадь и тихо задал несколько вопросов. Веллер отвечал также шепотом и заметно волновался, мне казалось, что он слегка вращает глазами и это придает ему озабоченный и напуганный вид, что было непривычно для него, поскольку он был уравновешенной натурой и обладал такой кожей, которая без вреда могла вынести многое, от чего другим было бы уже больно. Впрочем, у него было своеобразное лицо, которое ни с каким другим не перепутаешь и которому он сейчас придавал озабоченное выражение, совершенно особенное и столь же незабываемое лицо, как и у моего первого учителя греческого языка. В моем классе было тогда несколько учеников, от которых в моей памяти не осталось ни лица, ни имени; уже в следующем году меня отправили в другой город и в другую школу. Но лицо Отто Веллера я и по сей день отчетливо вижу перед собой. Оно запоминалось, по крайней мере тогда, прежде всего из-за своей величины, оно расширялось во все стороны и вниз, поскольку обе стороны подбородка внизу сильно распухли, и эти опухолевые наросты делали лицо гораздо шире, чем оно могло бы быть. Я вспоминаю, как я, обеспокоенный этим, как-то спросил его, что с его лицом, и до сих пор помню его ответ: «Это железы, понимаешь. У меня железы». Но и без этих желез лицо Веллера было достаточно живописным, оно было полным и совершенно красным, волосы темные, глаза добродушные с медленно поворачивающимися зрачками, и, кроме того, у него был рот, который, несмотря на свою красноту, напоминал рот старой женщины. По-видимому, из-за желез он приподнимал подбородок, так что видна была вся шея. Эта поза способствовала тому, что я почти не помню верхнюю часть лица, в то время как разросшаяся нижняя часть, из-за обилия мяса казавшаяся вегетативной и бездуховной, выглядела приятно, доброжелательно и вполне добродушно. Мне он был симпатичен своим диалектным говором и добродушной сутью, и все же я редко общался с ним; мы жили в различных сферах: в школе я принадлежал к гуманистам и сидел рядом с кафедрой, Веллер относился к группе лентяев, сидевших на самых задних рядах; они редко когда могли ответить на вопрос, часто приносили с собой орехи, сушеные груши и другие подобные вещи, вытаскивали их из карманов и ели на уроках и из-за своей пассивности, а также из-за беспрерывных перешептываний и смешков часто становились обузой для учителя. Но и вне школы Отто Веллер принадлежал совсем к другому миру, он жил недалеко от вокзала, то есть очень далеко от моих мест, его отец был железнодорожником, я никогда не встречался с ним.
После недолгого перешептывания Отто Веллер был отослан на свое место, он казался недовольным и подавленным. Профессор встал, держа в руке все ту же маленькую темно-голубую тетрадь, и обвел комнату испытующим взглядом. Его взгляд задержался на мне, он подошел, взял мою тетрадь, посмотрел ее и спросил: «Ты уже закончил работу?» Услышав мой утвердительный ответ, он кивком головы указал мне следовать за ним, подошел к двери, которую затем к моему удивлению открыл, поманил меня наружу и снова прикрыл дверь.
– Прошу тебя выполнить одно поручение, – сказал он и передал мне голубую тетрадь. – Это табель Веллера, возьми его и отправляйся к его родителям. Спроси у них, действительно ли подпись под оценками Веллера поставлена его отцом.
Я вслед за ним еще раз проскользнул в классную комнату, схватил свою шапку с деревянной вешалки, сунул тетрадь в карман и отправился в путь.
Случилось поистине чудо. Во время скучнейшего урока учителя осенила идея послать меня на прогулку, и случилось это прекрасным светлым утром. Одурманенный от удивления и счастья, я не мог пожелать себе Ничего более приятного. Прыжками я одолел обе лестницы с широкими пихтовыми ступенями, услышал монотонный, диктующий голос учителя, доносившийся из другого класса, проскочил двери, спрыгнул с каменного крыльца и зашагал счастливо и благодарно в прекрасное утро, которое только что представлялось утомительно долгим и пустым. Снаружи все было по-другому, здесь не было и следа от скуки и тайной напряженности, которые высасывали жизнь из часов, проводимых в классной комнате, и столь удивительно растягивали их. Здесь дул ветер, и над настилом рыночной площади проплывали быстрые тени туч, стаи голубей вспугивали маленьких собак и заставляли их лаять, лошади стояли, впряженные в крестьянские телеги, и ели сено из деревянных кормушек, ремесленники сидели за работой или переговаривались с соседями через низкие окна мастерских. В маленькой витрине жестянщика все еще лежал грубый пистолет с голубым стволом, стоивший две с половиной марки и уже давно мозоливший мне глаза. Заманчивой и прекрасной была также фруктовая лавка госпожи Хаас на базаре и крошечная лавка игрушек господина Ениша, а рядом с ней выглядывало из окна белобородое и красное лицо медника, соревнуясь в блеске и красноте с блестящим металлом котла, по которому он стучал. Этот всегда веселый и всегда любопытный старый человек редко давал кому-нибудь пройти спокойно мимо своего окна, не заведя с ним разговора или по крайней мере не обменявшись приветствием. И со мной он тоже заговорил: «Неужели твои уроки уже кончились?», и, когда я сообщил ему, что выполняю поручение своего учителя, он участливо посоветовал мне: «Ну, тогда хоть не загоняй себя, до обеда еще долго». Я последовал его совету и задержался на старом мосту. Склонившись над перилами, я смотрел вниз в бесшумно текущую воду и разглядывал стайку ершей, которые расположились в глубине, у самого дна, и казались спящими и неподвижными, на самом же деле незаметно меняясь местами. Их рты были обращены вниз в поисках пищи, и когда они распрямлялись и я мог видеть их в полный рост, то я различал светло-темные полосы на их спинах. Рядом была плотина, которую вода пробегала с нежным светлым журчанием, далеко внизу на острове шумели многочисленные утки. На таком отдалении хлопанье крыльев и кряканье также звучало нежно и монотонно и, подобно потоку воды над плотиной, несло в себе волшебный звон вечности, в который можно было погрузиться и от которого можно было впасть в дремоту и забыться, как летней ночью от шума дождя или как зимой во время бесшумного и сильного снегопада. Я стоял и смотрел, стоял и слушал, впервые за этот день я снова ненадолго оказался в той блаженной вечности, в которой исчезает представление о времени.
Меня пробудили удары церковных часов. Я испугался, опасаясь, что потерял много времени, вспомнил о своем задании. И лишь с этого момента я стал внимательно и с участием вдумываться в это задание и во все, что было с ним 'связано. Теперь уже без задержек я двигался в сторону вокзала, и передо мной снова вставало несчастное лицо Веллера, его перешептывание с учителем, странное вращение глазных яблок и выражение его спины и его походки, когда он медленным шагом и словно побитый возвращался на свою скамью.
Ничего нового не было для меня в том, что человек не всегда бывает одинаковым, что он может иметь несколько лиц, несколько разных выражений и разных манер поведения, это я знал давно и испытал это на других и на себе самом. Новым было то, что эти различия, эту странную и сомнительную перемену от мужества к страху, от радости к мучению оказалось возможным обнаружить также и у него, у нашего доброго Веллера с распухшим от желез лицом и с карманами, набитыми съестным, у одного из сидевших на двух задних скамьях, которых, казалось, совершенно не волнуют школьные дела и которые боятся разве что школьной скуки, одного из товарищей, совершенно равнодушных к учебе и неискушенных в книгах, но зато намного превосходящих нас, как только речь заходила о фруктах и хлебе, о торговле и деньгах и прочих делах взрослых людей – это-то особенно и беспокоило меня теперь, когда я об этом задумался.
Я припомнил одно из его деловых и лаконичных сообщений, которым он еще недавно удивил меня и едва не привел в смущение. Это было на пути к речке, куда мы шли в группе школьников. Спокойный как всегда, он шагал рядом со мной, зажав под мышкой сверток с полотенцем и плавками, и вдруг, приостановившись на секунду, повернул ко мне свое большое лицо и сказал: «Мой отец зарабатывает семь марок в день».
До сих пор я не слышал ни от одного человека, сколько он зарабатывает в день, я даже и не понимал тогда, что на самом деле означают эти семь марок, они казались мне в любом случае весьма приличной суммой, да и он сообщил о ней с удовлетворением и гордостью. Но поскольку козыряние придуманными цифрами и величинами было одним из развлечений среди школьников, я вступил в игру, хотя он, по-видимому, сказал правду. Так же, как отбивают мяч, я бросил ему мой ответ и сообщил, что мой отец зарабатывает в день двенадцать марок. Это было враньем, чистым вымыслом, но меня это ничуть не волновало, поскольку все было чисто риторическим упражнением. Веллер на мгновенье задумался, и когда он сказал: «Двенадцать? Это в самом деле неплохо!», то по его взгляду и тону трудно было понять, насколько он поверил моему сообщению. Он не настаивал на том, чтобы разоблачить меня, он оставил все как есть, я высказал нечто, в чем, по-видимому, можно сомневаться, он принял информацию и не нашел в ней ничего достойного обсуждения, и тем самым он снова оказался выше и опытнее, практик и почти взрослый, и я признал это безо всяких возражений. Казалось, что двенадцатилетний говорит с одиннадцатилетним. Но разве не были мы оба одиннадцатилетними?
Да, и еще одно из его взрослых и деловым тоном произнесенных сообщений вспомнилось мне, сообщение, которое еще больше удивило и потрясло меня. Оно касалось слесаря, чья мастерская располагалась недалеко от дома моего деда. Как я с ужасом узнал из рассказов соседей, этот человек покончил жизнь самоубийством, чего в городе уже несколько лет не случалось и по крайней мере вблизи от нас, в любимых и родных местах моего детства, до сих пор казалось мне совершенно немыслимым. Говорили, что он повесился, но об этом много спорили, люди не хотели просто зафиксировать и забыть столь редкое и большое событие, хотели извлечь из него весь ужас "И страх, и с первого дня кончины бедного слесаря его соседи, служанки соседских домов, почтальоны стали сочинять легенды о бедном мертвеце, обрывки которых доходили и до меня. Но уже на другой день Веллер встретил меня на улице, когда я робко стоял перед притихшей и закрытой мастерской у дома слесаря, и спросил, хочу ли я знать, как это все произошло. Затем он дал мне разъяснение, прозвучавшее в дружеском тоне и показавшееся мне абсолютной истиной: «Он был слесарем и поэтому не хотел брать веревку, он повесился на проволоке. Он взял с собой проволоку, гвозди, молоток и кусачки, пошел по направлению к Тайхелю и дошел почти до лесной мельницы, там он укрепил проволоку между двумя деревьями, тщательно отрезав кусачками лишние концы, и потом повесился на проволоке. Но когда кто-то вешается, понимаешь, то он обычно накладывает петлю у основания шеи и из-за этого у него потом высовывается язык, это выглядит ужасно, и этого он не хотел. Итак, что же он сделал? Он сдавил проволоку не у основания шеи, а протянул ее как можно выше к подбородку, и поэтому язык у него не высунулся. Но лицо у него все равно посинело».
И теперь этот Веллер, столь хорошо ориентировавшийся в мире и столь мало озабоченный своими школьными делами, попал в очень трудное положение. Возникло сомнение, действительно ли его отцу принадлежит последняя подпись в табеле. И поскольку Веллер выглядел столь удрученным и даже побитым, когда возвращался с кафедры на свое место, можно было предположить, что это сомнение было правомерным, а если это так, то это уже не только сомнение, но подозрение или даже обвинение в том, что Отто Веллер сам попытался подделать почерк отца. И только теперь, пройдя через короткое опьянение радостью, и свободой и снова обретя способность ясного мышления, я начал понимать измученный и смятенный взгляд моего товарища и стал догадываться, что здесь разыгрывается фатальная и ужасная история, и тут же пришла мысль, что лучше бы мне вовсе не быть счастливым избранником, которого посылают гулять во время школьного урока. Веселое утро с его ветром и мчащимися тенями облаков и прекрасный радостный мир, по которому я прогуливался, стали на глазах преображаться, моя радость все уменьшалась, и вместо нее меня заполняли мысли о Веллере и его истории, сплошь неприятные и печально настраивающие мысли. Хотя тогда я еще не знал мира и был ребенком по сравнению с Веллером, я все-таки понимал, исходя из благочестивых морализирующих рассказов для школьников старшего возраста, что подделка подписи есть нечто очень плохое, нечто криминальное, один из этапов на пути грешника в тюрьму или на виселицу. И все же наш школьный товарищ Отто был человеком, который мне нравился, доброжелательным и славным парнем, которого я не мог считать отщепенцем, предназначенным для виселицы. Я многое бы дал за то, чтобы удалось подтвердить, что подпись была настоящей, а подозрение – ошибкой. Но разве я не видел его озабоченно-испуганное лицо, разве я не смог заметить, что он был напуган и, следовательно, совесть его была нечиста.
Несмотря на замедленный шаг, я все же приближался к дому, в котором жили одни железнодорожники, и тут мне в голову пришла мысль о том, что, наверное, я смогу что-то сделать для Отто. Я представил себе, а что если я, вовсе не заходя в этот дом, снова вернусь в класс и доложу учителю, что с подписью все в порядке? Едва я об этом подумал, как тут же защемило сердце: впутавшись в эту дрянную историю, я превращусь, если только последую за своей мыслью, из случайного курьера и побочной фигуры в соучастника и совиновника. Я еще больше замедлил шаг, в конце концов прошел мимо нужного мне дома и еще дальше, я должен был выиграть время и еще раз все обдумать. И после того как я представил себе свою спасительную и благородную ложь, на которую уже почти решился, как действительно произнесенную и представил себе ее последствия, я понял, что это превышает мои силы. Я отказался от роли помощника и спасителя не из рассудительности, а из страха перед последствиями. У меня был и другой, более безопасный выход: я мог вернуться и сказать, что у Веллеров никого не было дома. Но, признаюсь, и на эту ложь у меня не хватило мужества. Учитель хотя и поверит мне, но тут же спросит, почему же тогда я отсутствовал так долго. Расстроенный и мучаясь угрызениями совести, я наконец вошел в дом, справился о господине Веллере, и одна женщина указала мне на верхний этаж, там жил господин Веллер, но он находился на службе, и я мог застать только его жену. Я поднялся по лестнице, дом был пустым и мрачным, пахло кухней, едкой щелочью или мылом. Наверху я действительно встретил госпожу Веллер, она торопливо вышла из кухни и спросила, что мне нужно. Но когда я сообщил ей, что меня послал классный учитель и речь идет о табеле Отто, она вытерла руки передником и повела меня в комнату, предложила мне стул и даже спросила, не хочу ли я чего-нибудь, бутерброд или яблоко. Но я уже вытащил табельную тетрадь из кармана, протянул ей и сказал, что учитель просил узнать, действительно ли подпись в табеле сделана отцом Отто. Она не сразу поняла, в чем дело, я должен был повторить все сначала, она слушала меня напряженно, поднеся раскрытую тетрадь к самым глазам. У меня было время рассмотреть ее, так как она очень долго сидела неподвижно, смотрела в тетрадь и не говорила ни слова. Так я разглядывал ее и обнаружил, что ее сын очень похож на нее, только у нее не было желез. У женщины было свежее и раскрасневшееся лицо, но пока она сидела, ничего не говоря и держа в руках тетрадку, я увидел, как это лицо постепенно становится дряблым и усталым, старым и увядшим, проходили тягостные минуты, и, когда она наконец снова опустила табель на колени и снова посмотрела или захотела посмотреть на меня, из ее широко раскрытых глаз скатывались одна за другой крупные слезинки. Пока она держала тетрадь в руках и делала вид, что изучает ее, у нее в голове, как мне тогда показалось, роились такие же представления и возникали такие же печальные и ужасные образы, какие пережил я, представления о пути грешника ко злу и к суду, в тюрьму и на виселицу.
Глубоко подавленный я сидел напротив этой, на мой детский взгляд, старой женщины, смотрел на слезы, катившиеся по ее красным щекам, и ждал, что она скажет. Слишком тяжело было переносить это затянувшееся молчание. Но она ничего не говорила. Она сидела и плакала, и, когда я, не выдержав, наконец прервал молчание и еще раз спросил, сам ли господин Веллер поставил свою подпись в табеле, ее лицо сделалось еще более озабоченным и печальным и она несколько раз отрицательно покачала головой. Я встал, и она тоже поднялась, и, когда я протянул ей руку, она взяла ее и некоторое время держала в своих сильных теплых руках. Потом она взяла злополучную голубую тетрадь, вытерла упавшие на нее слезы, подошла к сундуку, вытащила из него газету, разорвала ее пополам, одну половину положила снова в сундук, другой же аккуратно обернула тетрадь, так что я не отважился снова засовывать ее в карман, а бережно понес в руках.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?